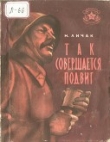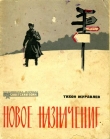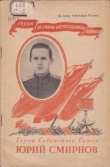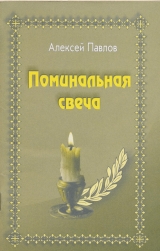
Текст книги "Поминальная свеча"
Автор книги: Алексей Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СИРКО
За сто с небольшим лет до переселения бывших каза– ков – запорожцев на Кубань у их дедов и прадедов в понизовье Днепра ходил в кошевых атаманах легендарный казак Иван Дмитриевич Сирко. Силач, юморист и отменный рубака. Бывало, соберутся казаки На сечевую раду, расшумятся по какому‑нибудь пустячному поводу, не стоящему их внимания, а седоусый, с оселедцем на голове Иван Дмитриевич выйдет на круг и этак ненароком обратится к сподвижникам, выразительно показывая пальцем на свое прокаленное солнцем темечко:
– Хлопци! Та чи вы з глузду зъихалы?
И сразу устанавливалась тишина. Умел он шуткой – прибауткой снять напряжение, а потом тут же перейти на серьезный разговор. Вся низовая Запорожская Сечь любила и уважала своего вожака.
Сирко обладал всеми данными умелого администратора, хозяйственника, дипломата и полководца. В годы его атаманства султанская Турция и ее вассальные крымские ханы, как и во все предыдущие времена, предпринимали большие усилия к тому, чтобы запереть непокорных запорожцев в их узком пространстве, а еще лучше – покорить и заставить служить тараном в борьбе против усиливающегося Русского государства.
Но ни то, ни другое у них не получалось. Сечь, как днепровская вода камень, из года в год подтачивала устои владычества турок на северном побережье Черного моря, готовя окончательное падение и их вассальной вотчины – Крымского татарского ханства.
В зиму 1674–1675 годов турки и крымчаки в очередной раз совершили свой совместный поход против запорожцев. Хитро, обманно двигалось их войско, дабы загулявших на Рождество сечевиков застать врасплох. Им удалось войти даже в центр Коша. Но казаки быстро схватились за оружие и дружным натиском не только выбили врага, но и погнали его вспять. Сирко послал вдогонку неприятелю до двух тысяч своих молодцов. Однако резвым хлопцам так и не удалось настичь уцелевших непрошенных гостей – шибко здорово те удирали от казаков.
По этому и другим случаям вторжения агрессивных соседей в пределы Запорожской Сечи и всей Украины
23 сентября 1675 года атаман Сирко отправил письмо крымскому хану Мурад – Гирею. Письмо выдержано в лучших тонах рыцарства и благородства. Начиная с обращения к адресату и заканчивая пожеланиями добрососедства.
В самом же тексте обширного послания Иван Дмитриевич основательно напомнил хану кое о чем неприятном для супротивной стороны. В том числе о том, как ворвались в Сечь 15 тысяч турецких янычар «с многими ордами крымскими» и о том, чем для них это закончилось.
А далее вообще перечислил массу примеров, как издревле запорожцы в ответ на разбои турок и крымских татар устраивали им добрую взбучку. Начал с похода «по Черному морю» кошевого атамана Самуила Кошки, как в 1575 году «Богданко с казаками Крым воевал и плюндро– вал», а Петр Сагайдачный в 1609 году «заплывши челнами в Таврику… взял в ней знаменитое и крепкое место Кафу», как «року 1621 тож» перед своим атаманством Богдан Хмельницкий «на Черном море воюючи… многие корабли и катарги турецкие опановал и благополучно до Сечи повернулся».
И еще назвал Сирко несколько подобных примеров. Мотай, мол, на ус, хан Мурад, не то, если мы заметим ваши приготовления к войне против Сечи, то «и мы против крымского ханства воевать не убоимся».
Разумеется, столь решительное настроение кошевого атамана и его казаков тут же стало известно турецкому султану Магомету IV. И тот, не долго думая, отправил Сирко безоговорочный ультиматум. Перечислив все свои многочисленные титулы от персонального родства с солнцем и луною до владений царствами Македонским, Вавилонским, Иерусалимским, Великим и Малым Египтом, султан категорически потребовал от запорожцев: «Повелеваю вам, запорожским казакам, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашим спором не заставлять беспокоиться».
Собрав своих помощников, кошевой атаман спросил:
– Шо вы скажете на цию цидулю?
Куренные и писари в один голос:
– Скликать раду.
Собралась рада. И тут казаки в полную меру дали волю своим чувствам. До печенок допекла их султанская наглость. Откуда‑то на просторной площади Коша появился неказистый стол, а на нем чернильница, гусиные перья, стопка рыхлой бумаги. Рада единодушно решила:
– Надо писать наш ответ султану.
За стол по общему согласию воссел самый писучий
запорожец, обладавший веселым нравом и острым языком. Да и подсказчиков ему нашлось немало.
Вот так и родилось знаменитое письмо запорожцев турецкому султану Магомету IV, скрепленное подписью кошевого атамана Сирко. С непревзойденным народным юмором и сарказмом характеризовался возомнивший себя чуть ли не божеством иноземный правитель, в глазах храбрых воинов – запорожцев он выглядел не более, как александрийский козолуп, вавилонский кухарь, македонский колесник и прочая, прочая. В целом – всесветный блазень (глупец).
Ну какой ты в чертях лыцарь, высмеивали казаки своего недруга, если, скажем, простого ежа своим голым задом не пристукнешь. А еще грозишься нам. Да не боимся мы тебя, «плюгавче»! Никогда, мол, тебе, нехристь, не одолеть сынов христианских, если потребуется – казаки дадут тебе достойный отпор.
Оригинальное послание казаков турецкому султану в духе казачьей вольницы, с целым каскадом словесных издевок стало известно в России, оно было переведено на русский, польский и немецкий языки. По белому свету разошлось несколько вариантов письма, в чем‑то текст совпадал, в чем‑то отличался. Но основа, главная его «соль» оставалась неизменной. Таким данный документ и вошел на века в историю запорожского казачества.
Подписавший его атаман Сирко умер 4 мая 1680 года. По сообщению журнала «Русская старина», № 7 за 1873 год, об этом свидетельствовала надгробная могильная плита, обнаруженная спустя почти двести лет после кончины казачьего батька. Она нашлась в огороде поселянина Михаила Прилепы, что проживал в деревне Капуловка у речки Скарбной – притока Днепра. Капуловка была одним из многих имений брата царя Александра И, великого князя Михаила Николаевича.
На надгробном камне были высечены крест, копье и обозначения церковно – славянской вязью, кто под ним упокоен, дата смерти, с такой концовкой: «Да живет вечно память и слава праведника».
Легендарной судьбой Сирко заинтересовались историки Н. И. Костомаров, Д. И. Яворницкий, А. А. Туган – Бара– новский и другие. В 1878 году начал делать наброски к своей будущей знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» великий русский художник И. Е. Репин. Данное письмо казаков в начале XX века в стихотворной форме обнародовал на родном языке французский поэт Гийом Аполлинер.
Как можно с убежденностью утверждать, хлесткое и язвительное письмо запорожцев за подписью Сирко не составило единичного исключения. Сечевикам так понравилось его содержание, что они им еще неоднократно огорошивали басурманов. Уже когда и Сирко не было в живых.
В его пору он и его сподвижники прорывались к Черному морю на своих легких лодках – «чайках». И, потрепав за набеги крымчаков и турок, с добычей возвращались в Кош. На их пути большим препятствием были турецкие укрепления, возведенные в низовьях Днепра – Тавань и Кизи – Кермен. В последнем через реку даже тяжелую цепь турки протянули, дабы закрыть водный путь казакам. Запорожцев преграда раздражала, но они все же ее преодолевали.
Тот же Сирко со своей буйной ватагой не раз пересекал барьерный рубеж и устремлялся к Черному морю. В 1669 году он прошелся по его северному побережью, разрушил оплот турок в Очакове, откуда они постоянно совершали нападения на Украину, а в 1675 году возглавил совместный поход запорожцев и присланных Москвою донских казаков и черкесов, в ходе которого им удалось крепко наддать крымско – татарским ордам за их опустошительные набеги на украинские и русские селения.
Сирко тогда доложил русскому царю об операции сдержанно, но выразительно:
«Мы вместе… будучи в Крыму, немалую часть неприятельскую, против нас изготовившуюся, разбили, души христианские освободили от неволи».
В 1679 году, за год до смерти, Сирко вновь возглавил запорожскую рать в ее движении к устью Днепра, дабы ликвидировать новые укрепленные сооружения турок, препятствовавшие водному проходу казаков к Черному морю. И эта операция завершилась успешно.
В 1795 году, уже после Сирко, запорожцы во взаимодействии с русскими войсками взяли с бою Тавань и Кизи– Кермен. Это страшно рассердило турецкого султана. И он бросил крупные силы на отвоевание потерянных укреплений.
Как ни бились турки и крымчаки – взять обратно городок Тавань не смогли. На его защите стояли 700 казаков Лубенского полка и стрелецкий полк московского полковника Ельчанинова. От тщетных атак турки перешли к иной тактике. В стан обороняющихся от них из лука полетела стрела с запиской:
«Мы с вами исстари друзья, для чего же сражаетесь за сей город и умираете за Москву».
Предлагали сдаться, прислать о том свою записку к желтому знамени у турецкого командного шатра. Казаки промолчали. И тогда новая стрела принесла запорожцам угрозу: «Да будет вам известно, что всеми землями обладает султан и Тавань – его город. Если вам милы здоровье и свобода, сдайте нам город без повреждения, а не то – нам помогут единый Бог и его пророк Магомет, мы возьмем Тавань и всех вас изрубим».
Командующий турецкой армией и отрядами крымских татар Али – паша в случае сдачи города обещал командному составу гарнизона по одной тысяче левков, а рядовым – по шесть левков. Запорожцам даже сулил предоставить транспорт для выезда с поклажей и амуницией на Украину.
Но никто из запорожцев и воинов регулярных войск на приманку не клюнул. Казаки собрались на раду и почти в той же редакции, что и при Сирко, утвердили новый ответ турецкому султану, в котором напрочь отвергли ультиматум его ретивых вояк.
«Войско твое поганое, безмозглое, шкаредное», – клеймили позором султана казаки – запорожцы. И далее высказывали свою решимость разбить хвастунов и брехунов турецких, если они не откажутся от своих замыслов. Ну, и конечно, самому султану выдали аттестацию в предельно саркастическом духе. В том самом, какой в свое время благословил и засвидетельствовал своей подписью незабвенный Сирко в письме Магомету IV.
Посовещавшись, запорожцы все‑таки смягчили текст, сделали его более сдержанным:
«Мы, старшины войска Запорожского и Московского, городовых и охотных полков, читали ваше письмо, в котором вы нас стращаете пророком и саблями. Мы на вас, басурманов, не походим, ложным пророкам не верим, надежду возлагаем на Бога и Матерь Пресвятую. И наши сабли еще не заржавели, и наши руки еще не ослабли, хлеба и воинских припасов у нас достаточно, вы города не возьмете, но погибнете – удержитесь от лжи и угроз… Мы не сдадим города, мы ждем помощи, да и без помощи готовы идти на вас, басурманов, за веру христианскую и за царя восточного, надеемся на победу с нашей стороны и на поношение с вашей».
Стиль письма уравновешен, а подтекст – тот же, легендарного Ивана Сирко и его кошевого братства!
Взъяренные ответом турки 28 сентября 1697 года ринулись на приступ Таваня. И вновь с большим уроном были отбиты. А когда узнали, что на помощь осажденным спешит со свежими силами полтавский полковник И. И. Искра (оболганный позднее гетманом – предателем Мазепой и казненный вместе с Кочубеем), руководитель осады Али – паша в великом испуге «сел на суда и уплыл восвояси».
На долгие времена вселил Иван Сирко тягу казаков к ядреным писаниям своим недругам, но и само собой – крепкую волю к их предметному вразумлению.
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ ПРИБОЙ
Когда по всей Новой России прокатилась молва о предстоящем переселении бывших запорожских казаков на пожалованные таманские и кубанские земли, она захватила умы и сердца не только их самих, но и представителей различных сословий и народов, населявших прилегающие великорусские и малороссийские губернии и наместничества. В реестровые черноморские казаки хотелось зачислиться многим, но не всем удавалось это сделать. Отбор шел строгий, на переселение поначалу включались лишь те, кто действительно когда‑то служил в Запорожской Сечи, а после ее упразднения уже в составе Черноморского волонтерского формирования принимал участие в последних войнах с Оттоманской Портой.
Вроде, скажем, такого настойчивого просителя, как бывший казак куреня Шкуринского Давыд Великий, представивший на имя черноморских «батькив» 3. Чепе– ги и А. Головатого следующую челобитную: «Служил я в бывшем войске Запорожском казаком двадцать лет. И был в минувшую с турком… войну… в походах, во время разрушения Сечи отбыл я из оной в Харьковскую губернию… в местечко Тарановку».
И далее Давыд ребром ставил вопрос: «Я имею к службе ревность и желаю в войске Черноморском навсегда ее продолжать. То прошу и о выводе моего семейства.»
С водворением первых 25 тысяч душ черноморцев мужского и женского пола в необжитых пределах сразу выявилась явная нехватка казачьего населения для несения опасной кордонной службы и хозяйственного освоения края. Когда, например, таврический губернатор летом
1793 года предложил войсковому правительству ежедневно выделять на строительство Фанагорийской крепости по три тысячи человек, кошевой атаман 3. А. Чепега забил тревогу перед высшими санкт – петербургскими инстанциями, указывая на то, что задание нереально, ибо на Тамани в это время одних увечных и «крайне престарелых» черноморцев насчитывалось до 800 человек, столько же казаков несли охрану рубежей на Кизилташе, 770 «бада– лись» на заработках по войсковой земле, 119 находились «в раскомандировании» по выводу своих семейств «на сию землю». И наличествовало на все про все 1497 человек, из коих постоянно отвлекалось по 200 человек на «избереже– ние и починку гребной флотилии».
Потребность в людях ощущалась во всей империи. Особенно на ее окраинах. В целях скорейшей концентрации производительных сил и охраны рубежей государства Павел I издал указ о заселении сибирского края отставными солдатами, крепостными крестьянами и всякого рода преступниками, исключая лиц, осужденных на каторжные работы.
Это, вероятно, в немалой степени ослабило и внутренние запоры Черномории: сюда, в ее открытые шлюзы, хлынул сначала единичный, а затем и массовый людской поток. На веленевой бумаге, с витиеватыми завитушками, накатал на имя императрицы Екатерины II прошение о зачислении в Черноморское войско рядовым казаком ка– кой‑то канцелярист – волжанин не робкого десятка Василий Петров, в отличие от него тайно, со всеми предосторожностями, дал тягу в Черноморию от екатеринославс– кого помещика подневольный крестьянин Михаил Яковлев (он же Сердюченко), владевший искусством живописца. Нащупав следы беглеца в черноморской войсковой церкви, разгневанный хозяин требовал немедленного его возвращения, не соглашался даже на получение компенсации за своего человека и в тысячу рублей, ибо он был «мастерству обучен».
Во многих случаях, когда домогательства помещиков по поимке и возврату их крепостных ставили войсковую канцелярию в затруднение, отсюда в ответ следовала испытанная мудрая отписка, что среди черноморцев они «хо– чай может быть и есть, но таковые не сыскуются».
Случайный, неорганизованный приток населения, низкая деторождаемость, большой дефицит молодых семей в первые восемь лет после заселения Кубани и Тамани мало
что изменили в их демографическом составе. Черномория имела в 1801 году лишь два города, 42 куреня, в которых насчитывалось около 2800 дворов и проживали 32609 душ обоего пола. Причем женского было 28 процентов. Пока еще по обычаю Запорожской Сечи главный житель края был воин – казак и неимущий поденщик – сиромаха. Особенно много было забродчиков – сиромах на рыбных промыслах. Одинокие бездомовные казаки составляли основной контингент войска, занаряженный на кордонную службу.
В 1794 году от Усть – Лабинской крепости потянулась новая цепочка селений в направлении старой Кавказской линии. После драматических перепитий сюда пожелали переехать 4700 душ обоего пола из Донского казачьего войска и 800 выходцев из Малороссии. На каждую их семью выдавалось по 20 рублей и четыре четверти ржаной муки, гарантировались некоторые другие льготы. При заселении станиц предусматривалось возведение в каждой из них православной церкви, на что казною ассигновалось по 500 рублей.
Так поселенцы обосновались при крепостях Усть – Ла– бинской, Кавказской, Григориполисской, Темнолесском ретрашменте, Прочноокопском и Воровсколесском редутах. Из них образовался Кубанский полк, принявший на себя охрану границы по среднему течению Кубани. Трудна и опасна выпала людям доля, но они не унывали, быстро привыкали к новой обстановке. И это стало побудительным мотивом для переселения на Кубань очередных желающих с Дона и из Малороссии.
Ходатаем по переселению выступил энергичный казак Кузьма Рудов, испросивший разрешение у сената на переезд 3300 донцов в границы Кавказской кордонной линии. В 1802 году он привел поселенцев на редуты Ладожский, Тифлисский, Казанский и Темижбекский.
– Вот здесь и будем жить и границу сторожить, – благословил он своих земляков на хозяйственные и ратные труды.
Из этих селений образовался Кавказский казачий полк, возглавленный боевым есаулом Л. И. Гречишкиным, местом жительства и штабной резиденцией которого стала станица Тифлисская (Тбилисская).
Спустя два года в этот полк со Слободской Украины прибыли еще 378 казаков некогда существовавшего Ека– теринославского войска. Они основали станицу Воронежскую. Так от впадения Кубани в море до Темижбека и даль
ше сомкнулась оборонительная полоса, занятая черноморцами и казаками – линейцами.
И все равно проблема охраны границы и хозяйственного освоения природных богатств края оставалась открытой, требовались новые и новые партии новоселов, чтобы двинуть вперед созидательную деятельность.
И тогда более интенсивно последовали переселенческие волны одна за другой: в 1809–1811, 1821–1825, 1845–1850 годах… Разумеется, переселенческий прибой не прекращался и в ш^ледующее время. Но названные выше переселения были официально санкционированными и массовыми, проходили под наблюдением правительственного аппарата. А обстановка им сопутствовала не самая лучшая: шла затяжная Кавказская война, в которой с обеих сторон проявлялись жестокость и нетерпимость, обернувшиеся большими человеческими жертвами.
Согласно царскому указу от 17 марта 1808 года, первым массовым переселением на Кубань предусматривалось охватить 25 тысяч душ мужского и женского пола на добровольных началах, по преимуществу из поселян Черниговской и Полтавской губерний. По принципу: выводить на переселение такие семьи, у которых «было более девок и вдов, могущих еще вступать в брак». В Черномо– рии главам семей полагалось освобождение от кордонной службы в течение трех лет, выдавались денежные, семенные и иные ссуды на обзаведение хозяйством, по установленной норме бесплатно выдавалось продовольствие. У кого не имелось тягла и транспортных средств, тому перед отъездом оказывалась помощь в приобретении волов, лошадей, повозок.
В июне 1809 года в путь двинулась первая партия поселенцев.
Общее их число намного превышало расчетное количество. Потирая ладонями крупные залысины на поседевшей голове, наказной атаман Федор Бурсак страдальчески морщился:
– Никуда не денешься, принимать людей надо, сам выпрашивал побольше новоселов.
И он помчался улаживать их расселение в Сергиевском, Уманском, Щербиновском куренях. Затем последовало размещение вновь прибывших в куренях Кущевском, Кисляковском, Брюховецком, Переясловском, Васюрин– ском, Каневском, Минском, Березанском, Леушковском,
Батуринском, Деревянковском. Всего до 8 ноября прибыло 10,5 тыс. душ мужского и 9,3 тыс. душ женского пола.
Великий аврал закипел в степи. Кто‑то строил землянки и хаты, кто‑то покупал готовые халупы. Но так или иначе люди обзаводились крышами над головой, начинали новую жизнь. В подворьях множилась живность – скот и птица.
За три года с Полтавщины и Черниговщины перебралось на Кубань свыше пятидесяти партий переселенцев общим числом 41,5 тыс. человек.
Они расселились в 43 куренях. Причем весьма неравномерно. Скажем, в Динском курене оседлость обрели 101 душа, в Платнировском – 72, в Старо – Титаровском – 51.
Кстати, на эти годы пришлось немало перемещений самих населенных пунктов. Например, курень Брюховецкий перекочевал с вершины реки Малый Бейсуг к устью реки Бейсужок, Деревянковский – с реки Ея на реку Чел– бас, новые места заняли курени Пластуновский и Динс– кой; располагавшийся ранее от Екатеринодара в семи верстах курень Величковский ушел на пятьдесят верст к северо – западу, Тимашевский – туда же, интервал увеличился с 14 до 60 верст. Так было и с рядом других селений. По причинам разным, но чаще всего обоснованным, с учетом тогдашних обстоятельств.
С самого прихода черноморцев особняком стояло заселение урочища Гривенское. Тут, в протоцких плавнях, образовался своего рода кубанский разноязыкий Вавилон, можно сказать, вольница. С ближайших казенных и частных рыбозаводов сюда бежало много черноморских заб– родчиков – сиромах, из турецких владений в Анапе – масса недовольных черкесов, ногаев, татар, армян и представителей других народов. Поселение Гривенское переплавляло характеры людей в малопочтительном духе по отношению к официальным властям, не слишком‑то обременяло себя религиозными постулатами, поощряло смешанные браки. Долгое время тут не было даже простенькой православной церквушки, о чем слезно сокрушался предшественник Бурсака Тимофей Котляревский. По его словам, сиромахи Гривенского не спешат с устройством храма, жили без оного и «до си живут». За счет пришлого люда селение разрасталось с каждым годом. И одним из его самых примечательных жителей начала XIX века стал черкес Пшекуй Бесланович Могукоров. В составе русской армии от младшего унтер – офицера он дослужился до ге
нерала, проделал вместе с ней немало боевых походов, принял деятельное участие в приеме новых поселенцев Черномории, когда начался второй виток их переезда из тех же губерний Украины.
Вопрос о новом переселении возник в 1820 году, когда Черноморское войско из подчинения херсонскому генерал – губернатору перешло в ведение командующего отдельным Кавказским корпусом. А им в тот момент был генерал А. П. Ермолов. И он сам, и чиновная бюрократия хлопотали изрядно, однако переселение происходило значительно хуже, чем десятилетие назад. Предписаниями устанавливалось: «Новым из Малороссии переселенцам дать льготу трехлетнюю, но самобеднейшим из них… можно несколько и продолжить оную». Строгий командующий, осмотрев войсковой конный завод и найдя необходимым полностью его реорганизовать, распорядился: «Остающихся степных жеребцов, меринов и кобыл раздать беднейшим из новоприбывших из Малороссии переселенцам».
Первая же партия новоселов прибыла в Кущевский курень 30 августа 1821 года. До наступления очередного года всего перебралось на новое место жительства 5300 семейств, насчитывавших более 30,3 тыс. душ обоего пола. Их передвижение совершилось на 10875 подводах, с собой переселенцы перегнали 22395 голов гулевого скота. В 1822 году переезд начался с апреля и продолжался до ноября, прибавилось еще 3150 семей (17061 человек). У них было 4670 подвод и 6805 голов гулевого скота. Если в 1821 году среди прибывших насчитывалось 42 неимущих семьи, то теперь число их возрасло до 58. Это как раз тот контингент, о котором сам Ермолов сказал, что данные переселенцы «находились в ужаснейшей бедности».
За пять лет примерно поровну из той и другой губерний Малороссии переселились 48392 человека. Их размещение состоялось в 37 ранее основанных куренях и 18 новых пунктах, отведенных под заселение. И без того трудная участь новоселов осложнилась неурядицами в получении обещанной помощи, но особенно крепко ударили по ним неурожайные годы. В 1821 году на поля налетела саранча, поела не только хлебные посевы, но и кормовые травы. Войсковая канцелярия вынуждена была выделить для закупки продовольствия переселенцам 60 тысяч рублей. Да еще на обзаведение хозяйством от казны требовалось содействие, ибо у двух тысяч семей еще не имелось никакого жилья.
В числе новых поселений возникли тогда станицы Петровская и Павловская, Ново – Величковская, Ново – Леушков– ская, Ново – Минская, Ново – Деревянковская, Ново – Щерби– новская и ряд других, по преимуществу с корневыми названиями ранее образованных черноморских куреней. После данного переселения Черномория стала насчитывать 62717 лиц мужского и 49818 лиц женского пола.
Ко всем ее жителям, в том числе к новоселам, предъявлялось требование, чтобы при устройстве хуторов число дворов в них было не менее двадцати. И мотивировка выдвигалась: так легче и быстрее можно закладывать сады, оборудовать колодцы, ставки, копани, рвы и заграждения.
Но, пожалуй, наиболее щепетильно войсковая канцелярия и куренные атаманы относились к пополнению женского населения. Тут меры принимались решительные. Ирклиевский смотритель Хмара подал в Екатеринодар тревожный сигнал: так, мол, и так, из наших мест девиц замуж уводят. И куда? За пределы Черномории, по всей Кавказской линии, это‑де непорядок. Сначала наказной атаман Матвеев, затем атаман Власов круто взялись за стопор. От Власова последовало распоряжение: никаких девиц из войска без «письменных видов» не пропускать, особенно в ночное время.
В 1824 году с поручиком Навагинского полка Потаповым из‑за такого ограничения произошла целая скандальная эпопея. Находясь на постое в ст. Пластуновской, присмотрел он себе молодую казачку и по окончании командировки решил увезти ее с собой. Не тут‑то было! Местный блюститель порядка приказал отобрать у офицера его кралю. Тот чуть было саблю в ход не пустил. И все‑таки отстоял право на создание семейной пары.
– Ладно уж, езжай, – сдался наконец войсковой старшина Похитонов, особенно усердно препятствовавший соединению двух молодых сердец.
В одном из источников колоритно повествуется, как ревниво казаки относились к выбору переселенок себе в жены. Обычно после их прибытия девичий и вдовий контингент галантно приглашался на станичную площадь и там происходило его прилюдное распределение. По– приглядистее, помоложе доставались ловким да богатым казакам, а те, что поскромнее, с какими‑нибудь внешними недостатками, составляли пары малоимущим соискателям уз Гименея.
По поручению атамана кто‑либо из уважаемых стар
шин вежливо брал под локоток зардевшуюся молодайку и выводил ее на круг, поближе к станичному батьке.
– Кому в супруги нужна? – вопрошал тот оживленно настроенную казачью громаду.
Все взоры – на переселенку. Кому понравилась, пришлась по душе – претендент забирал ее с площади, и спустя некоторое время в церкви происходило венчание новобрачных. И так до тех пор, пока вся молодая приезжая женская половина не расходилась по казачьим подворьям. Иной раз среди менее удачливых женихов и сетования слышались:
– А мне рябая досталась.
Или:
– Хороша баба, да норовистая.
После очередной войны с Турцией в 1828–1829 годах, изгнания ее войск из Анапы, по Адрианопольскому мирному договору открылась возможность основать за Кубанью несколько новых станиц. Сюда приглашались казаки– черноморцы и донцы. Но большинство из них уже закрепилось в своих куренях, желающих не нашлось. Тогда к Варениковской пристани и в ближайшие окрестности потянулись все, кто хотел. Вскоре здесь возникли станицы Благовещенская, Николаевская, Суворовская, Александровская. В начале сороковых годов за Лабой на месте бывших крепостей и сторожевых постов были основаны станицы Вознесенская, Лабинская, Чамлыкская, Урупская. Сюда населились выходцы со старой Кавказской кордонной линии.
В 1848–1850 гг. последовало третье массовое переселение. На этот раз в Екатеринодаре был создан специальный временный комитет по его проведению, а непосредственно в главных пунктах рассредоточения вновь прибывших – Таманский и Ейский окружные переселенческие комитеты, располагавшиеся соответственно в Полтавском и Уманском куренях. Председателем первого из них был полковник Пшекуй Могукоров, а второго – будущий наказной атаман Я. Г. Кухаренко.
В Таманском округе к размещению новоселов отводились семь старых куреней – Таманский, Вышестеблиевс– кий, Старо – Титаровский, Ахтанизовский, Темрюкский, Ма– рьянский и Елизаветинский, а в Ейском – Крыловский, Уманский, Павловский, Кущевский, Ново – Леушковский, Калниболотский и Екатериновский. В Ейском округе основывались две новые станицы – Должанская и Камыше – ватская, по названию песчаных кос, что вдаются в Азовское море. Сюда переселилось четыреста семейств при 1200 душ мужского пола.
Первые переселенцы появились на сборном пункте в станице Старо – Щербиновской в середине июня 1848 года. Их приезд совпал с началом холеры в Черномории. Это вызвало немало дополнительных трудностей.
Командующий Кавказской линией Н. С. Заводовский слал письменные распоряжения о ликвидации болезни и преодолении хозяйственных неурядиц, но не подкреплял их реальной помощью. Не хватало медицинского персонала и лекарств, продовольствия, одежды и обуви, из‑за чего все население и особенно переселенцы испытывали тяжкие невзгоды. Немало их умерло.
В тот год из Харьковской губернии переселилось 189 семей (1356 душ обоего пола), Черниговской – 830 семей (6663 души), Полтавской – 591 семья (3990 душ), всего 1610 семейств, или более 12 тыс. душ обоего пола. В следующем году переселились 270 семей, или 2218 душ обоего пола, остальной прирост дал 1850 год. В целом государственная казна выплатила переселенцам 35 тыс. рублей, или по 17 рублей на семейство.
На 1 сентября 1851 года из всех переселившихся новые дома купили 264 семьи, построили сами – 1301 семья, начали строительство – 293, а остались вовсе без жилья 122 семьи. В виду тяжелых условий жизни у переселенцев не только не наблюдалось прироста, напротив, была зарегистрирована убыль из‑за смерти 900 душ. По этой части лидировали станицы Калниболотская, Ахтани– зовская, Елизаветинская.
В целом же народонаселение росло. В 1850 году общее население составило 153444 души, а в 1860 году – 177424. Иначе говоря, за десятилетие его прибавка достигла 23980 душ. При этом в черноморском населении почти уравнялось соотношение полов: мужчин стало 50,9 процента, женщин – 49,1 процента. Желанный баланс был достигнут.