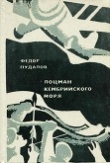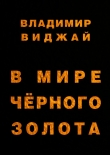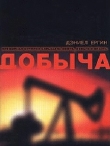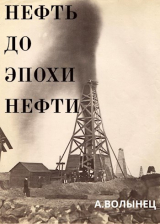
Текст книги "Нефть до эпохи нефти. История "чёрного золота" до начала XX века (СИ)"
Автор книги: Алексей Волынец
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Глава 28. От керосина до бензина – как XX век превратил нефть из источника света в энергию моторов
Когда в XIX столетии начиналась промышленная добыча черного золота, нефтепродукты использовали в основном для освещения. Именно керосин и керосиновая лампа породили современную нефтепромышленность. Но к концу того века у нефти в сфере освещения появился мощный конкурент – электричество.
Удобная лампа накаливания грозила положить конец «царству керосина». Если в 1885 году в США было произведено 250 тыс. электроламп, то в 1902 году – уже 18 млн. Зазвучали даже предположения, что электричество вскоре похоронит нефтяную промышленность. Однако стремительный технический прогресс на рубеже XIX–XX веков, отобрав у нефти значительную долю рынка освещения, подарил ей новые, куда более перспективные области применения.
Еще в 1866 году русский инженер Александр Шпаковский изобрёл первые в мире «форсунки», позволяющие в топках пароходов использовать вместо угля нефть и нефтепродукты. Вскоре на Каспии и Волге появились первые корабли, использовавшие в качестве топлива дешевую продукцию бакинских промыслов, а к началу XX века нефтепродукты в качестве топлива для кораблей стали активно использовать военные.
Крейсер с полным запасом нефтяного топлива мог находиться в плавании 30 дней, тогда как полного запаса угля того же объёма ему хватало всего на 5 суток. Качественный керосин был и безальтернативным топливом для нового, только что появившегося вида боевых кораблей – подводных лодок. В 1908 году «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» за 36 тыс. руб. продало для подлодок военного флота России первую партию в 328 тонн керосина.
К 1913 году уже 11 % всех кораблей на планете перешли с угля на нефть и нефтепродукты. Не случайно именно в том году, выступая в парламенте, первый лорд британского адмиралтейства Уинстон Черчилль заявил, что «Великобритания должна поставить нефть в основу своего господства на море».
Однако у огромных флотов и больших кораблей в деле потребления нефти к тому времени уже вырос новый конкурент – автомобиль. Ещё в 1885 году немецкие инженеры Даймлер и Майбах создали первый эффективный образец двигателя внутреннего сгорания, работающего на «петролейном эфире», как в то время называли бензин. Изначально бензин использовался в качестве топлива для примусов, господствовавших на домашних кухнях до эпохи газовых и электрических плит.
Первые автомобили считались курьёзом и развлечением, но с приходом XX века автомобильная промышленность явила стремительный рост. В 1904 году на планете было произведено почти 40 тысяч автомобилей всех марок и типов, а в 1910 году – уже 324 тысячи. В США с 1911 года подконтрольные «Стандард Ойл» Рокфеллера нефтеперерабатывающие заводы стали производить бензина больше, чем керосина.
Во втором десятилетии XX века мировой автопром рос в прогрессии. Например, в США количество автомобилей на дорогах с 1911 по 1921 годы увеличилось на порядок – с 900 тыс. до 9,5 млн. За то десятилетие нефтедобыча в США выросла на 191 %, а количество автомобилей – на 1257 %.
Первый в мире по-настоящему массовый автомобиль Ford Model T, выпускавшийся знаменитым Генри Фордом, имел внушительный расход топлива – около 18 литров на 100 км. Машин только этой марки к 1921 году было продано более 5 млн. экземпляров – так автомобиль стремительно превратился в важнейшего потребителя нефтепродуктов.

Ford Model T
Производители «чёрного золота» могли уже не опасаться за будущее, глядя как керосин вытесняется электричеством – все потери компенсировал стремительно растущий спрос на бензин. К 1925 году на планете использовалось более 18 млн. автомашин, а годовое производство превысило 4 млн. единиц. Если в 1909 году во всём мире бензин составлял лишь 10 % от всех продуктов переработки нефти, то в 1925 году – уже более 35 %. Доля керосина за это же время сократилась в шесть раз.
Показательно, что именно тогда, на фоне стремительного роста автопрома и потребления бензина, прозвучали первые опасения, что нефти может не хватить. В 1920 году газеты США сообщили читателям, что по прогнозам ученых черное золото на планете закончится через 18 лет…
Глава 29. Первые битвы за нефть: в 1914-18 годах «чёрное золото» впервые становится целью боевых операций
В разгар Первой мировой войны, министр по делам колоний Британской империи Уолтер Лонг заявил в парламенте: «Джентльмены, вы можете располагать людьми, оружием и деньгами, но все ваши преимущества мало чего стоят, если у вас нет нефти…»
Именно Первая мировая стала и первой войной за нефть. Уже осенью 1914 года за нефтяные источники сражались турецкие и английские солдаты на берегах Персидского залива, а также русские и австрийские солдаты на склонах Карпат.
«Англо-Персидской нефтяной компании» (будущей British Petroleum) удалось силой штыков отстоять своё чёрное золото – в конце 1914 года британские войска отразили наступление турецкой армии на иранский Абадан с его нефтяными полями, а затем отбили у турок на территории современного Ирака порт Басра, откуда до начала войны шёл в Англию весь экспорт иранской нефти.
Именно тогда добытая в Персидском шахстве первая ближневосточная нефть стала заметной на мировом рынке и в мировой политике. С 1914 по 1918 годы добыча иранской нефти выросла в 11 раз, обеспечив значительную часть топлива для могущественного британского флота. Тогда же чёрное золото впервые стало целью военной диверсии – резидент германской разведки на берегах Тигра и Евфрата капитан Фриц Кляйн 22 марта 1915 года взорвал британский нефтепровод, уничтожив 290 тыс. тонн нефти.
Первые битвы за чёрное золото шли и на Европейском континенте – осенью 1914 года войска России заняли австрийскую Галицию, где ежегодно добывалось более миллиона тонн нефти. Трофеем русской армии стал крупнейший в Восточной Европе перегонный завод в Дрогобыче, на котором до войны перерабатывалось 54 % всей нефти Австро-Венгерской империи.
Когда же германские и австрийские войска начали контрнаступление, то русское командование 27 апреля 1915 году издало приказ об уничтожении всех нефтяных вышек и запасов черного золота Галиции. Было сожжено 350 тыс. тонн сырой нефти – для Берлина и Вены это был страшный удар, ведь ровно столько до войны ежегодно потребляла вся экономика Германии. Уничтожение русскими войсками галицийских нефтепромыслов стало первым в истории примером массового разрушения энергетики противника со стратегическими последствиями.
Второй такой удар прогремел в конце 1916 года на территории Румынии. Правящая в Бухаресте немецкая династия Гогенцоллернов в течение первых двух лет мировой войны сохраняла выгодный нейтралитет. На территории страны тогда ежегодно добывалось почти 2 млн тонн нефти – нейтральные румыны с огромной прибылью полностью продавали её окружённой враждебными фронтами Германии, а для себя закупали дешевую бакинскую нефть из Российской империи.
Но летом 1916 года Бухарест, желая получить кусок Венгрии, всё же вступил в войну на стороне Антанты. Один из высших руководителей Германии генерал Эрих Людендорф тогда заявил: «Мы не сможем существовать и выиграть войну без румынской нефти». Немцы подготовили наступление и уже осенью 1916 года быстро разгромили слабые румынские войска, начав стремительное продвижение вглубь страны к её богатым нефтяным полям.
На экстренном заседании правительства Британской империи решили любой ценой не допустить перехода румынской нефти в руки Германии. Из Лондона, через Мурманск и половину России, в Бухарест срочно отправилась небольшая группа британских военных инженеров во главе с майором Джоном Нортоном-Гриффитсом. Майор был известен в британский войсках по прозвищу «Адский Джек», специализируясь на подрывах вражеских укреплений подземными минами.

Джон Нортон-Гриффитс, он же «Адский Джек»
В Румынии «Адский Джек» организовал массовое уничтожение нефтепромыслов – с 26 ноября по 5 декабря 1916 года взорвали 70 заводов и сожгли 800 тыс. тонн нефти. Планы Берлина на румынское чёрное золото рухнули: добычу смогли начать только через пять месяцев, она составила лишь треть от довоенного уровня. Ущерб немцы оценили в полмиллиарда золотых марок (порядка 8 млрд долларов сегодня), а британское правительство наградило «Адского Джека» высшим орденом Бани – это стало первым в истории человечества награждением за диверсию против нефти.

Значение нефти к тому времени было настолько велико, что кайзер Вильгельм II со свитой и члены императорского штаба не побрезговали лично осмотреть восстановленные румынские нефтепромыслы осенью 1917 года…
Глава 30. Царская нефть в мировой войне
Нефтяная промышленность Российской империи в 1914-17 годах
С 1914 года Россия оказалась в состоянии войны с Германией, Австро-Венгрией и Турцией – до начала конфликта на эти страны приходилась почти треть всего российского экспорта чёрного золота. По статистике 1913 года будущие противники потребили свыше 278 тыс. тонн нефтепродуктов из России.
С началом войны экспорт значительно сократился, что вызвало резкое падение внутренних цен. Если в августе 1914 года тонна бакинской нефти стоила 26 рублей, то в декабре – всего 13. Однако уже в январе 1915 года цены вернулись к довоенному уровню, а в феврале превысили его в полтора раза.
О том, что нефть тоже является оружием, правительство Российской империи задумалось лишь на девятом месяце всемирного конфликта. По предложению военного министра Владимира Сухомлинова только 20 апреля 1915 года экспорт нефтепродуктов в Швецию и Норвегию был запрещён. Глава военного ведомства мотивировал решение данными разведки, которая докладывала о состоявшейся в нейтральном Стокгольме встрече германского посла с Эммануилом Нобелем, главой товарищества «Братья Нобель», крупнейшей нефтяной корпорации России. По итогам этой встречи Нобели запросили у царского правительства разрешения импортировать в Швецию 370 тысяч пудов нефтепродуктов.
Как писал военный министр: «Возникли основательные опасения, что означенные весьма ценные для отечественных нужд продукты могут попасть в столь значительном количестве в воюющие с нами государства». До весны 1915 года Нобель, имевший крепкие семейные и коммерческие связи в Швеции, успел перепродать через нейтральный Стокгольм в воюющую Германию, как минимум, 130 тыс. пудов произведённых из нефти смазочных масел, критически важных для функционирования тяжелой промышленности. Предъявить личные претензии крупнейшему коммерсанту в правительстве Российской империи так и не решились.

По мере затягивания мировой войны пришлось не только взять под контроль экспорт чёрного золота, но и нефтяные цены внутри страны. В последний день 1915 года появилось решение правительства о «предельных продажных цен на нефть». Согласно этому документу в Баку тонна нефти не могла продаваться дороже 27 рублей 53 копеек, в Москве – не дороже 55 руб. 39 коп, а в Петрограде – 58 руб. 75 коп.
Буквально накануне революции, 16 февраля 1917 года властям империи пришлось повысить «предельные продажные цены» – отныне в местах добычи нефть не могла продаваться дороже 36 руб. 72 коп за тонну, соответственно на треть выросли и цены чёрного золота по всей стране. Вскоре после февральской революции уже временному правительству придётся увеличить «предельные цены» еще на 60 %.
Подорожание было вызвано назревавшим кризисом нефтедобычи – уже осенью 1914 года всеобщая мобилизация в армию лишила бакинские и грозненские промыслы трети рабочих рук. Никаких льгот и отсрочек от призыва нефтяникам тогда не полагалось, и под призыв попали наиболее квалифицированные и опытные специалисты. Перевод тяжелой промышленности на производство оружия и блокада портов Чёрного и Балтийского морей лишили российскую «нефтянку» и поставок необходимого оборудования – к 1916 году потребности нефтепромыслов в технике, особенно в дефицитных трубах, удовлетворялись лишь на треть.
Хотя общая нефтедобыча за 1914-17 годы и выросла на 7 % (для сравнения, в США за те же годы рост составил 28 %), но резко сократился ввод в эксплуатацию новых скважин. Если в 1913 году в Баку бурили 921 скважину, то спустя три года – всего 582. Первыми нарастающий кризис почувствовали нефтеперерабатывающие заводы – к 1916 году объём их продукции сократился на 18 % по сравнению с довоенным.
За месяц до февральской революции, 25 января 1917 года крупнейшие нефтепромышленники обратились в правительство Российской империи с письмом, в котором сообщали, что сложившаяся ситуация «угрожает возможностью полнейшей дезорганизации нефтяного хозяйства». Но даже авторы этого мрачного прогноза не представляли насколько болезненными и страшными окажутся ближайшие годы как для нефтяной промышленности, так и для всей страны.
Глава 31. Военные прибыли Рокфеллера – нефть США в 1914-18 гг
В 1913 году на долю Соединённых Штатов приходилось 64 % всей нефтедобычи в мире и 49 % всего нефтяного экспорта. Крупнейшая держава Америки в то время являлась безусловным лидером в сфере добычи и торговли чёрным золотом. Начавшийся с 1914 года мировой конфликт лишь усилил американское лидерство – ведь в Европе разбушевалась первая в истории человечества «война моторов».
Массовое появление на полях сражений новой техники – авиации, танков, автомобилей – привело к взрывному росту спроса на нефтепродукты. Если в начале войны в армиях Франции и Англии было менее 10 тысяч автомашин, то спустя три года на фронте их насчитывалось уже в 22 раза больше. За 1917 год только сухопутные войска Англии и Франции потребили 1 млн тонн горючего, а в следующем году они расходовали уже 500 тыс. тонн нефтепродуктов ежемесячно.
Но ни англичане, ни французы не владели достаточными запасами чёрного золота, чтобы обеспечить такие потребности войны. Не удивительно, что в декабре 1917 года французский премьер-министр Жорж Клемансо обратился к президенту США Вудро Вильсону с просьбой о нефти в самой патетической форме: «Необходимо чтобы сражающаяся Франция была обеспечена горючим, которое ей требуется так же, как кровь солдатам…»
Власти США немедленно откликнулись на просьбу европейских союзников, и коммерческие соображения тут значили не меньше политических расчётов. Не случайно главой «нефтяного комитета», ответственного за поставки в Европу, стал Альфред Бедфорд – руководитель «Стандарт ойл оф Нью-Джерси», центральной компании в огромной нефтяной империи знаменитого Рокфеллера.
Для самого Рокфеллера мировая война началась с потерь – до 1914 года его крупнейшим филиалом в Европе была германская фирма «Дойч-Американише петролеум гезельшафт» со штаб-квартирой в Гамбурге. Установленная британским флотом морская блокада Германии рез сократила обороты немецкого филиала американской корпорации, а после того как в апреле 1917 года США официально вступили в войну, Рокфеллеру пришлось продать свой германский актив. Продажа, однако, была фиктивной – новым собственником стал Вильгельм Ридеманн, прежний директор «Дойч-Американише петролеум».

Однако любые потери на германском рынке Рокфелелр с лихвой компенсировал по другую сторону фронта. Только за 1918 год воюющие Англия, Франция и Италия потребили свыше 9 млн тонн нефти и нефтепродуктов. «Нефть стала кровью победы, – говорил тогда французский сенатор Анри Беранже, – Германия слишком полагалась на свое преимущество в железе и угле и недостаточно учла наше преимущество в нефти…» Министр иностранных дел Великобритании лорд Джордж Керзон сразу после капитуляции Германии дополнил высказывание своего французского коллеги: «Союзники приплыли к победе на гребне нефтяной волны».
Большая часть обеспечившей победу нефти была американской, из скважин Рокфеллера – именно поставки США обеспечили в 1914-18 годах около 80 % «нефтяного баланса» противников Германии. За четыре года Первой мировой войны добыча нефти в США увеличилась с 38 до 54 млн тонн, доля североамериканских нефтяников в мировой добыче выросла с 64 до 73 %. Тоннаж американских танкеров, поставлявших нефть в Европу, за то же время вырос в семь раз. К исходу войны, не смотря на потери от германских подводных лодок, США владели почти половиной всех танкеров в мире.
Но ещё внушительнее росли прибыли нефтяных магнатов. В 1917 году в Пенсильвании, старейшем центре нефтедобычи США, чёрное золото достигло цены 3 доллара за баррель – пик стоимости за предыдущие сорок лет. Если за первый год мировой войны чистая прибыль четырёх крупнейших компаний из империи Рокфеллера – «Стандард ойл оф Нью-Джерси», «Стандард ойл оф Нью-Йорк», «Стандард ойл оф Калифорниа» и «Стандард ойл оф Индиана» – составила 55,8 млн долларов, то в 1918 году она уже выросла до 144,4 млн. Общая же чистая прибыль всех 32 нефтяных компаний Рокфеллера в 1918 году достигала фантастической суммы в 450 млн долларов (или свыше 28 млрд в современных ценах).
Глава 32. «Забастовка в нефтепромышленном районе погубит Россию…»
1917 год в истории отечественной нефти
Февраль 1917 года вошёл в историю не только революцией, но и нараставшим экономическим кризисом, затронувшим и нефтяную промышленность страны. Когда в столице Российской империи бунт хлебных очередей перерос в свержение монархии, в Петрограде дефицитом были не только батоны и булки – не хватало четверти нефтепродуктов от довоенной нормы.
Главной причиной «топливного кризиса», как и хлебного и иных кризисов тех дней, был коллапс железнодорожного транспорта. Но негативные явления назревали и непосредственно у источников чёрного золота – в Баку, нефтяном центре империи, добыча по итогам 1916 года упала на 5 %. Цифра, на первый взгляд незначительная, но отражавшая глубинные экономические процессы.
Продолжавшаяся третий год мировая война оставила российскую нефтяную промышленность без новой техники, а с марта 1917 года к экономическим проблемам добавились политические. Узнав 15 марта о революции, рабочие нефтепромыслов Баку объявили однодневную «приветственную» забастовку. Но антимонархическую революцию тогда приветствовали и собственники чёрного золота. Глава крупнейшей нефтяной корпорации страны Эммануил Нобель 21 марта 1917 года на встрече с членами Временного правительства, патетически заявил: «Я говорю от имени всей русской нефтяной промышленности. Твердо веруя в могучие силы обновленной России, мы ставим себе ближайшей задачей своевременное обеспечение нефтяными продуктами…»
Месяц спустя издававшийся в Баку журнал «Нефтяное дело» восклицал в передовице: «Давнишняя мечта России о политической свободе и действительно конституционном политическом строе осуществилась полностью и в самых широких границах». Но реальность оказалась не столь радужной – вслед за эйфорией верхов и низов начались совсем другие процессы. На гребне революционного энтузиазма профсоюзы нефтяников Баку потребовали у собственников увеличения зарплат в 4,4 раза, сокращении рабочего дня с 12 до 8 часов и заключения коллективного трудового договора.

Если требование о 8-часовом рабочем дне было удовлетворено уже к 1 мая 1917 года, то по остальным пунктам трудные переговоры шли всё лето на фоне уже традиционного для Баку всплеска армяно-азербайджанской национальной вражды. Чтобы заставить собственников принять их условия, 27 сентября рабочие-нефтяники Баку начали всеобщую стачку. Известный до революции экономист нефтяной промышленности Василий Фролов, исполнявший после февраля 1917 года обязанности градоначальника Баку, получив известия о начале стачки, высказался прямо: «Забастовка в бакинском нефтепромышленном районе погубит Россию…»
Но даже экономист Фролов едва ли предполагал в те дни, насколько близко к истине его апокалиптическое пророчество. Уже через неделю забастовки собственники скважин согласились принять все требования рабочих. Вместе с нараставшим политическим и экономическим хаосом это лишь усугубило общий кризис. По итогам 1917 года нефтедобыча в Бакинском районе упала на 21 %, в январе 1918 году на берегах Каспия впервые за сорок с лишним лет не приступили к бурению ни одной новой скважины.
Но положение в Баку тогда могло считаться благополучным по сравнению с нефтеносным районом Грозного. Перед февральской революцией на берегах Терека добывалось пятая часть чёрного золота Российской империи, грозненская нефть была дешевле бакинской и лучше по качеству. Однако уже осенью 1917 года, по мере ослабления государственной власти, вокруг Грозного развернулись настоящие бои с чеченскими повстанцами – и к ноябрю пожары уничтожили здесь 77 % нефтяных вышек.
Накануне октябрьской революции из Грозного в Петроград ушла телеграмма: «Нефтяные промыслы, дававшие ежемесячно 5–6 миллионов пудов нефти, разгромлены и сожжены полностью. Восстановление промыслов при настоящих условиях невозможно…» Нефтяные фонтаны на берегах Терека непрерывно пылали до лета 1919 года. Уже после гражданской войны экономисты сосчитали, что в грозненских пожарах тогда сгорело нефти на сумму, равную четверти годового довоенного бюджета Российской империи.