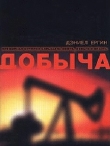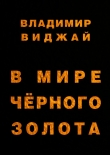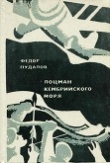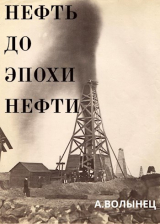
Текст книги "Нефть до эпохи нефти. История "чёрного золота" до начала XX века (СИ)"
Автор книги: Алексей Волынец
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Глава 6. Первая нефтяная инвестиция России или как царь Пётр вложил в «невть» казённые 6 рублей
В Москве XVII века было совсем нетрудно найти нефть – она имелась в любой аптеке. Например, в 1696 году, когда молодой царь Пётр I завоёвывал у турок Азов, в российской столице нефть продавали, в переводе на современные единицы измерения, по 20 копеек за литр. Это была весьма внушительная цена – 10 литров нефти по стоимости равнялись средней лошади.
Аптеки не случайно были главным источником, где в московской Руси можно было добыть нефть (или как чаще употребляли в правописании XVII века – «невть»). В старинных русских «лечебниках» она описывается как одно из основных средств против воспалительных процессов. Например, знаменитая на Руси четыре века назад «Книга Прохладный вертоград о различных врачевских вещах ко здравию человеческому пристоящих» описывала, что нефть «силу имеет распущающую и стравляющую и жилы отворяет затканные». Поэтому нефть советовали закапывать в уши, «у кого болит от студена», или в глаза, «у кого бельмо на очах или слеза идет».
Помимо аптек, нефть в старинной Москве можно было приобрести в «москательных рядах» – так четыре века назад именовали на Руси то, что мы сегодня называем «товарами бытовой химии». Нефть в «москательных лавках» приобретали как универсальный растворитель. Так же её активно использовали иконописцы, добавляя в краски, чтобы сделать их более яркими и стойкими. Так что многие русские иконы не обошлись без «чёрного золота».
Помимо лекарей и иконописцев «невть» на Руси четыре века назад использовали военные для создания зажигательных стрел и ядер. Документы XVII столетия из Оружейного и Пушкарского приказов постоянно фиксируют закупки и учёт нефтяных припасов. Так в 1636 году для армейских нужд хранилось в запасах нефти «162 пуда 32 гривенки с полугривенкой». Несложно подсчитать, что все нефтяные резервы государства российского тогда составляли немногим более двух с половиной тонн…
В аптечных документах допетровской Руси нефть нередко именовали на европейский манер – «масло петролеум» или «петриоль», но куда чаще использовали термин «нефть» или «невть», пришедший через волжских купцов с берегов Каспийского моря. Именно там, в окрестностях современного Баку, русские купцы покупали «невть» и везли её в Москву. Везли в местной таре – «тулуках», кожаных бурдюках, вмещавших примерно пуд жидкости, или «сулеях», деревянных флягах, объёмом в половину «тулука».
Торговый путь от Каспия по Волге и далее к Архангельскому порту в XVII столетии был главным «нефтепроводом» для Западной Европы. Дошедшие до нас документы фиксируют довольно крупные сделки русских купцов с европейскими коммерсантами по перепродаже каспийской нефти – партиями до 500 пудов. Не случайно право свободной торговли нефтью фигурирует в одном из первых договоров России с Англией, заключенном еще при Иване Грозном в 1582 году.
Преемник же грозного царя Борис Годунов стал первым русским самодержцем, кто увидел собственную нефть. В 1597 году в Москву с реки Ухты (ныне это земли республики Коми) привезли «горючу воду густу» – местную нефть из природных источников. Но «петролеум» из Предуралья не мог конкурировать с нефтью из богатых каспийских источников, которую было удобно и выгодно везти по Волге.
Лишь царь-реформатор Пётр I серьёзно заинтересовался ухтинской нефтью, когда в 1721 году «рудознатец» Григорий Черепанов сообщил в Петербург о находке нового нефтяного «ключа». Царь тут же распорядился: «А невтяной ключ в Пустоозерском уезде по Ухте речке освидетельствовать и учинить из него пробу и по пробе, ежели будет прямая нефть, то оную освидетельствовать и каким рядом оную производить, и будет ли из оного прибыль…»
Самому же «рудознатцу» Черепанову царь велел «для прокормления и чтоб он также впредь к сысканию лучше имел охоту выдать денег шесть рублёв». Так что, когда сегодня мы слышим о многомиллиардных оборотах и прибылях нефтяной промышленности, стоит помнить, что первые инвестиции в российскую нефть начинались со скромных 6 рублей.

Глава 7. Первый нефтяной «завод» или рейдерский захват «чёрного золота» в XVIII веке
Нечистая на руку борьба вокруг нефтяных барышей – явление отнюдь не современное. Это доказывает драматическая история первого нефтяного производства в России, стабильно заработавшего два с половиной века назад. Криминальные происшествия, бюрократические интриги, «наезды» прокуратуры и налоговиков – всё это уже было в забытой нефтяной драме XVIII столетия.
Фёдору Савельевичу Прядунову, простому «посадскому человеку» из Архангельска, казалось бы, крупно повезло дважды. Старообрядец-раскольник, то есть «второй сорт» в юридической реальности Российской империи, он случайно обнаружил богатую серебряную жилу на берегу Белого моря. В феврале 1733 года самый крупный серебряный самородок хитрый раскольник отдал в дар царице Анне Иоанновне. Счастливая находка принесла Прядунову купеческое звание и три тысячи рублей капитала – внушительную по тем временам сумму.
Второй раз новоиспечённому купцу повезло в 1741 году – в поездке на берега северной реки Ухты он случайно узнал о местных «нефтяных ключах», природных источниках нефти. «Чёрное золото» здесь пытались искать ещё при Петре I, но так и не смогли наладить его регулярную добычу. Купец Прядунов решил вложить нажитые на серебре капиталы в нефть.
Уже 18 ноября 1745 году из столичной Берг-коллегии (фактически, Министерства природных ресурсов XVIII века) поступило официальное разрешение «в пустом месте при малой реке Ухте завесть нефтяной завод и ту нефть, которого минерала до сего в России во изыскании не было, продавать». Именно этот день можно по праву считать началом регулярной нефтедобычи в нашей стране.
На «заводе» купца Прядунова нефть собирали с поверхности воды вручную, при помощи неких «узкодонных дщанов». За следующие два года «завод» добыл 40 пудов (около 640 кг) чистой нефти – ничтожное количество по нашим понятиям, но вполне коммерчески значимое для XVIII столетия. Добытую нефть купец Прядунов решил продавать там, где за неё дадут наивысшую цену – в Москве. С весны 1748 года в старой столице началась бойкая коммерция, сообщение о которой попало даже в знаменитую «Историю России» С.М. Соловьёва: «Архангельский купец раскольник Прядунов, ходя по домам, лечит людей от разных болезней нефтью, которою он сам торгует в Китае-городе у Троицы на Рву в казенных палатах…»
И тут на нефтяной бизнес «наехали» первый раз – Медицинская коллегия (то есть Минздрав XVIII века) заявила, что купец не вправе торговать без её разрешения данным «лекарством». Вспыхнула настоящая ведомственная война, когда Берг-коллегия разрешала, а Медицинская коллегия запрещала нефтяную торговлю Прядунова. В дело вмешался прокурор Василий Суворов (отец знаменитого в будущем полководца Александра Суворова!), он посадил Прядунова под арест, а подробности спора доложил в петербургский Сенат – так нефтяная тяжба дошла до правительства России.
Суть спора становится понятнее, если взглянуть на финансовые показатели – себестоимость нефтедобычи на «заводе» купца Прядунова не превышала 11 рублей за пуд нефти, тогда как в Москве тот же пуд, как лекарство, продавался дороже 30 рублей. За купца вступилась сама царица Елизавета Петровна – по её указу в декабре 1749 года первого нефтепромышленника освободили, но с условием, что отныне он не будет продавать нефть самостоятельно, а обязуется поставлять её в «московскую главную аптеку ценою против заморской со уменьшением».
Даже после вмешательства царицы злоключения первого в России нефтепромышленника не кончились – власти Архангельской губернии тут же обвинили его «завод» в уклонении от уплаты налогов. Спасаясь от нового ареста, Прядунов пытался оправдаться в Москве, где и умер в 1753 году. Его вдове под давлением архангельских властей пришлось отдать «завод» некоему купцу Нагавикову, якобы за долговую расписку покойного мужа «в сто двенадцать рублёв». Спустя три года сын Прядунова попытался оспорить сделку по подложной расписке и сразу… исчез. «На указанной нефтяной завод поехал и незнаемо каким случаем пропал безвестно», – отписывала в столицу канцелярия Архангельского губернатора.
Споры и тяжбы о первом в России нефтяном заводе будут идти беспрерывно ещё 12 лет. Он несколько раз поменяет владельцев, якобы в обмен на сомнительные векселя и ничтожные долги. Тем временем, добыча нефти заводом увеличится в два раза, здесь даже построят свою «поварню» для очистки нефти. Но к концу XVIII века первый в России нефтяной завод придётся закрыть – беспрерывные «наезды» и рейдерские захваты не позволят ему выдержать конкуренцию со щедрой каспийской нефтью.

Глава 8. Пушкин и кавказская нефть
Как друг и цензор великого поэта «пробурил» первую в мире нефтяную скважину
Общеизвестна связь А.С. Пушкина и его творчества с Кавказом. Куда менее знакома другая тема, связывающая поэта и кавказскую нефть. Лицейский приятель Пушкина и первый цензор его «кавказских» произведений стал лоббистом самой первой нефтяной скважины на нашей планете, пробуренной именно на Кавказе.
Рязанский дворянин Василий Николаевич Семенов, окончивший знаменитый Царскосельский лицей на три года позднее А.С. Пушкина, знаком лишь узкому кругу литературоведов, которые обычно далеки от истории техники и нефтяного дела. Лицеист Семёнов работал «столоначальником» в Министерстве просвещения, и в 1827 году получил должность цензора. В его обязанности входила предварительная цензура столичных журналов. Именно Семёнов, как официальный цензор, выпускал в печать многие произведения Пушкина, например, его кавказское «Путешествие в Арзрум».
Семёнов же стал и цензором журнала «Современник», основанного великим поэтом в январе 1836 года. На страницах этого журнала Семёнов цензурировал не только Пушкина, но и Гоголя, Тургенева, Тютчева. Вскоре за слишком вольный либерализм в отношении литераторов цензор Семёнов был уволен из министерства. Тогда Пушкин устроил в поддержку своего приятеля торжественный обед, запомнившийся петербургскому высшему свету. Согласное мемуарам очевидцев, подвыпивший поэт утешал отставного цензора: «Ты, брат Семёнов, сегодня словно Христос на горе Голгофе…»

В следующем 1837 году великий поэт погиб на дуэли, а его друг и бывший цензор, в поисках источника к существованию, отправился подальше от столичной бюрократии – на Кавказ. Там Николай Семёнов стал инспектором учебных заведений всего Закавказского края. На этой должности приятель Пушкина познакомился с горным инженером Николаем Воскобойниковым, бывшим управляющим Бакинских нефтяных промыслов.
Тёзка Семёнова в то время находился под следствием – на него поступил донос, что Воскобойников похитил с промыслов 480 тонн нефти. В реальности нефть просто испарилась из «нефтяных амбаров», открытых ям, в которых тогда хранили добытую жидкость. Проверка полностью оправдала горного инженера, однако на должность управляющего нефтяными промыслами Воскобойникова так и не вернули. Между тем, он был опытным специалистом, впервые предложившим перейти от ручной добычи нефти из неглубоких колодцев к бурению скважин.
Но проекты отставного инженера требовали денег, на которые скупилось кавказское начальство, поглощённое долгой и тяжелой войной с непокорными горцами. Бывший петербургский цензор Николай Семёнов решил помочь отставному инженеру – имея связи среди столичной бюрократии, он в декабре 1844 года отправил проект бурения нефтяных скважин, минуя канцелярию Кавказского наместника, прямо в секретариат министра финансов.
На нефть уже был устойчивый спрос, как в Российской империи, так и в Европе – и 30 апреля 1845 года Министерство финансов направило властям Кавказа приказ выделить из казны тысячу рублей серебром для пробного бурения. В следующем году у посёлка Биби-Эйбат (ныне в черте города Баку) начали экспериментальные работы. Бурили вручную, но это была именно первая в мире буровая скважина, на несколько лет опередившая аналоги в США и Западной Европе.
14 июля 1848 года на глубине 21 метр бурильщики наткнулись на искомую жидкость. Наместник Кавказа князь Воронцов поспешил доложить об этом в Санкт-Петербург, как о личном успехе: «Я разрешил провести новые работы на нефть в Бакинском уезде. Пробурена на Биби-Эйбате скважина, в которой находится нефть…»
Реальные инициаторы первой в мире скважины при жизни признания не поручили. Уволенный начальник Бакинских нефтяных промыслов Николай Воскобойников ухал в Персию, где до конца жизни работал инженером-геологом. Не сложилась и кавказская карьера бывшего цензора Николая Семёнова – через три года наместник Воронцов уволил лицейского приятеля Пушкина. Но запущенное ими бурение уже в ближайшие десятилетия сделало Кавказ одним из ведущих центров нефтедобычи на планете.
Глава 9. Миллионы пахнут керосином
526 долларов и 8 центов – первая нефтяная инвестиция в США
«Деньги не пахнут» – гласит старинная мудрость. Но к середине XIX столетия большие деньги отчётливо пахли керосином… Сегодня все уже забыли, что на протяжении более века главным продуктом нефтепереработки на нашей планете был керосин, завоевавший экономическое господство задолго до бензина.
В позапрошлом столетии бурно развивавшемуся человечеству перестало хватать для освещения деревянных лучин, растительных и животных масел. Выраставшие в мегаполисы промышленные города требовали и промышленного освещения. Накануне торжественного выхода на сцену нефтепродуктов, лучшим средством для освещения считалась «ворвань» – жир гигантских китов. Китобойный промысел достиг устрашающих объёмов – по подсчётам учёных за весь XIX век человечество истребило только кашалотов, 20-метровых огромных китов весом до 50 тонн, не менее 500 тысяч!
Но даже эти, поистине промышленные объёмы убийств не удовлетворяли растущий спрос на сырьё для освещения. Альтернативой китовой «ворвани» к середине позапрошлого столетия был «фотоген», иначе именуемый «керосин». Первый керосин (от древнегреческого – воск) изготавливался не из нефти, а путём перегонки бурого угля. Например, в России, в Калужской и Тверской губерниях существовали крупные по тем временам производства угольного «керосина» – в середине XIX века он продавался в Москве по полтора рубля за пуд, почти в 4 раза дешевле чем привезённый с Каспия «фотонафтиль», как тогда именовали в нашей стране керосин из нефти.
Планетарная экспансия нефтяного керосина началась почти одновременно в США, в Европе и на Кавказе. На западе Европейского континента «дедушкой» керосина из нефти оказался эксцентричный британский адмирал Томас Кокрейн. Успешный флотоводец и политик, он был с позором изгнан из парламента и флотской службы за подлог на бирже. Опальный адмирал подрабатывал наёмником на службе латиноамериканских диктаторов и увлекался военными новинками – пытался даже разрабатывать химическое оружие.

Лорд Кокрейн в бурной флотской молодости, 1807 год
Это увлечение и привлекло его внимание к нефти – середину XIX века стареющий адмирал встретил на карибском острове Тринидад, владея фирмой по продаже асфальта, гудрона и битума, получавшихся естественным путём из природных источников местной нефти (кстати, добываемой на острове и поныне). Партнёром адмирала стал разорившийся торговец лошадьми из Канады Авраам Геснер. Канадец имел неплохое техническое образование – он предложил вырабатывать сырье для освещения не из угля, а из дешевого на Тринидаде битума. Столь же авантюристичного склада, как и Кокрейн, канадский изобретатель предложил назвать эту жидкость уже хорошо известным на рынке термином «керосин».
Уловка сработала – уже в 1854 году созданная Геснером «Kerosene Gaslight Company» владела заводиками в Галифаксе, Бостоне и Нью-Йорке. Только Нью-Йорк ежегодно поглощал более 20 тысяч литров керосина из тринидадского битума, но растущее производство быстро столкнулось с дефицитом сырья.
Тут и сыграл свою роль основательный подход американских коммерсантов к инновациям. Зная об успехе керосина из битума, 33-летний юрист из Нью-Йорка Джордж Генри Биссел предположил, что точно такой же керосин можно получать сразу из нефти. Благо в Северной Америке природные источники этого ещё никому не нужного «горного масла» были хорошо известны. Его, как народное лекарство от ревматизма, добывали в штате Пенсильвания на реке с говорящим названием Ойл-Крик. Юрист Биссел собрал у партнёров первую американскую инвестицию в нефть – 526 долларов и 8 центов. Именно столько запросил преподаватель химии Йельского университета Бенджамин Силлиман, взявшийся осуществить опыты по получению керосина из нефти.
Химик Силлиман стал первым, кто подошёл к вопросу переработки нефти именно как академический учёный. 16 апреля 1855 года он отчитался пред инвесторами: «Есть много оснований для оптимизма в том, что из этого сырья можно изготавливать весьма ценные продукты». Учёный не ошибся – вскоре нефтяной и керосиновый бум потряс США, где за следующую четверть века добыча нефти выросла в 15 тысяч раз!
Сегодня именно инвестора Джорджа Биссела по праву считают «отцом американской нефтяной промышленности», а основанную им Pennsylvania Rock Oil Company – первой нефтяной компанией на американском континенте.
Глава 10. Керосин крепостных братьев
Первый в мире завод по перегонке нефти создали простые русские крестьяне
Первый в мире завод по производству керосина из нефти появился на Северном Кавказе на четверть века раньше, чем в США. В отличие от первых американских инвесторов, его создали люди, не имевшие учёной степени по химии. Не известно даже умели ли они читать – ведь братья Дубинины были крепостными крестьянами.
Василий, Герасим и Макар Дубинины родились очень далеко от любой нефти – в селе Нижний Ландрех Владимирской губернии. Скудная лесная земля не позволяла местным крестьянам прокормиться только сельским хозяйством, и с юности братья занимались привычным в тех местах промыслом – производством скипидара. Жидкую смесь эфирных масел получали из обрубков хвойных деревьев, помещая еловые пни в металлическую ёмкость и подогревая на огне. До появления сложной химии скипидар широко применялся в качестве смазки и универсального растворителя.
В начале 20-х годов XIX столетия графиня Софья Панина, владевшая тысячами крепостных, в том числе братьями Дубиниными, получила новые земли на берегах реки Терек. Так Василий, Герасим и Макар оказались на Северном Кавказе. В поисках источника, который позволил бы им прокормиться и заплатить оброк графине, они обратили внимание на местную нефть.
Интуитивно братья Дубинины попробовали перегнать чёрную маслянистую жидкость тем же способом, каким они добывали скипидар в лесах под Владимиром. Так из нефти получили чистый керосин – но сами братья не знали этого термина, они просто думали, что «очищают чёрную нефть», превращая её в «белую». «Белая нефть» братьев Дубининых хорошо продавалась для освещения и в аптеках, как лекарство от ревматизма и прочих хворей.
С 1823 года возле аула Акки-Юрт, недалеко от Моздока (ныне Малгобекский район республики Ингушетия), работал нефтеперегонный «завод» братьев Дубининых. Наверху кирпичной печи вмуровали «железный куб» ёмкостью в 40 вёдер (примерно 492 литра), накрытый медной крышкой от которой отходила медная трубка, пропущенная через примитивный «холодильник» – деревянную бочку, наполненную водой.
Добытую в «ямах-копанках» местную нефть выпаривали в «железном кубе», собирая из медной трубы в обычные вёдра получившийся дистиллят. Из 40 вёдер природной «чёрной нефти» получали не более 16 вёдер «белой нефти». Изначально в качестве топлива для печи использовали дрова, но затем братья сообразили, что куда лучше и дешевле будет топить печь отходами нефтяной перегонки – остававшимся в «железном кубе» мазутом.
Сам термин мазут происходит от арабского «маз'улат» (отбросы) и пришёл в русских язык из междуречья Тигра и Евфрата через Азербайджан. Крепостные братья Дубинины этих тонкостей не знали, но сумели наладить выгодную продажу мазута – его охотно применяли для смазки тележных осей и колёс.
«Завод» братьев Дубининых проработал два десятилетия. Василий, Герасим и Макар, оставаясь крепостными графини Паниной, сделались зажиточными людьми. Но к 40-м годам XIX века их завод столкнулся с дороговизной сырья. Имевшиеся на берегах Терека нефтяные колодцы находились в собственности «Кавказского линейного казачьего войска» (как тогда официально именовалось терское казачество). Затяжная война с горцами требовала денег, и атаманы сдавали нефтяные источники откупщикам, задиравшим высокие цены. Братья Дубинины остались без дешевого сырья и попытались обратиться за помощью к самому высокому начальству.
9 августа 1846 года Кавказский наместник князь Воронцов получил их прошение – «желаем более распространить нефтяную промышленность и торговлю в России, но не имеем к тому достаточного капитала…» Братья просили кредит, либо деньгами, либо «чёрной» нефтью. Как доказательство своих заслуг они указывали, что, благодаря им, в стране серьёзно снизились цены на продукты нефтепереработки: «Мы производили вывоз сего материала в течение 20 лет многими тысячами пудов во внутрь России, чем сильно стеснили заграничный привоз сей потребности с унижением цены, которая от 120 рублей сделалась 40 рублей ассигнациями за пуд».
Но вместо необходимого кредита братья Дубинины получили лишь символическую награду – 25 октября 1847 года царь Николай I подписал указ о награждении «торгующего в Ставропольской губернии помещичьего крестьянина Василия Дубинина за введение на Кавказе улучшенного способа очищения чёрной нефти серебряной медалью “За полезное” для отношения в петлице…» В том же году налёт на аул Акки-Юрт одного из отрядов имама Шамиля полностью уничтожил нефтеперегонный завод крепостных братьев.

«Набег горцев», художник Франц Рубо