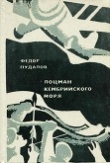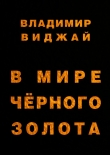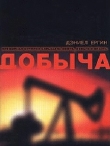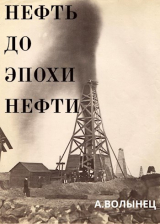
Текст книги "Нефть до эпохи нефти. История "чёрного золота" до начала XX века (СИ)"
Автор книги: Алексей Волынец
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Глава 11. Нефть с родины мазохизма или как сосед Мазоха пробурил первую скважину в Центральной Европе

В наши дни город Львов совсем не ассоциируется с нефтедобычей, в мире он широко известен лишь как родина Леопольда фон Захер-Мазоха, чьё имя и творчество породили термин «мазохизм». Между тем, в XIX веке именно Галиция (современная Западная Украина) была одним из центров мировой нефтедобычи, а в 197 метрах от львовского дома, где родился Мазох, располагалась аптека «Под золотой звездой», в которой будущий первый бурильщик Европы сконструировали первую в мире керосиновую лампу.
Случилось это в 1853 году, когда фармацевт Игнатий Лукасевич, увлекавшийся опытами с нефтью, привлёк к работе местного жестянщика Адама Братковского. Вместе два львовских поляка сконструировали первый удачный образец керосиновой лампы. Дело в том, что уже известный в Европе керосин, хотя горел ярче, но был опасен при использовании в прежних лампах, работавших на растительных жирах и маслах.
Фармацевт и жестянщик создали удобную и безопасную конструкцию. Изначально она предназначалась всего лишь для освещения витрины аптеки, в которой работал Игнатий Лукасевич. Но новинку быстро оценили медики – их работа требовала стабильного и яркого освещения в тёмное время суток. Уже в ночь на 31 июля 1853 года во львовской больнице провели первую в мире операцию при свете керосиновой лампы, экстренно вырезав пациенту аппендицит. К концу года фармацевт Игнатий Лукасевич заключил первый большой контракт на продажу своих ламп и 500 кг керосина – продукт перегонки нефти перестал быть аптечным товаром и шагнул в мир…
Лукасевич не только запатентовал своё изобретение на три года раньше, чем производство аналогичных ламп начали в США, но и в полной мере оценил коммерческие перспективы нефти. Уже в 1854 году он на средства польских предпринимателей пробурил первую нефтяную скважину в предгорьях Карпат и начал первые работы по освещению городских улиц керосиновыми фонарями. Спустя два года он построил и первый в Центральной Европе нефтеперегонный завод.
Природные источники нефти в Карпатах были известны с древности, но только в середине XIX века они приобрели коммерческое значение. Уже к 1870 году вокруг Львова (тогда населенного поляками австрийского Лемберга) работали десятки нефтяных вышек и 38 нефтеперегонных заводов. Австро-Венгерская империя, благодаря Галиции, тогда стала третьей страной в мире, после США и России, по объёмам добычи нефти.
Помимо нефти, активным спросом пользовался добывавшийся в Галиции «горный воск» – природный битум, ныне именуемый озокерит. В XIX столетии, до начала массового производства резины, озокерит активно использовался для гидроизоляции. Например, первый телеграфный кабель, проложенный по дну Атлантического океана и соединивший Европу с Америкой в 1858 году, изолировался именно озокеритом, добытым в Галиции на предприятиях немецкого промышленника Роберта Домса.
Некоторое время даже казалось, что Галиция по добыче нефти обгонит регион Баку. Ведь первые рельсы соединили карпатские нефтяные месторождения с железнодорожной сетью Европы еще в 1872 году. Тогда как в Баку первая железная дорога появилась на 8 лет позднее, а прямая рельсовая трасса к центральным регионам России заработала только в 1900 году.
Однако, «Галицийской Пенсильвании», как называли её современники по примеру первого нефтеносного штата США, обогнать каспийскую нефтедобычу всё же не удалось. К началу XX века в мире появились и новые центры массовой нефтедобычи, оставившие Галицию далеко позади – голландская Индонезия и Румыния. Однако, и тогда Карпаты давали внушительные 5 % всей мировой нефтедобычи.
В австрийской Галиции в те годы работали около 300 акционерных обществ, занимавшихся бурением и переработкой нефти. Большинство из них контролировались германским капиталом, меньшая часть – английским и французским. За десятилетие, предшествовавшее Первой мировой войне, здесь добыли более 13 миллионов тонн нефти.
Галиция стала и местом первой по настоящему массовой стачки нефтяников Европы. В 1904 году здесь целый месяц бастовали более 10 тысяч рабочих нефтепромыслов, требовавших повышения зарплаты и сокращения рабочего дня с 14 до 8 часов. Собственники карпатской нефти согласились повысить зарплату, но категорически отказались сокращать чудовищный рабочий день, вызвав для подавления забастовки австрийские войска.
Глава 12. Первый бурильщик США
Создатель первой нефтяной скважины Америки так и не стал миллионером
История первой нефтяной скважины в Западном полушарии началась осенью 1857 года со случайного знакомства в гостинице городка Титусвилль, что располагался в штате Пенсильвания на берегу ручья Ойл-крик, где издавна существовали природные источники нефти. Они и привлекли сюда Джеймса Таунсенда, одного из учредителей только что созданной Pennsylvania Rock Oil Company – первой нефтяной компании в истории США.
Мистер Таунсенд изучал возможности промышленной добычи нефти, как сырья для производства керосина, и между делом торговал акциями своей компании. Несколько акций ему удалось продать случайному соседу по гостинице, 39-летнему Эдвину Дрейку. На этом знакомство не закончилось – Дрейк, будучи в прошлом железнодорожником, не только не расставался с униформой кондуктора (за что получил у друзей шутливое прозвище «Полковник», под которым и вошёл в историю США), но имел право на бесплатный проезд по железным дорогам штата Пенсильвания. Благодаря этому безработного Дрейка пригласили на должность разъездного агента молодой компании Pennsylvania Rock Oil.

Edwin Laurentine Drake (1819–1880)
«Полковник Дрейк» с энтузиазмом взялся за новое дело, получил у властей штата разрешение на работы и принялся копать ямы по берегам ручья Ойл-крик. «Полковник» быстро сообразил, что одними лопатами успеха не достичь – его внимание привлёк опыт работавших в этом же штате добытчиков соли, которые активно использовали бурение для её поиска. Но первая попытка нанять бурильщиков для нефтяных изысканий закончилась трагикомически – рабочие просто пропили выданный Дрейком аванс и разбежались.
Только весной 1859 году незадачливому «полковнику» удалось нанять местного кузнеца с сыновьями и начать изготовление инструментов для первых нефтяных вышек. Всё лето на окраине Таунсвилля шли работы, так и не принесшие видимых результатов. Местные жители посмеивались над странными «нефтяниками», а в августе руководители Pennsylvania Rock Oil Company предупредили, что оплачивают последний счёт и предлагают прекратить бессмысленные поиски.
«Полковник Дрейк» всё же решил продлить работу бура ещё на несколько суток – и 27 августа 1859 года на глубине 69 футов (около 21 метра) показалась нефть. Фонтана не было и чёрную жидкость стали выкачивать из скважины ручной помпой. Первая американская скважина давала 25 баррелей (около 4 тысяч литров) в день.
Удачный пример Дрейка тут же вызвал настоящий нефтяной бум по всей Пенсильвании, который современники сравнивали с недавней «золотой лихорадкой» в Калифорнии. Уже к концу 1859 года новые скважины дали чуть более 4000 баррелей нефти. Правда по началу это вызвало не нефтяной, а скорее бочечный бум – в штате Пенсильвания резко взлетели вверх цены на обычные деревянные бочки, которые первые нефтяники использовали в качестве тары для «чёрного золота».
За следующее десятилетие население городка Титусвилль увеличилось в 40 раз, а объёмы добычи нефти в Пенсильвании выросли почти в тысячу раз – до 4 миллионов баррелей. Пенсильвания стала первым нефтяным центром США и одним из двух ведущих центров мировой нефтедобычи, наряду с каспийской нефтью Российской империи. Уже в 1860 году на европейском рынке продали первые 33 тонны американского керосина, произведённого из добытой в Пенсильвании нефти.
Удивительно, но первый бурильщик США, ставший примером для будущих олигархов и нефтяных магнатов, так и не разбогател после своего успеха. Эдвин Дрейк, по прозвищу «Полковник», оказался лишён коммерческой хватки – он не запатентовал свой метод бурения и не озаботился быстрой скупкой нефтяных районов Пенсильвании, прежде чем они резко выросли в цене. Хотя его первая скважина и принесла неплохую прибыль, но всё заработанное «Полковник» потерял уже в 1863 году, пытаясь играть на бирже.
И всё же нефтяной бум спас Эдвина Дрейка от смерти в нищете – через 13 лет после сооружения первой скважины власти разбогатевшего штата Пенсильвания учредили для него специальную пенсию. Ежемесячно выплачиваемые «первому нефтянику» 125 долларов не могли сравниться с гигантскими прибылями новых нефтяных королей (хозяин Standard Oil Рокфеллер уже стал миллионером), но в три раза превышали среднюю зарплату по стране.
Глава 13. «Топить печь ассигнациями…» – как Дмитрий Менделеев предсказал великое будущее нефти
6 сентября 1863 года в посёлок Сураханы близ Баку на нефтеперегонный завод купца Кокорева приехал скромный доцент с кафедры химии Санкт-Петербургского университета. Нелёгкая дорога из столицы Российской империи к главным нефтяным источникам на Каспии тогда занимала целых 17 суток. Доцента звали – Дмитрий Менделеев, он еще не изобрёл знаменитую «таблицу» и не стал самым выдающимся химиком XIX столетия…

Пригласивший Менделеева в Баку купец Василий Кокорев в то время был одним из богатейших коммерсантов России. Начав с торговли солью и водкой, он сколотил многомиллионное состояние и занимался самым разным бизнесом – от банков до железных дорог. Среди учрежденных Кокоревым фирм было и «Закаспийское торговое товарищество», построившее рядом с Баку большой нефтеперегонный завод.
Изначально нефтезавод Кокорева должен был производить «фотонафтиль» (как тогда в России всё ещё именовали керосин) из «кира», природного битума – песка, смешанного с нефтью естественных источников. Такого дешёвого «сырья» близ Баку было очень много, но завод оказался убыточным – получаемый из битума «фотонафтиль», после его транспортировки через всю Россию в Петербург, стоил там дороже, чем привезённый из-за океана американский керосин.
Купец Кокорев был талантливым коммерсантом, он лично отыскал в Петербурге молодого, но уже подающего надежды учёного. Как позднее воспоминал сам Менделеев: «Кокорев предложил мне посетить завод и сказать, следует ли его закрыть или какие средства нужно применить для того, чтобы завод работал с барышом, а не в убыток».

Если молодого Менделеева на фотографии выше узнали все, то купца Василия Александровича Кокорева (1817–1889) узнают немногие. На этом портрете кисти художника Карла фон Штейбена купец-«миллионщик» изображён примерно за десятилетие до знакомства с будущим великим химиком…
Купеческий выбор оказался успешным – Менделеев провёл опыты с нефтью, организовав для Кокорева новый технологический процесс. Если прежде из шести пудов битума получали едва пуд «фотонафтиля», то благодаря новшествам Менделеева выход продукции удвоился: из трёх пудов сырой нефти завод стал выдавать пуд готового к продаже керосина.
Но учёный не ограничился только химией, предложив коммерсанту целый ряд бизнес-новшеств: посоветовал связать завод с источниками нефти трубопроводами, саму работу по перегонке нефти сделать круглосуточной, а для дальнейшей транспортировки продукции использовать не как прежде деревянные бочки, а специальные корабли с резервуарами. Сегодня такие предложения кажутся общеизвестной банальностью, но полтора века назад это не было очевидным. Фактически, Дмитрий Менделеев в 1863 году создал прообраз современного технологического процесса перегонки и транспортировки нефти.
Как позднее вспоминал сам учёный: «Сураханский завод стал давать доход, несмотря на то, что цены керосина стали падать». Уже в 1865 году петербургские газеты так отзывались о новой продукции завода, сравнивая её с привозным керосином из американского штата Пенсильвания, считавшегося тогда ведущим центром мировой нефтедобычи: «Закаспийским торговым товариществом В. А. Кокорева представлены образцы фотонафтиля, или бакинского керосина. Он белого цвета и чище привозного пенсильванского… Фотонафтиль г. Кокорева известен в Москве и по Поволжью и конкурирует с привозимым пенсильванским керосином».
Дмитрий Менделеев после работ на заводе Кокорева уже не выпускал нефть из сферы своего научного интереса. В 1876 году он специально посетил США для знакомства с их опытом нефтедобычи. Результатом стала его книга «Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвания и на Кавказе». Учёный тогда первым в мире высказал мысль о стратегических нефтепроводах, связывающих разные части света. Он предложил соединить трубами Баку и черноморское побережье, где поместить заводы по переработке нефти, чтобы в дальнейшем их продукцию было удобно экспортировать морем в Европу.
Именно Менделеев первым предсказал, что в будущем нефть не останется лишь топливом и сырьём для освещения, а превратится в основу всей химической промышленности. Широко известен его афоризм: «Сжигать нефть – всё равно, что топить печку ассигнациями». Куда менее известно другое пророчество Менделеева, сделанное в XIX веке задолго до эры всеобщей автомобилизации: «Мне рисуется в будущем нефтяной двигатель, размерами и ценою немного превышающий керосиновую лампу…»
Глава 14. Первая нефтяная монополия – как Standard Oil Company Рокфеллера стала настоящим «стандартом» в истории нефти
Будущий хозяин американской нефти родился в семье лесоруба, всю жизнь пытавшегося стать преуспевающим коммерсантом. То, что не удалось отцу, благодаря «чёрному золоту» с лихвой получил один из его шестерых сыновей – Джон Дэвисон Рокфеллер.
Начав карьеру простым бухгалтером, сын лесоруба сумел сколотить первоначальное состояние на поставках продовольствия для армии во время Гражданской войны в США. Откупившись от призыва, будущий миллиардер к концу войны уже был акционером небольшого нефтеперегонного завода в штате Огайо.
В феврале 1865 года Рокфеллер выкупил заводик у остальных акционеров и с тех пор полностью сосредоточился на перспективном нефтяном бизнесе. Тут и раскрылись все коммерческие таланты 28-летнего бухгалтера – в отличие от иных «нефтяников» он умело занялся созданием нужной инфраструктуры. Например, на корню скупал дубовые леса, необходимые для производства бочек, в которых тогда транспортировали нефть и керосин. В итоге каждая бочка стоила Рокфеллеру всего 96 центов, тогда как его конкурентам она обходилась в три раза дороже.
Из-за взрывного роста нефтедобычи в США цены на нефтепродукты за несколько лет упали в разы. Порой цена опускалась до сорока восьми центов за баррель – на три цента ниже, чем стоила чистая питьевая вода в Пенсильвании, главном нефтяном штате США. Но в отличие от большинства нефтяников, опутанных банковскими кредитами, методичный и экономный Джон Рокфеллер уже имел свободные капиталы. И падение цен на нефть позволило ему начать успешную скупку скважин и перегонных мощностей.
10 февраля 1870 года была основана Standard Oil Company – будущая главная акула в нефтяном море. Уже на момент создания фирма контролировала десятую часть всей нефтепереработки США. Уставной капитал новой фирмы оценивался в миллион долларов – на тот момент являясь одним из крупнейших в американском бизнесе. Рокфеллер стал основным акционером Standard Oil, владея 25 % капитала.
Рокфеллер и его партнёры всё так же концентрировали своё внимание именно на инфраструктуре, связывающей месторождения, заводы и потребителей. Они первыми начали строить сети нефтепроводов, а также, гарантируя значительные объёмы перевозок, сумели заключить выгодные соглашения с железнодорожными компаниями о льготных тарифах на транспортировку нефти и керосина – уже не в бочках, а в вагонах-цистернах.
Влияя на железнодорожные тарифы, Рокфеллер целенаправленно разорял конкурентов. Наиболее упорных он лишал доступа к транспортной инфраструктуре, скупая все бочки и вагоны-цистерны, после чего агенты Рокфеллера через подставные фирмы за гроши приобретали у разорившихся конкурентов нефтяные заводы и вышки. Для экстренного обмена информацией в Standard Oil даже разработали особый секретный код, в котором фирма и её хозяин именовались говорящим псевдонимом «Угрюмый».
Сам Рокфеллер в те годы не расставался с револьвером – по всем нефтяным штатам США шли массовые выступления против него, разорившиеся нефтяники атаковали и осаждали офисы Standard Oil. Рокфеллер тоже не чураслся откровенно криминальных методов, нанимая банды для нападений на нефтепроводы конкурентов. В итоге суд штата Пенсильвания выдал ордер на его арест, но глава Standard Oil, владевший к тому времени миллионами долларов, сумел «договориться» с властями штата Нью-Йорк, которые проигнорировали ордер из Пенсильвании.

Рискованная и безжалостная политика Рокфеллера быстро дала внушительные плоды – спустя всего десятилетие после основания Standard Oil Company добывала лишь 18 % американской нефти, но контролировала переработку и транспортировку 95 % всего «чёрного золота» США. Рокфеллеру принадлежала и самая внушительная сеть сбыта нефтепродуктов в Европе, где его коммерческие агенты успешно конкурировали с российским керосином, поставляемым с берегов Каспия.
Именно рокфеллеровская Standard Oil Company стала первым нефтяным гигантом на нашей планете. Такие всемирно известные лидеры современной нефтедобычи, как Exxon Mobil или Chevron Corporation, являются прямыми потомками компании Джона Рокфеллера. Его же, по праву, нужно считать и самым богатым коммерсантом в мировой истории – личное состояние Рокфеллера в ценах начала XXI века превышало 300 миллиардов долларов! Основатель первой нефтяной монополии был в четыре раза богаче Билла Гейтса, самого состоятельного человека нашего времени.
Глава 15. Первая «приватизация» нефти – как царь Александр II реформировал «нефтяной промысел»
В середине XIX века, когда в нашей стране родилась промышленная нефтедобыча, всё «черное золото» Российской империи по закону принадлежало государству. Более того – вся российская нефть изначально управлялась людьми в погонах. От имени государства всеми полезными ископаемыми тогда ведал Департамент горных и соляных дел при Министерстве финансов, а непосредственное управление осуществлял военизированный Корпус горных инженеров. Поэтому все первые «нефтяники» России во времена царя Николая I официально носили армейские мундиры и воинские звания – от генерала до поручика.
Фактически существовала государственная монополия на нефть. Например, все богатейшие нефтеносные участки в районе Баку каждые четыре года сдавались царской казной в краткосрочную аренду откупщикам. Прежде чем начать добычу нефти, «откупщик» должен был уплатить сумму аренды за полгода. На территории Северного Кавказа право нефтяного «откупа» с публичных торгов коммерсанты приобретали у Терского или Кубанского казачьего войска, при этом окончательное решение об «отдаче в откупное содержание» принимал Военный министр, находившийся в далёком Петербурге и в ту эпоху куда больше заинтересованный в росте поголовья коней, чем в нефтедобыче.
При таких условиях крупный купеческий капитал опасался вкладываться в нефтяное дело. Краткосрочная аренда «откупов» не позволяла осуществлять долговременные инвестиции. И российская «нефтянка», не смотря на щедрые источники Кавказа, заметно отставала от коллег в США. Например, в 1872 году Россия добыла 25 тысяч тонн нефти – в 35 раз меньше, чем Северная Америка. И на территории Российской империи американского импортного керосина продавалось почти в 9 раз больше, чем бакинского.
Правительство царя Александра II стремясь разобраться в причинах такого отставания образовало сразу две комиссии из чиновников, инженеров и предпринимателей. Одну в Петербурге при Министерстве финансов, вторую – в Тифлисе, как тогда именовали город Тбилиси, в то время «столицу» Кавказского наместничества. Обе комиссии так определили причины отставания от США: «Отсутствие законоположений, способствующих развитию частной промышленности, и существующая ныне откупная система», при которой «парализована частная предприимчивость».
В итоге царь-реформатор осуществил радикальные преобразования и в области нефтяной промышленности, подписав 1 февраля 1872 года «Правила о нефтяном промысле». По новым правилам учреждались так называемые «свободные казенные земли» – территории, где предполагалось наличие нефти. На «свободных казенных землях» право поиска и добычи нефти получили «лица всех состояний, пользующиеся гражданской правоспособностью», как подданные Российской империи, так и иностранцы. Отныне любой желающий мог искать и добывать нефть, уплачивая государству фиксированную аренду по 10 рублей с десятины земли. Подписанные царём «Правила о нефтяном промысле» специально предусматривали, что арендная плата не будет меняться в течение 24 лет.
Помимо свободного поиска новых месторождений нефти, государство «приватизировало» и уже существовавшие. В том же феврале 1872 года император Александр II подписал «Правила об отдаче в частные руки казенных нефтяных источников, находящихся в Кавказском и Закавказском крае». Принадлежащие государству источники в Баку были выставлены на торги в декабре того же года – 46 нефтеносных участков, первоначально оценённых в 552 тысячи рублей, были выкуплены частными коммерсантами за 2 980 307 рублей.
Возможность бессрочной аренды нефтеносных участков по низким ценам, учитывая растущий спрос на керосин, тут же породила настоящий бум инвестиций. За следующий год количество нефтеперегонных заводов в районе Баку увеличится на треть. Вскоре император отменит и акциз на керосин, что еще более ускорит рост добычи и переработки «чёрного золота». Начиная с 1872 года вокруг Баку начинается настоящая «нефтяная лихорадка» – ближайшее десятилетие даст рост добычи в 33 раза!
Спустя всего три года после царской «приватизации» производство российского керосина впервые превысит импорт из США, а через десятилетие американский керосин окончательно исчезнет с российского рынка, не выдержав конкуренции с внутренним производителем. Розничная цена керосина снизится в пять раз, и этот продукт нефтепереработки, широко распространившись по всей стране, станет доступен даже самым бедным слоям населения.