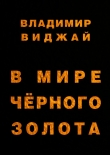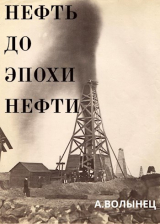
Текст книги "Нефть до эпохи нефти. История "чёрного золота" до начала XX века (СИ)"
Автор книги: Алексей Волынец
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Глава 16. Столичный керосин – как нефтепродукты освещали Москву и Петербург
Если в наши дни нефть это, прежде всего, бензин для моторов, то в XIX столетии нефть главным образом превращали в керосин для освещения домов и городских улиц. В тот год, когда в России отменили крепостное право, население Москвы уже превышало 450 тысяч человек, а население Санкт-Петербурга достигло 540 тысяч. По меркам той эпохи «старая» и «новая» столицы – это настоящие мегаполисы, требовавшие развитого уличного освещения.
Со времён Петра I для освещения в уличных фонарях Москвы и Петербурга применялись конопляное масло, либо сальные свечи. Но с ростом населения эти средневековые технологии безнадёжно устарели. К тому же они требовали значительных расходов – только Петербург тратил на свои 7 тысяч фонарей более 100 тыс. руб. в год, не считая жалования двум сотням «фонарщиков». И к середине XIX века столичные власти озаботились поиском новых технологий уличного освещения.
Сначала попытались экспериментировать с газовыми фонарями, но они оказались в пять раз дороже прежних. Опыты освещения улиц при помощи смести «хлебного спирта» и скипидара тоже не обрадовали – цена в полтора раза превысила стоимость освещения растительным маслом. К тому же питьевой спирт имел ещё одно неприятное свойство – его норовили выпить и, как писал один из исследователей городского хозяйства, «по понятным причинам смесь становилась всё более скипидарною и всё менее спиртовой».
В 1862 году в городской думе Петербурга развернулись настоящие баталии по поводу уличных фонарей. Спасение для столичного бюджета пришло из Америки в лице гражданина США венгерского происхождения Ласло Шандора (Lasslo Philip Chandor или, как его именовали в царской России, «господин Чандор»). Он владел небольшой фирмой «Общество минерального масла» по продаже керосина и имел несколько патентов на изобретения, связанные с улучшением топлива для освещения. Американский коммерсант умело вышел на петербургские власти через российского генерального консула в Нью-Йорке барона Роберта Остен-Сакена, предложив для освещения столичных улиц керосин из пенсильванской нефти.
Проведённые в Петербурге опыты показали, что уличный керосиновый фонарь даёт освещение как 12 стеариновых свечей и один час его горения стоит 19,5 копеек. Чтобы дать свет той же яркости требовалось два спиртовых фонаря со стоимостью часа горения 44 копейки. И в техническом, и в финансовом смысле освещение продуктами нефтепереработки оказалось перспективным.
В Петербурге тут же объявили конкурс «на устройство нового вида освещения». Помимо коммерсанта из США в нём приняли участие петербургский купец Христиан Бергман, имевший в городе химический завод, и пока ещё небольшой торговый дом «Нобель и К°». Городская Дума распорядилась поставить на разных улицах Петербурга по 10 фонарей от каждой заинтересованной стороны. Наблюдение за их работой велось пять месяцев – до 1 мая 1863 года.
Конкурс выиграл американский коммерсант, оставив позади и столичного купца Бергмана, и фирму будущих нефтяных магнатов Нобелей. Петербург подписал с Ласло Шандором контракт сроком на 21 месяц, заплатив американцу 231 658 рублей 50 копеек. Уже в августе 1863 года улицы города освещало 7020 керосиновых фонарей.

В том же году по примеру «северной столицы» поиском подрядчиков для керосинового освещения озаботилась Московская городская управа. Торги на установку 2200 керосиновых фонарей выиграл французский коммерсант Фредерик Боаталь, начавший установку новинок с Тверского бульвара. Уже с 1 мая 1865 года Москва освещалась исключительно керосином. Спустя ещё год в городе насчитывалось более девяти тысяч фонарей, в которых американский керосин заменили аналогом из бакинской нефти.
Хозяин петербургских фонарей Ласло Шандор тоже не собирался ограничиваться лишь американским керосином. Вместе с русскими купцами он стал пионером поиска нефти на Таманском полуострове и в Поволжье. Именно он в 1874 году пробурил первую скважину на берегах Волги, предсказав, что здесь тоже есть нефть. Но промышленные запасы «чёрного золота» в Поволжье найдут лишь в XX столетии, а поиски «господина Чандора» дали лишь небольшое количество заветной жидкости. Тогда в нефтеносные перспективы Поволжья не поверил даже Менделеев, высказавшийся по поводу прогнозов Шандора так: «Разведки и попытки на Волге будут стоить денег больших. Уже лучше те деньги вложить в бакинские дела…»
Глава 17. Первые акционеры российской нефти – как царь и каменщик привлекали капитал в нефтяную отрасль
18 января 1874 года царь Александр II лично утвердил Устав нового акционерного объединения. Подписанный монархом документ гласил: «Для добывания нефти и нефтагиля, выделки из оных осветительных и других продуктов и торговли ими, учреждается акционерное общество…» Новая фирма получила название «Бакинское нефтяное общество» и стала первым акционерным объединением в нефтяной промышленности Российской империи.
Предполагалось, что 30 тысяч акций по 250 рублей каждая позволят собрать и направить на добычу нефти ранее невиданный в этой отрасли многомилионный капитал. Ведь отечественной нефтедобычей всё еще занимались в основном мелкие фирмы и отдельные предприниматели.
Официальными учредителями «Бакинского нефтяного общества» стали два московских купца – Пётр Губонин и Василий Кокорев. Оба к тому времени были миллионерами, прославленными купеческим разгулом и эксцентрическими замашками. Оба, вышли из низов общества – Кокорев начинал карьеру предпринимателя с торговли солью и водкой, а Губонин когда-то был простым каменщиком и сделал капиталы на железнодорожном строительстве. «Представлял собою толстопуза, русского простого мужика с большим здравым смыслом, но почти без всякого образования», – так знаменитый министр финансов Сергей Витте в мемуарах описывает купца Губонина.

Губонин Пётр Ионович (1825–1894)
Желая привлечь массы акционеров, новая компания Кокорева и Губонина даже выпустила в свет брошюру «Пояснительная записка к уставу Бакинского нефтяного общества». Потенциальным держателям акций разъясняли преимущества концентрации капитала для успешной нефтедобычи и торговли нефтепродуктами. Однако энтузиазм учредителей встретил прохладный приём у российского общества – 140 лет назад «нефтяной промысел» всё ещё воспринимался большинством как нечто экзотическое и малопонятное.
В итоге первое собрание акционеров «Бакинского нефтяного общества», состоявшееся 22 апреля 1874 года, вынужденно было снизить акционерный капитал в три раза, до 2,5 миллионов рублей, и выпустить меньше акций более скромного номинала – 20 тысяч по 125 рублей. Но даже многократно урезанные капиталы, вложенные в нефтяную отрасль, быстро дали щедрые плоды. Согласно бухгалтерским документам, первые операции новой фирмы начались 9 июня 1874 года, и спустя всего год с момента учреждения, «Бакинское нефтяное общество» добыло почти 16 тысяч тонн нефти и продало в России свыше 1700 тонн керосина на сумму 111 711 рублей 50 копеек.
Создание акционерного объединения с относительно крупным капиталом позволило собрать воедино всю технологическую цепочку – от добычи до розничной реализации готовой продукции. Акционерам «Бакинского нефтяного общества» принадлежали 10 глубоких скважин и нефтеперегонный завод в окрестностях Баку, фабрика по производству бочек для транспортировки керосина, свои причалы и своя транспортная флотилия на Каспии и Волге, а также 15 «агентств» со складами и магазинами по всей России, от Астрахани до Вятки.
Только в Москве «Бакинское нефтяное общество» построило шесть оптовых складов и быстро ставший популярным магазин по розничной продаже керосина. Правление акционерной компании располагалось в Петербурге, на Большой Конюшенной улице, всего в 500 метрах от Зимнего дворца.
Акции «Бакинского нефтяного общества» стали пользоваться спросом на рынке, превратившись, по отзывам современников, в «излюбленные спекуляциею бумаги». Среди акционеров общества вскоре оказались ведущие частные банки Российской империи, например, Московский учётный банк и Санкт-Петербургский международный коммерческий банк.
Спустя всего три года с момента учреждения, «Бакинское нефтяное общество» дало 32,3 % от всей отечественной нефтедобычи и почти 80 % всех продаж керосина на российском рынке. Успех первых акционеров вдохновил немало предпринимателей, в их числе оказались и будущие звёзды нашей нефтепромышленности – братья Нобель. Устав их «Товарищества нефтяного производства» с основным капиталом в 3 миллиона рублей император Александр II «высочайше утвердил» 25 мая 1879 года.
Глава 18. Нобели против Рокфеллера – как российская нефть впервые стала международным фактором
Рождение крупнейшей нефтяной корпорации дореволюционной России было случайным. Весной 1873 года из Петербурга на Кавказ отправился Роберт Нобель, один их представителей большого семейства российско-шведских предпринимателей. Фирма братьев Нобель тогда получила от правительства крупный заказ на полмиллиона винтовок, и поездка на Кавказ требовалась, чтобы закупить ореховую древесину для будущих прикладов. Но оказавшись в Баку, Роберт Нобель не смог устоять против «нефтяной лихорадки», вложив выделенные для покупки дерева 25 тысяч рублей в несколько перспективных участков и маленький перегонный завод.
Рискованное и во многом спонтанное вложение оказалось удачным. Уже в октябре 1876 года в Петербурге продали первые 300 бочек с керосином братьев Нобель. Братья не зря были квалифицированными инженерами, к новому бизнесу они подошли системно, используя все технические и коммерческие новшества того времени. Например, уже в 1878 году они построили первый в Баку большой нефтепровод и первый в мире настоящий танкер, получивший имя «Зороастр» и позволивший отказаться от неудобной транспортировки керосина в деревянных бочках.

Весной следующего 1879 года, вложив в новое дело 3 миллиона рублей, братья Нобель учредили большое «Товарищества нефтяного производства». Помимо трёх братьев Нобель, одним из соучредителей стал барон Бильдеринг, генерал артиллерии и крупнейший оружейник России того времени, обеспечивший шведскому семейству надёжные связи на самых верхах российской бюрократии.
Технические новшества, коммерческая хватка и столичные связи позволили «Товариществу нефтяного производства братьев Нобель» быстро завоевать российский рынок. «Задачей Товарищества было вытеснить американский керосин из России, а затем начать вывоз керосина за границу», – так высказался руководитель компании Людвиг Нобель в апреле 1883 года, выступая на собрании пайщиков товарищества в Санкт-Петербурге. Спустя всего два года вышки братьев Нобель дали четверть всей нефтедобычи в России, а их перегонные заводы выпустили 53 % всего производимого в стране керосина, снизив его стоимость почти в 20 раз. «Нобелевская» продукция не только полностью вытеснила американский керосин с российского рынка, но и успешно вышла на международный рынок, где ранее так же безраздельно господствовал керосин из Америки от Standard Oil знаменитого Рокфеллера.
Всего за два года Нобели и другие российские экспортёры керосина отняли у Рокфеллера почти треть рынка в Азии и нацелились на Европу. Статистика российского нефтеэкспорта тех лет поражает – начавшись в 1881 году со скромных двух тысяч тонн, за семь лет он увеличился в 264 раза! И в сентябре 1886 года в Петербург для переговоров с братьями Нобель прибыл американец Уильям Герберт Либби, главный представитель Standard Oil в Западной Европе.
По слухам, просочившимся в американскую прессу, Рокфеллер предложил Нобелям фантастическую по тем временам сумму в 10 миллионов долларов наличными, если они согласятся подчинить ему их нефтяной бизнес. Но шведские братья отказали американцу – экспорт керосина из России в богатейшие страны Западной Европы открывал слишком заманчивые рынки. Например, в следующем 1887 году первый танкер с нефтепродуктами братьев Нобель пришёл в Британию. И «русский вопрос» (официальный оборот из внутренней переписки Standard Oil) сразу стал главным в политике американской монополии, заставив Рокфеллера резко снизить оптовые цены продаваемого в Европу керосина.
Стремясь конкурировать с американцами, Нобели вышли к самым вершинам государственной политики. В 1889 году бакинские заводы «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» лично посетил царь Александр III. Распив с нефтепромышленниками бутылку шампанского, монарх пообещал им дипломатическую поддержку в Западной Европе. Уже в следующем 1890 году, с подачи царя заручившись рекомендацией самого Бисмарка, братья Нобель совместно с Deutsche Ваnk учредили «Немецко-русское общество импорта нефти», сразу отняв у американских монополистов десятую часть германского рынка.
Первый раунд «керосиновой войны» остался за Нобелями. Братья вынудили могущественного Рокфеллера признать их равной стороной и с 1890 года начать переговоры о разделе нефтяного рынка в масштабах всей планеты.

Глава 19. Эра нефти полковника Шпаковского
Как русский инженер открыл человечеству эпоху жидкого топлива
Первым сообщением за 1866 год отраженным в деятельности Императорского русского технического общества (ИРТО) числится сообщение от 29 октября А.И. Шпаковского – о применении пульверизации к топке паровых котлов.

Александр Ильич Шпаковский, один из самых выдающихся русских инженеров XIX столетия, был профессиональным военным. Родившийся в 1823 году в обедневшей дворянской семье, он в 17 лет поступил рядовым в гренадёрский полк. Свыше 30 лет Шпаковский отдал военной службе, совмещая её с увлечением математикой, физикой и химией.
Грамотный офицер был направлен преподавателем в Павловский кадетский корпус, один из центров подготовки будущих офицеров в Петербурге. Преподавательская работа удачно сочеталась с опытами в области только что зародившейся фотографии и электротехники. В частности, в 1856 году для освещения коронационных торжеств императора Александра II использовалось десять «электрических солнц», электроламп конструкции Шпаковского.
Одновременно с электротехникой, Шпаковский занимался созданием неэлектрических систем освещения для морского флота. Ещё в 1866 году он сконструировал сигнальную лампу – в спиртовой огонёк насосом под давлением подавалась пульверизированная струя скипидара. Такая «сигнальная лампа» обеспечивала далеко видимые вспышки пламени, которыми было легко управлять.
Именно эффект пульверизации в сигнальном приборе натолкнул изобретателя Шпаковского на мысль, что это явление можно с успехом использовать в паровых двигателях. Ведь пульверизация, то есть распыление, смешивание струи жидкого топлива с кислородом воздуха, повышает эффект горения и резко увеличивает КПД сжигаемого топлива.
Как писал сам Шпаковский: «Пришла мне мысль воспользоваться пульверизациею для приложения ея к топке котлов» («Записки Русского технического Общества», 1867 год, выпуск II). Для проведения опытов изобретатель построил действующий макет винтового парохода с котлом, нагреваемым пульверизируемым «скипидарным пламенем». После серии опытов Шпаковский к 1866 году создал первую в мире «паровую форсунку», которая позволяла паровому котлу работать не на твёрдом угле, а на жидком топливе.
Задумки использовать в паровом двигателе жидкое топливо, в частности нефть, и ранее выдвигались европейскими и американскими изобретателями. Но все предложенные механизмы были несовершенны, только Шпаковский сумел предложить резко повышавшую КПД идею пульверизации и создать удачную конструкцию такого двигателя, который был куда легче и эффективнее обычного парового котла, работающего на угле. Как описывал достигнутый эффект сам Шпаковский в терминологии XIX века: «Сбережение пространства, выигрыш в весе прибора и уменьшение помещения для топлива…» («Записки Русского технического Общества», 1867 год, выпуск II).
Для демонстрации эффективности своего изобретения Шпаковский за свой счёт создал для Петербурга два «пожарных локомобиля» – работающие на скипидаре паровые котлы, приводившие в движение водяные пожарные насосы. Эти легкие, быстро перемещаемые конструкции с успехом использовались для тушения огня. Так, в 1868 году на одном из пожаров в Петербурге два автоматических насоса Шпаковского работали, качая воду, без перерыва трое суток – по подсчётам столичных купцов, израсходовав скипидара на 400 рублей, изобретение Шпаковского спасло товара на несколько миллионов.
В 1866 году во флотском журнале «Морской сборник» была опубликована статья подполковника Шпаковского «Сравнительная оценка топки паровых котлов каменным углем, скипидаром и нефтью», в которой изобретатель доказывал, что нефть куда удобнее и выгоднее для пароходных топок, чем каменный уголь. В следующем году в журнале ИРТО «Записки Императорского Русского Технического общества» появляется итоговая статья Шпаковского «О применении пульверизации к топке паровых трубок». В 1870 году по поручению Русского Технического общества Александр Ильич Шпаковский, уже получивший звание полковника, читал лекции о своём изобретении на Всероссийском мануфактурной выставке, где тогда демонстрировались новейшие достижения отечественной промышленности.
Так русский полковник первым в мире обосновал и создал действующий механизм с применением жидкого топлива. Уже в 1870 году «паровыми форсунками Шпаковского» начали оборудоваться пароходы Волжской и Каспийской флотилий. Именно там было много дешевой нефти из Баку, делавшей особенно выгодным это изобретение, экономическое обоснование которому ранее дал сам Шпаковский на страницах «Записок Русского технического Общества» (выпуск II за 1867 год). «Для Каспийского и Чёрного морей, – писал изобретатель, – где пуд нефти стоит 30 коп., а пуд каменного угля, например донского антрацита, обходится в 40 коп., эта топка будет выгодна и в экономическом отношении, так как 1 пуд нефти заменит более чем 1 пуд угля».
На флоте изобретение Шпаковского со временем позволило отказаться от множества кочегаров и тяжелого ручного труда, по перемещению многих тонн угля в паровые топки. Как писал, заглядывая в будущее, сам Александр Ильич еще в 1867 году: «Мне случалось слышать мнения моряков, которые считают несовременным употребление людей там, где их работа может быть заменена машиною…» («Записки Русского технического Общества», 1867 г., выпуск II).
Фактически, именно Александр Шпаковский открыл на нашей планете эру применения жидкого топлива и нефтепродуктов, как горючего для двигателей.
В 1880 году, когда был создан Электротехнический отдел Императорского русского технического общества (ИРТО), Александр Шпаковский был избран «непременным членом», как тогда именовались члены правления отделов ИРТО.
Глава 20. Министр и «керосиновые короли» – как российские нефтепромышленники не смогли поделить мировой рынок
В последнее десятилетие XIX века на мировом рынке господствовала бакинская и американская нефть. Аравийской нефти ещё не существовало, а другие центры добычи (в Румынии, австрийской Галиции или голландской Индонезии) были относительно малы. Если в США главным экспортёром нефтепродуктов являлась Standard Oil Рокфеллера, то в России лидировали, по определению журналистов тех лет, «керосиновые короли» – братья Нобель, парижские банкиры Ротшильды и эксцентричный миллионер Александр Манташев.
Именно «керосиновые короли» были конкурентами Рокфеллера на нефтяном рынке, война за который к концу XIX века достигла небывалого накала и шла по всей планете – от Японии до Англии. Стремясь сохранить старых и приобрести новых потребителей, стороны непрерывно снижали цены. И к 1893 году ценовая конкуренция буквально измотала соперников – Рокфеллер подсчитал, что его выручка от экспорта упала в два раза, а российские «керосиновые короли» реализуют свою продукцию за рубежом по ценам в 8 раз ниже, чем внутри России.
Стороны поняли, что надо как-то договариваться и делить мировой рынок – в Париже начались переговоры представителей Рокфеллера, Нобелей и Ротшильдов. На вершинах власти Российской империи уже осознали, что нефть – это нечто большее, чем просто выгодный «промысел», типа торговли чаем. Поэтому в переговоры о разделе мирового нефтерынка вмешался новый амбициозный министр финансов Сергей Витте.
По законам царской России именно Минфин осуществлял государственный надзор за деятельностью нефтепромышленников. Глава российских финансов Витте предложил всем российским экспортёрам объединиться и выступать на переговорах с Рокфеллером единым фронтом. И с осени 1893 года в Петербурге начало работу «Особое совещание» крупнейших нефтепромышленников и высших госчиновников. Цель министр определил откровенно и прямо – «более успешное противодействие Стандард ойл на иностранных рынках».
В итоге Нобели и Ротшильды с согласия Витте подготовили «Проект организации Союза для торговли керосином, предназначенным к вывозу на иностранные рынки». Предусматривалось, что все российские экспортёры нефтепродуктов подпишут договор о координации торговой деятельности за рубежом, а государство поддержит их, снизив тарифы и налоги. В феврале 1894 года договор был подписан – так возник «Союз бакинских керосинозаводчиков», объединивший две трети мощностей российской нефтепромышленности. Даже склонный к эпатажу нефтяной магнат Александр Манташев, тогда один из богатейших коммерсантов России, хотя и отказался вступить в «Союз», но подписал с ним договор о координации внешнеторговой деятельности.
Казалось всё было готово к успешному разделу мирового рынка – от имени «Союза бакинских керосинозаводчиков» в Париж на встречу с представителями Рокфеллера отправился Эммануил Нобель. После многомесячных трудных переговоров, 14 марта 1895 года он подписал предварительный договор о квотах по всей планете – 25 % для русской нефти и 75 % для американской.

Эммануил Людвигович Нобель (1859–1932), портрет написан художником В.Серовым, которого все мы знаем как автора картина «Девочка с персиками»…
Торжествующий Рокфеллер уже заказал билеты на трансатлантический пароход, чтобы российские магнаты прибыли в Нью-Йорк для подписания итогового документа. Но тут всё рухнуло в один миг – в России против такого раздела выступили все, кроме братьев Нобель. Ведь Нобели экспортировали керосин в Западную Европу, их вполне удовлетворяла четверть такого сверхбогатого рынка. Но все остальные «керосинозаводчики» специализировались на продажах в Азии и Африке. Как раз в 1895 году на Дальнем Востоке торговля бакинским керосином превысила объемы американской торговли, и четверть от растущих рынков Китая и Японии уже никак не устраивала российских экспортёров.
К тому же при активном участии министра Витте уже строился Транссиб, способный связать рельсами Дальний Восток с нефтеносным Баку. И глава российского Минфина прямо заявил генконсулу США в Петербурге Джону Карелу о подписанном в Париже соглашении: «Независимость русской нефтяной промышленности, имеющей великое будущее, от этого пострадает».
В 1895 году будущее отечественной нефти, действительно, выглядело радужным – ещё никто не подозревал, что в самом начале XX века её ждут великие потрясения. Договор с Рокфеллером не вступил в силу, «керосиновые короли» так и не поделили мир.