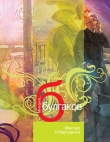Текст книги "Михаил Булгаков"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 61 страниц)
Таким образом, повторялся уже известный по 1925–1926 годам мотив авторского «шантажа», и на этот раз театр снова пошел на попятную или сделал вид, что уступил.
«Репетиции „Мольера“ у Станиславского идут по основному тексту М. А.» [21; 86], – записала Елена Сергеевна 29 апреля.
«Играйте так, как есть, по тексту пьесы. Вот и давайте победим. Это труднее, но и интересней» [125; 292], – обратился Станиславский к актерам, зачитав перед труппой ультимативное письмо Булгакова, а в другом месте мысль режиссера прозвучала еще более отчетливо: «…победить автора, не отступая от его текста» [13; 371].
Это очень важная проговорка. Отношения между Булгаковым и театром превратились не просто в сотрудничество-соперничество, что нормально и по-своему неизбежно, но в военные действия, где каждая из сторон стремится к своей победе. Слово «война» употребил, как мы помним, и Булгаков в письме Попову. Таким образом враждующее состояние зафиксировали обе заинтересованные стороны. Позднее в дневниковой записи от 29 декабря 1955 года Елена Сергеевна попыталась представить конфликт между Булгаковым и Станиславским как некую театральную интригу и обвинила во всем третью сторону:
«Видела в студии МХАТа Ларина, который говорил, что во время репетиции „Мольера“, в конце уже, актеры (главным образом, Станицын) говорили про К. С. – „выжил из ума“, „чего его слушать – сумасшедший“ и так далее. Когда К. С. начинал говорить замечания, они только спрашивали: но мы хорошо ведь играли, хорошо?
Ларин думает, что Подгорный, в силу своего наушничества, передал К. С-чу разговоры актеров, старик обозлился. А тут кто-то нашептал Михаилу Афанасьевичу, и того восстановили против К. С. Ларин считает, что К. С. играл не последнюю роль в снятии пьесы. „Но, – говорит Ларин, – в начале и в ходе репетиции К. С. был влюблен в пьесу…“» [12;451]
Это мнение не следует полностью сбрасывать со счета, но очевидно, что конфликт между двумя сторонами носил слишком глубокий и принципиальный характер и никакие злопыхатели всерьез повлиять на него не могли. Существенно и еще одно обстоятельство. В истории с «Турбиными» у автора, режиссера и актеров был общий враг – Главрепертком. Не давая до последнего момента окончательного согласия, он сплачивал и объединял труппу, в случае с «Мольером» – формально разрешившая пьесу партийная кабала затаилась и не без удовольствия наблюдала за тем, как рушилось поделенное надвое театральное царство и как недостает ему мудрого большевистского руководства, красного директорства, о чем Станиславский сам попросил Сталина во второй половине 1935 года. Частично это произошло из-за конфликта с Булгаковым, который, должно быть, менее всего предполагал, к каким далекоидущим последствиям приведут его демарши. Но характерно, что именно красный директор М. С. Аркадьев, Станиславским у Сталина выпрошенный, написал о творческой манере Ка-Эса:
«…Станиславским была выдвинута новая теория. МХАТ – это вышка театрального искусства. Его задачей не является подобно другим „обычным“ театрам постановка спектаклей. Задачей МХАТа является утверждение самого высокого уровня театрального искусства. Поэтому не имеет значения, что театр в течение года или двух не выпускает вовсе новых постановок. Имеет значение то, чтобы театр в течение ряда лет подготовил спектакль, который сразу дал бы самый высокий уровень театрального искусства.
Эта теория страдает одним недостатком. Чтобы дать спектакль самого высокого уровня, необходимо, чтобы актеры были самого высокого уровня. Актеры могут достичь самого высокого уровня только тогда, когда будут постоянно и систематически работать, а не дряхлеть от безделья и, понятно, от быстротекущего времени. Кроме того, подобная теория не может оправдать себя и по результатам работы. Не всегда та постановка, над которой дольше всего театр работает, получается самой лучшей. Театр имел опыт работы с „Мольером“, который в результате пятилетней работы, как известно, никакой вышки театрального искусства не создал» [3].
Таковой была партийная оценка, причем лишенная в данном случае, что любопытно, идеологической окраски. Но партийные инстанции стали опять вмешиваться в судьбу Булгакова раньше, причем поначалу парадоксальным образом приняли его сторону. Еще до назначения Аркадьева в самый разгар весенней распри со Станиславским беспартийному драматургу возжелала помочь мхатовская партячейка.
« 1 апреля.Вчера М. А. пригласили в партком, там было обсуждение „Мольера“. Мамошин говорил, что надо разобраться, что это за пьеса и почему она так долго не выходит. А также о том, что „мы должны помочь талантливому драматургу Михаилу Афанасьевичу Булгакову делать шаги“. О пьесе говорил: „Она написана неплохо“. Заседание было длинное, сперва с исполнителями, потом их удалили» [21; 80].
Елена Сергеевна писала серьезно, но эта картина – слов нет – просится на холст. Михаил Булгаков на заседании парткома МХАТа.Внимательные лица, дружеские рукопожатия, участливые расспросы, секретарь мхатовского парткома, рабочий сцены Иван Андреевич Мамошин, который еще прежде пытался подбодрить Булгакова, о чем имеется запись в дневнике Елены Сергеевны от 25 августа 1934 года: «…разговор с Мамошиным. – Нужно бы поговорить, Михаил Афанасьевич! – Надеюсь, не о неприятном? – Нет! О приятном. Чтобы вы не чувствовали, что вы одиноки» [21; 52]), и наконец, как апогей – несмелые шаги, которые ведомый уверенной партийной рукой делает по жизни робкий драматург.
Они плохо понимали, с кем имели дело. Это относилось ко всем: и к коммунистам, и к писателям, и к актерам, но больше всего к режиссерам – они все его недооценивали, но главное – никто не представлял, до какой степени он был истощен и как близко к сердцу принимал все то, что происходило в Леонтьевском переулке. А там, в доме, где жил и работал великий Станиславский, никто никуда не торопился, хозяин показывал комедиантам, как надо носить шляпу с пером, как пользоваться тростью, как фехтовать, и актеры прогуливали эти уроки мастерства точно последние школяры, – и позднее все это войдет в заключительные главы «Записок покойника», где даже ирония и легкость письма не смогут сокрыть пережитый автором ужас.
«И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемая Людмилой Сильвестровной (которая в пьесе, кстати, не участвовала), с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам.
Дело в том, что все в той же картине, где и букет и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнее зарево.
Это и дало повод для большого этюда. Разросся этот этюд неимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа.
Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, велел всем переживать это зарево.
Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.
– Ах, боже, боже мой!! – кричали больше всего.
– Где горит? Что такое? – восклицал Адальберт. Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:
– Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисеев!! (Черт знает что такое!) Спасите! Спасайте детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мы погибли!
Весь этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, которая кричала уж вовсе какую-то чепуху:
– О, боже мой! О, боже всемогущий! Что же будет с моими сундуками?! А бриллианты, а мои бриллианты!!
Темнея, как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно:
– Гляньте… зарево… – и произносит великолепно, что мне совсем неинтересно ждать, пока выучится переживать это зарево не участвующая в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться.
К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня».
«М. А. приходит с репетиций у К. С. измученный. К. С. занимается с актерами педагогическими этюдами. М. А. взбешен – никакой системы нет и не может быть. Нельзя заставить плохого актера играть хорошо» [21; 81].
Но не меньше был измучен и его главный оппонент в вопросе о действенности «системы Станиславского» – ее создатель.
«Я этой пьесы не выбирал, я ее получил, получил действующих лиц. Эти действующие лица несколько раз менялись. Мне передали эту пьесу с таким настроением, что нужно иметь очень большое терпение, чтобы при моей болезни все это выносить, – говорил Станиславский во время майских репетиций. – Михаил Афанасьевич задает страшно трудную задачу актерам: „ты играй героя пьесы и выставляй только одни его недостатки“ <…> Эта вещь очень трудная. Автором никаких оправданий не дано, вот то, что пропущено автором, и должен создать актер для себя, чтобы не попасть на фальшивую линию». И в другом месте: «Мне 72 года, мне говорить нельзя, но я все время делаю упражнения, потому что я только этим и живу. <…> Чем вы хотите меня удивить? Я настолько изощренный человек в этом смысле, что отлично понимаю, чего хочет актер. Я удивляюсь, когда вы приходите ко мне, ведь я вас не узнаю. Мне кажется, я попал в какой-то новый театр, что это какие-то новые люди, я не верю тому, что они показывают <…> Я здесь обращаюсь ко всему коллективу – караул… спасите себя, пока еще не поздно» [125; 294].
Вообще мотивы действий Станиславского во всей этой истории трактуются по-разному. Как уже говорилось, существует предположение, что режиссер потому тянул с выпуском спектакля и требовал от драматурга внести изменения, что предчувствовал идеологическую уязвимость «Мольера» и хотел, чтобы в спектакле были иначе расставлены акценты и тем самым он был бы выведен из-под огня критики. В этом смысле позиция Станиславского напоминала рецензию А. Н. Тихонова на жэзээловский вариант «Мольера»: от Булгакова хотели серьезности и значительности в разработке образа главного героя, он же ни на какие переделки идти не соглашался. Иную и, судя по всему, более точную версию высказал режиссер спектакля Н. М. Горчаков. В опубликованной в 1950 году мемуарной книге «Режиссерские уроки Станиславского» всю вину за неуспех «Мольера» он свалил на одного Булгакова, который-де не захотел следовать настояниям Учителя. Однако помимо этого существует иной, куда более ценный и объективный документ.
В начале июня 1935 года во МХАТе состоялось собрание народных и заслуженных артистов Республики по вопросу о проработке речи тов. Сталина, на котором Горчаков, причем заметим, безо всякого пиетета к великому Ка-Эсу, выступил с очень напористым заявлением:
«Теперь о той же истории с „Мольером“. Кто принял эту пьесу? Оказывается, никому неведомо. Константин Сергеевич говорит: „Я пьесу не принял, она мне не нужна, то, да се, да пятое, да десятое“. Владимир Иванович никакого участия в пьесе не принимает. Значит, пьеса попала в театр неизвестно как, но ведь пьеса интересная, текст хороший. Каждый год приходится „кустарным способом“ как-то устраивать эту пьесу в театр <…>. У Константина Сергеевича есть огромные мысли, огромные, интересные предположения в области актерской игры – и полное нежелание работать режиссерски. Я его отлично понимаю. Как он сам говорит, поднявшись наверх, на склоне своих лет не так уж интересно выпускать какие-то спектакли. Гораздо интереснее и важнее проводить огромную воспитательную, созидательную работу над актером и над труппой.
Это бесспорно, никто против этого протестовать не будет. Но есть большие задачи и есть такой рядовой вопрос, как выпуск спектакля в четыре года.
И здесь я считаю, что необходимо нашим старикам, основной группе, говорить с Константином Сергеевичем в том отношении, чтобы он разграничил плоскость своей деятельности. Очевидно, есть в человеке два полюса: полюс большого учителя, который ему сейчас нравится. Ему многое есть что сказать и сделать. И полюс, который требует театр, – хороший блестящий режиссер, – что его не увлекает. Надо поговорить с ним, чтобы он это сам в себе разграничил.
Когда он принимал наш показ, когда он работал с нами как режиссер, он сказал: „Очень хорошо, можете играть очень быстро“, потом он стал с нами заниматься, но уже не в плоскости режиссерской, а в плоскости учителя с учениками» [12; 444].
Горькая ирония этого сюжета заключается в том, что слова эти были произнесены Горчаковым тогда, когда Станиславский оказался фактически не у дел. 11 мая 1935-го он провел последнюю, сам того не подозревая, репетицию в своей жизни в основанном им Московском Художественном театре. Репетицию «Мольера». Следующая должна была состояться в конце месяца. Но она была отменена. Из-за Михаила Афанасьевича Булгакова. К тому моменту взбунтовавшийся автор сделался яростен, как перепугавший мирных чиновников губернского города облекшийся в плоть капитан Копейкин. Елена Сергеевна протестовала на пару с ним. Позднее в отредактированном своде дневника она следы этого бунта припорошила, но первоначальные записи не скрывали ярости обоих. Так что не только рапповским критикам была готова расцарапать физиономии королева Марго, и всю весну 1935 года супружеская чета Булгаковых наводила ужас на видавшую виды администрацию МХАТа.
« 13 мая. <…>Вчера ходили в театр к Егорову говорить о договоре на „Мольера“. Разговор вел Миша, я только поставила условия материальные, приемлемые для нас, – записала в дневнике Елена Сергеевна. – Разговор Миша провел блестяще. Этот мерзавец Егоров сначала заявил так: „Я ничего не знаю, и меня это не касается. А вы с Художественной частью говорили?“ Миша ответил на это: „Не говорил и говорить не буду. Договор подписывали вы? В срок не поставил театр? Так благоволите либо заплатить деньги и возобновить договор, либо отдайте пьесу назад…“ Егоров завел разговор на тему: кто виноват, что постановка затянулась на такой неслыханный срок? <…> Но М. А. сказал: „Вы хотите знать виновников? Хорошо, я вам назову. Выдам их с головой. Это – Константин Сергеевич, Владимир Иванович Немирович и вся дирекция“. <…> Вообще, уже через десять минут слетела с Николая Васильевича, как это ни трудно себе представить, вся его развязность, все его нахальство, он съежился, начал поддакивать грустным голосом: „Да, да, вы правы…“ И, когда мы ушли из кабинета, Егоров подошел еще раз в конторе ко мне и сказал придушенным голосом: „Никогда не думал, что я так буду переживать этот разговор… Мне так стыдно за Театр! Как прав Михаил Афанасьевич, как он прав!“ И пошел принимать капли.
М. А.-то действительно прав, потому что издевательство, которое учинил Художественный театр in corpore над Мольером, – совершенно неописуемо, но я не уверена, что эта ханжа Егоров говорил искренно» [12; 389].
« 24 мая.Звонил днем Егоров – МХАТ соглашается на договор на наших условиях – шесть тысяч, срок 1 июня 1936 г.
– Как июня? Мы говорили о декабре тридцать пятого года! Театр должен в двухдневный срок дать мне ответ – соглашается он на мои условия или нет.
Он вопил – что никто никогда не позволял себе так разговаривать с Театром, что К. С. и В. И. нельзя ставить ультиматума».
Булгакову было можно. 44-летний автор – как раз в эти майские дни ему исполнилось сорок четыре года – не боялся ничего и никого, если не считать навязчивого страха одиночества. Боялись его. А ему, похоже, было уже нечего терять. Вероятно, именно к этой поре относится знаменитая устная булгаковская история, записанная Еленой Сергеевной, история, очевидно, сочиненная и для того, чтобы передать тогдашнюю атмосферу, и для того, чтоб ее разрядить.
«Михаил Афанасьевич, придя в полную безнадежность, написал письмо Сталину, что так, мол, и так, пишу пьесы, а их не ставят и не печатают ничего, – словом, короткое письмо, очень здраво написанное, а подпись: Ваш Трампазлин.
Сталин получает письмо, читает.
СТАЛИН. Что за штука такая?.. Трам-па-злин… Ничего не понимаю!
(Всю речь Сталина Миша всегда говорил с грузинским акцентом.)
СТАЛИН (нажимает кнопку на столе). Ягоду ко мне!
Входит Ягода, отдает честь.
СТАЛИН. Послушай, Ягода, что это такое? Смотри – письмо. Какой-то писатель пишет, а подпись „Ваш Трампазлин“. Кто это такой?
ЯГОДА. Не могу знать.
СТАЛИН. Что это значит – не могу? Ты как смеешь мне так отвечать? Ты на три аршина под землей все должен видеть! Чтоб через полчаса сказать мне, кто это такой!
ЯГОДА. Слушаю, ваше величество!
Уходит, возвращается через полчаса.
ЯГОДА. Так что, ваше величество, это Булгаков!
СТАЛИН. Булгаков? Что же это такое? Почему мой писатель пишет мне такое письмо? Послать за ним немедленно!
ЯГОДА. Есть, ваше величество! (Уходит.)
Мотоциклетка мчится – дззз!!! прямо на улицу Фурманова. Дззз!! Звонок, и в нашей квартире появляется человек.
ЧЕЛОВЕК. Булгаков? Велено Вас немедленно доставить в Кремль!
А на Мише серые полотняные брюки, короткие, сели от стирки, рваные домашние туфли, пальцы торчат, рубаха расхристанная с дырой на плече, волосы всклокочены.
БУЛГАКОВ. Тт!.. Куда же мне… как же я… у меня и сапог-то нет…
ЧЕЛОВЕК. Приказано доставить в чем есть!
Миша с перепугу снимает туфли и уезжает с человеком.
Мотоциклетка – дззз!!! и уже в Кремле! Миша входит в зал, а там сидят Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Ягода.
Миша останавливается у дверей, отвешивает поклон.
СТАЛИН. Что это такое! Почему босой?
БУЛГАКОВ (разводя горестно руками). Да что уж… нет у меня сапог…
СТАЛИН. Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразие! Ягода, снимай сапоги, отдай ему!
Ягода снимает сапоги, с отвращением дает Мише. Миша пробует натянуть – неудобно!
БУЛГАКОВ. Не подходят они мне…
СТАЛИН. Что у тебя за ноги, Ягода, не понимаю! Ворошилов, снимай сапоги, может, твои подойдут.
Ворошилов снимает сапоги, но они велики Мише.
СТАЛИН. Видишь – велики ему! У тебя уж ножища! Интендантская!
Ворошилов падает в обморок.
СТАЛИН. Вот уж, и пошутить нельзя! Каганович, чего ты сидишь, не видишь, человек без сапог!
Каганович торопливо снимает сапоги, но они тоже не подходят.
СТАЛИН. Ну, конечно, разве может русский человек!.. Уух, ты!.. Уходи с глаз моих!
Каганович падает в обморок.
СТАЛИН. Ничего, ничего, встанет! Микоян! А впрочем, тебя и просить нечего, у тебя нога куриная.
Микоян шатается.
СТАЛИН. Ты еще вздумай падать!! Молотов, снимай сапоги!!
Наконец, сапоги Молотова налезают на ноги Мише.
СТАЛИН. Ну вот так! Хорошо. Теперь скажи, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?
БУЛГАКОВ. Да что уж!.. Пишу, пишу пьесы, а толку никакого!.. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят…
СТАЛИН. Вот как! Ну, подожди, сейчас! Подожди минутку.
Звонит по телефону.
Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича. (Пауза.) Что? Умер? Когда? Сейчас? (Мише.) Понимаешь, умер, когда сказали ему.
Миша тяжко вздыхает.
Ну подожди, подожди, не вздыхай.
Звонит опять.
Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. (Пауза.) Что? Умер?! Тоже умер? Когда?.. Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди.
Звонит.
Позовите тогда кого-нибудь еще! Кто говорит? Егоров? Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса одна лежит (косится на Мишу), писателя Булгакова пьеса… Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь, но мне кажется, это хорошая пьеса… Что? По-вашему, тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете? (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты когда хочешь?)
БУЛГАКОВ. Господи! Да хыть бы годика через три!
СТАЛИН. Ээх!.. (Егорову.) Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, что вы (подмигивает Мише) могли бы ее поставить… месяца через три… Что? Через три недели? Ну, что ж, это хорошо. А сколько вы думаете платить за нее?.. (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты сколько хочешь?)
БУЛГАКОВ. Тхх… да мне бы… ну хыть бы рубликов пятьсот!
СТАЛИН. Аайй!.. (Егорову.) Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, за такую пьесу надо заплатить тысяч пядесят. Что? Шестьдесят? Ну что ж, платите, платите! (Мише.) Ну вот видишь, а ты говорил…
После чего начинается такая жизнь, что Сталин прямо не может без Миши жить – все вместе и вместе» [40; 306–309].
В этом смешном, очень гротескном рассказе (повторим, Булгаков в середине 1930-х нимало не бедствовал) всё сплелось: неприязнь и к Станиславскому, и к Немировичу-Данченко, и к заместителю директора МХАТа Н. В. Егорову, и мечта об особых отношениях с вождем, до которого, однако, доходили или могли доходить документы иного жанра.
«БУЛГАКОВ М. болен каким-то нервным расстройством, – доносил 23 мая 1935 года вхожий в булгаковский дом сексот. – Он говорит, что не может даже ходить один по улицам и его провожают даже в театр днем <…> Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика СТАНИСЛАВСКИЙ и ДАНЧЕНКО. Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставляли бы состязаться с молодежью, а здесь всё затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где, наверное бы, помолодел» [127; 333–334].
И еще из дневника Елены Сергеевны:
« 26 мая.Звонил Егоров. Он передал все дело Вл. Ив. Пусть тот решает <…> Слово за слово, и я начала на него кричать. И сказала ультимативно… Я была тверда, как камень, и не сдавалась» [21; 89, 500].
« 27 мая.О том же звонила Оля. Сказала, что хотел заседание насчет „Мольера“ устроить завтра, двадцать восьмого, но назначена репетиция „Мольера“ у К. С. и все там заняты, а главное К. С. Я говорю: – Это смешно. Какая репетиция? Раньше надо было с автором договориться, это самое важное».
« 28 мая. <…>звонок Оли:
– Театр хочет ставить „Мольера“. Не может быть и речи о том, чтобы отдать пьесу. Вл. Ив. просит, чтобы я согласилась на срок 15 января тридцать шестого года. – Раньше невозможно приготовить. Будет ставить режиссура, не К. С. Победа!» [21; 90, 500]
По крайней мере так ей казалось, что они победили, позднее слово «победа» она из дневника изъяла. «В тот майский день Регистру булгаковской жизни, его верной и любящей спутнице, надо было поставить самой большой черный крест» [125; 294 295], – несколько назидательно прокомментировал эту мысль А. М. Смелянский, но едва ли с ним можно в данном случае согласиться. Со Станиславским или без него – «Мольер» был обречен. И чем быстрее эта пытка закончилась бы, тем было бы лучше. Глупо давать задним числом советы, глупо вообще на эту тему рассуждать, но чем больше вникаешь в бесконечно долгий и мучительный сюжет «Михаил Булгаков в Художественном театре», тем сильнее становится ощущение, что Булгакову давно нужно было уходить, бежать из «спасительной гавани» МХАТа. Его театральный роман чересчур затянулся и тянул из него все жизненные соки. Но самое ужасное ждало его впереди.
Осенью 1935 года МХАТом вплотную занялась партийная верхушка. В этом разборе полетов нашлось место и Булгакову. 17 сентября член ЦК А. С. Щербаков представил в Политбюро докладную записку о положении дел в главном драматическом театре страны:
«Положение театра не улучшается, а ухудшается. Руководство МХАТ К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко театром совершенно не интересуются. Они больше заняты своими оперными театрами. Все более обостряющаяся взаимная склока между ними совершенно уничтожила единое руководство МХАТом. В театре сейчас две линии, два лагеря, вербующие своих сторонников, втягивающие актеров и режиссеров в мелкие интриги и дрязги. Созданы два секретариата, усиленно раздувающие склочную атмосферу. <…> Производственная дисциплина очень низкая. Работа над новыми пьесами затягивается на весьма продолжительное время. Так, например, пьеса „Мольер“ Булгакова начала репетироваться, когда закладывалась первая шахта метро, и эта пьеса до сих пор не готова» [29; 267–268].
Хотя документ оставался секретным, в октябре в центральных газетах, в том числе в «Правде», появилось несколько фельетонов, в которых МХАТ высмеивался за проволочки с «Мольером». До публичной поименной критики в адрес Станиславского дело не дошло, но всем заинтересованным лицам было понятно, что и кто имеется в виду.
Булгаков таким образом на время оказался не в привычной для себя роли критической мишени, а был представлен как жертва театрального бюрократизма. Елена Сергеевна этой общественной защите радовалась («…Афиногенов благословил Театр фельетоном о том, что пьесы бесконечно репетируют, и даже по четыре года. Прямо праздник на душе! Так им и надо, подлецам!» [21; 515]), Булгаков – трудно сказать, как к непривычному амплуа отнесся, а уж тем более к защите со стороны Афиногенова – он к таким милостям не привык и мог почувствовать в них троянский подвох. Но осенью 1935 года, когда его имя и его пьеса были едва ли не впервые упомянуты в советской печати в неотрицательном контексте, вступивший за год до этого в Союз советских писателей автор обратился к ответственному секретарю Союза тов. А. С. Щербакову со своими личными заботами:
«Уважаемый товарищ!
Проживая в настоящее время с женою и пасынком 9 лет в надстроенном доме Советского писателя (Нащокинский пер., № 3), известном на всю Москву дурным качеством своей стройки и, в частности, чудовищной слышимостью из этажа в этаж, в квартире из трехкомнат, я не имею возможности работать нормально, так как у меня нет отдельной комнаты.
Ввиду этого, а также потому, что у моей жены порок сердца (а мы живем слишком высоко), я обратился в правление РЖСКТ Советского Писателя с просьбою о том, чтобы мне, вместо моей теперешней квартиры, предоставили четырехкомнатную во вновь строящемся доме в Лаврушинском переулке, по возможности, не высоко.
Я прошу Союз поддержать мое заявление» [131; 181–182].
В этом смысле осень 1935 года, когда всё шло к тому, что у Булгакова должно будет состояться целых три премьеры – «Мольера», «Александра Пушкина» и «Ивана Васильевича», – и ничто не предвещало беды, была неким одиноким пиком его симфонических отношений с соввластью либо, по меньшей мере, надежд на таковые. Недаром именно в 1935-м некогда проспавший демонстрацию против лорда Керзона писатель отправился ни много ни мало на Красную площадь.
«7 ноября.Проводила М. А. утром на демонстрацию. Потом рассказывал – видел Сталина на трибуне, в серой шинели, в фуражке» [21; 100].
Какими глазами он на него смотрел, что думал, какие чувства испытывал в толпе ликующих советских демонстрантов, гадал ли, почему вождь не захотел его принять и поддержать, почему то разрешал, то запрещал его пьесы и не отпускал за границу, обдумывал ли уже тогда Булгаков будущую пьесу о Сталине, сочинял ли очередную устную новеллу об их дружбе или размышлял над природой народного обожания и пытался разобраться в собственных чувствах и насколько разделял всеобщую любовь к тирану – все это одному Богу ведомо. Однако ближе подойти и разглядеть человека, личность которого его мучила и влекла родом неясного недуга, Булгакову не удалось. Да и квартиру в Лаврушинском ему не дали, в чем позднее обвинит писатель не кого-нибудь, а Станиславского, и именно «роскошную громаду восьмиэтажного, видимо, только что построенного» «Дома драматурга и литератора» разгромит нагая ведьма на метле. Эта мстительная сцена будет написана позднее, однако недаром было сказано человеком, чье великое имя носила писательская ресторация в «Мастере и Маргарите»: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Два этих состояния были слишком легко взаимозаменяемы, и Булгакову оставалось недолго пребывать в театральном блаженстве. Его Мольер, его «Мольер» неуклонно двигался к гибельной премьере, разрушая всё на своем пути и сокращая число земных дней своего создателя.
Фактически отстраненный от работы Станиславский уже никак не мог вмешиваться ни в ход репетиций, ни в судьбу спектакля, ни в судьбу театра, который он создал без малого четыре десятка лет назад. «Я теперь безработный в Театре» [21; 99], – привела его слова в дневнике Елена Сергеевна, и, хотя именно ее супруг стал косвенной тому причиной, никакого сочувствия к Станиславскому у нее не было. Не было, да и не могло быть сочувствия и у Булгакова. Не было и обратного сочувствия: Станиславского к Булгакову. Был полный разлад между теми, кто обменивался восторженными эпистолами в 1930 году при поступлении затравленного писателя на службу в МХАТ.
«Мне пришлось поработать с Вами лишь на нескольких репетициях „Турбиных“, и я тогда почувствовал в Вас – режиссера (а может быть, и актера?!). Мольер и многие другие совмещали эти профессии с литературой» [13; 228] – какой горькой иронией отдавали эти приветственные строки Станиславского пять лет спустя.
«У меня много претензий к автору, а затем и к вам, и к актерам, – сказал Станиславский Горчакову в ноябре 1935 года. – Выпускайте спектакль на свою ответственность» [12; 451].
Эту ответственность взял на себя В. И. Немирович-Данченко.
«Положение мое с этой постановкой – необычайное, – говорил он, выступая перед актерами 31 декабря 1935 года. – Фактически спектакль поставлен вами самими, так как 14 репетиций, которые провел Константин Сергеевич, – не так уж много…»
А дальше полетели камушки в огород Станиславского: «Самый большой здесь общий недостаток, который всегда был в Художественном театре, с которым я всегда боролся. Берется в работу пьеса и сразу начинается с того, что не верят автору. Так было с пьесами „Три сестры“, „Сердце не камень“ и др. Автору не верят: это у него банально, это не так и т. д. Начинается переделка. <…> Но для каждой пьесы есть какой-то предел, который не проходит безнаказанно для спектакля <…> За результат этого спектакля я не боюсь. В целом он будет принят хорошо» [12; 430].
Нашлись у Немировича хорошие слова и для автора. Причем они были не просто произнесены в частной беседе или где-то на репетиции, но опубликованы накануне премьеры в мхатовской многотиражке «Горьковец», которой очень скоро надлежало сыграть весьма скверную роль в булгаковской судьбе, однако пока что газета была еще на его стороне, еще никто не знал, как на самом деле будет принят спектакль и чем обернется премьера, пока верилось в хорошее, и за всю свою творческую жизнь Михаил Булгаков никогда ничего подобного о себе в советской печати не читал и не прочитает: «…хочется сказать несколько слов об авторе. Мне хочется подчеркнуть то, что я говорил много раз, что Булгаков едва ли не самый яркий представитель драматургической техники. Его талант вести интригу, держать зал в напряжении в течение всего спектакля, рисовать образы в движении и вести публику к определенной заостренной идее – совершенно исключителен, и мне сильно кажется, что нападки на него вызываются недоразумениями» [125; 308]. Увы! Чем угодно эти нападки объяснялись, но только не недоразумениями.