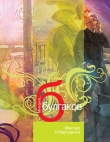Текст книги "Михаил Булгаков"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 61 страниц)
Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид. Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке, и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку.
Есть верный, строгий и зоркий страж у Соввласти, это – Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разрешите отметить то обстоятельство, что эта книга (1 ее часть) уже прочитана аудитории в 48 человек, из которых 90 процентов – писатели сами. Поэтому ее роль, ее главное дело уже сделано, даже в том случае, если она и не будет пропущена Главлитом: она уже заразила писательские умы слушателей и обострит их перья. А то, что она не будет напечатана (если „не будет“), это-то и будет роскошным им, этим писателям, уроком на будущее время, уроком, как не нужно писать для того, чтобы пропустила цензура, т. е. как опубликовать свои убеждения и пропаганду, но так, чтобы это увидело свет…
Мое личное мнение: такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях „Всероссийского Союза Поэтов“».
Далее последовал отчет о второй части.
Сводка Секретного отдела О ГПУ № 122:
«Вторая и последняя часть повести Булгакова „Собачье сердце“ (о первой части я сообщил Вам двумя неделями ранее), дочитанная им на „Никитинском субботнике“, вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему:
Очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем, все более и более. Стала развратной: делала гнусные предложения горничной профессора. Но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом: на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявлении коммунистического образа мышления. Все это вывело профессора из себя, и он разом покончил с созданным им самим несчастием, а именно: превратил очеловеченную собаку в прежнего, обыкновенного пса.
Если и подобно грубо замаскированные (ибо все это „очеловечение“ – только подчеркнуто-заметный, небрежный грим) выпады появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице, изнемогающей не меньше нас от книжного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального, хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас.
24 марта 1925 года» [154; 6–8].
Надо отдать должное неведомому доносчику: он достаточно подробно и точно сумел изложить основное содержание повести (особенно первой ее части), но самое интересное в этом сюжете то, как ему удалось все это записывать во время чтения. Сама Евдоксия Федоровна Никитина – издательница и хозяйка салона, несомненно была связана с ГПУ.
Как полагает допущенный в архивы КГБ В. Шенталинский, впервые на Булгакова обратили внимание на Лубянке в 1922 году. «Секретный отдел ОГПУ выловил заметку, появившуюся в ноябрьском номере берлинского журнала „Новая русская книга“ за 1922 год. Некто Булгаков Михаил Афанасьевич сообщал, что он затевает составление „полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами“, и потому просил „всех русских писателей во всех городах России и за границей“ присылать ему „автобиографический материал“. Автор заметки призывал все газеты и журналы перепечатать его обращение. Замысел, что и говорить, грандиозный! А главное – самодеятельный, неподконтрольный. Кто этот новоявленный Брокгауз и Ефрон? За личиной самонадеянного биографа угадывался литератор: „Желателен материал с живыми штрихами“, а следующая фраза: „Особенная просьба к начинающим, о которых почти или совсем нет материала“, – этот акцент на молодых словно намекал, что и сам автор – новичок в литературе. Впрочем, удостовериться во всем этом не составляло большого труда – тут же был указан адрес: Москва, Большая Садовая, 10, квартира 50» [33]33
Полный текст этого объявления выглядел так: «М. А. Булгаков работает над составлением полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами. Полнота словаря зависит в значительной мере от того, насколько отзовутся сами писатели на эту работу и дадут о себе живые и ценные сведения. Автор просит всех русских писателей во всех городах России и за границей присылать автобиографический материал по адресу: Москва, Б. Садовая, 10, кв. 50. Михаилу Аф. Булгакову.
Нужны важнейшие хронологические даты, первое появление в печати, влияние крупных старых мастеров и литературных школ и т. д. Желателен материал с живыми штрихами.
Особенная просьба к начинающим, о которых почти или совсем нет критического или биографического материала.
Лица, имеющие о себе критические отзывы, благоволят указать, кем они написаны и где напечатаны.
Просьба ко всем журналам и газетам перепечатать это сообщение. Москва, 6 октября 1922».
[Закрыть].
Очень возможно, что именно так все и обстояло, хотя никакого криминала в действиях молодого литератора не было, а главное – его замысел так и не был реализован, и ГПУ оставило новичка на несколько лет в покое. Далее Шенталинский упоминает о попавшем на Лубянку письме двоюродного брата Булгакова Константина Петровича (Кости японского), который в мае 1924 года предложил своему кузену стать спецкором английской газеты «Дейли кроникл»: «Ты годишься… Не дрейфь… Вообще, пусти арапа…» К письму приложена рекомендация для англичанина Лоутона, в которой Константин Булгаков дает характеристику своему родственнику: «Предъявитель этого письма – мой кузен Михаил Афанасьевич Булгаков… Он молодой русский писатель и уже корреспондировал в нескольких газетах и пишет в толстых журналах. Он очень краток, но в то же время необычайно ярок и жив в описаниях и рассказах. В Москве он входит в известность. В то же время он очень энергичный человек. Вы увидите, будет ли он Вам полезен, если прочтете некоторые из его книг…» [150]
Это полезное письмо до адресата не дошло, и таким образом по вине ГПУ Булгаков, который весной 1924 года, то есть как раз в ту пору, когда он намеревался уйти от Татьяны Николаевны и начать жить с Белозерской, остро нуждался в деньгах, потерял выгодное место. По всей вероятности, писатель ничего об этом предложении (хотя неизвестно, как аукнулось бы оно ему через 10–12 лет и не был бы он обвинен в шпионаже в пользу Великобритании) не узнал, тем более что очень скоро, летом того же 1924 года, Костя японский незаконно пересек советско-польскую границу и направился в Америку, где проживала его семья, а вот об интересе родных спецслужб к своей персоне Булгаков был осведомлен и предупрежден.
В. Шенталинский об этом ничего не пишет, однако в воспоминаниях П. Н. Зайцева, организовавшего в 1924 году «кружок писателей-фантазеров, „фантастических“ писателей», содержится упоминание о том, как на одном из заседаний «Булгаков сделал краткое сообщение, что его вызывали, говорили, что кружок привлекает к себе внимание, и сказали, что кружок необходимо закрыть…» [142; 228].
Далее в сюжете «Мастер и ГПУ» последовали уже цитировавшиеся доносы о «Собачьем сердце» весной 1925-го, а в начале 1926-го агентурно-осведомительная сводка № 4 сообщила: «В Москве функционирует клуб литераторов „Дом Герцена“ (Тверской бульвар, 25), где сейчас главным образом собирается литературная богема и где откровенно проявляют себя: Есенин, Большаков, Буданцев (махровые антисемиты), Зубакин, Савкин и прочая накипь литературы. Там имеется буфет, после знакомства с коим и выявляются их антиобщественные инстинкты, так как, чувствуя себя в своем окружении, ребята распоясываются. Желательно выявить физиономию писателя М. Булгакова, автора сборника „Дьяволиада“, где повесть „Роковые яйца“ обнаруживает его как типичного идеолога современной злопыхательствующей буржуазии. Вещь чрезвычайно характерная для определенных кругов общества».
В феврале в Колонном зале Дома союзов состоялся диспут под названием «Литературная Россия». Булгаков, по словам тайного агента, вел себя очень раскрепощенно, говорил о том, что «надоело писать о героях в кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно надоело». «Нужно писать о человеке» [150].
Следующим шагом властей стал обыск в комнате Булгакова на «голубятне» 7 мая 1926 года, инициированный письмом Г. Г. Ягоды к В. В. Молотову «произвести обыски без арестов у нижепоименованных 8-ми лиц, и по результатам обыска, о которых Вам будет доложено особо, возбудить следствие, в зависимости от результатов коего выслать, если понадобится, кроме ЛЕЖНЕВА, и еще ряд лиц по следующему списку…» [91]. В этом списке значились имена Ю. В. Ключникова, Ю. Н. Потехина, В. Г. Тан-Богораза, С. А. Адрианова, А. М. Редко, М. В. Устрялова. Седьмым в списке был Булгаков, по ошибке названный Михаилом Александровичем.
Описание обыска содержится в воспоминаниях Л. Е. Белозерской:
«…в один непрекрасный вечер на голубятню постучали (звонка у нас не было) и на мой вопрос „кто там?“ бодрый голос арендатора ответил: „Это я, гостей к вам привел!“
На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек – следователь Славкин и его помощник с обыском. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась: как-то примет он приход „гостей“, и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен придти.
Все прошли в комнату и сели. Арендатор развалясь на кресле, в центре. Личность это была примечательная, на язык несдержанная, особенно после рюмки-другой…
Молчание. Но длилось оно, к сожалению, недолго.
– А вы не слыхали анекдота, – начал арендатор… („Пронеси, господи!“ – подумала я).
– Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: „Не знаете ли вы, где тут Госстрах?“ – „Госстрах не знаю, а госужас вот…“
Раскатисто смеется сам рассказчик. Я бледно улыбаюсь. Славкин и его помощник безмолвствуют. Опять молчание – и вдруг знакомый стук.
Я бросилась открывать и сказала шопотом М. А.:
– Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.
Но он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. „Пенсне“ стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.
И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:
– Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 коп. за штуку.)
И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный. Под утро зевающий арендатор спросил:
– А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы!
Ему никто не ответил… Найдя на полке „Собачье сердце“ и дневниковые записи, „гости“ тотчас же уехали» [8; 336].
Примечательно, что некоторое время спустя после визита гостей (точнее, между 18 мая и 24 июня 1926 года) Булгаковы с «голубятни» съехали и поселились по соседству в Малом Левшинском переулке. Была ли между этими событиями – обыском и переменой места жительства – прямая связь, сказать трудно. Белозерская ни о чем подобном не упоминает, зато в ее мемуарах есть очень теплое описание их нового жилья:
«Мы переехали. У нас две маленьких комнатки – но две! – и хотя вход общий, дверь к нам все же на отшибе. Дом – обыкновенный московский особнячок, каких в городе тысячи тысяч: в них когда-то жили и принимали гостей хозяева, а в глубину или на антресоли отправляли детей – кто побогаче – с гувернантками, кто победней – с няньками. Вот мы и поселились там, где обитали с няньками. Спали мы в синей комнате, жили – в желтой. Тогда было увлечение: стены красили клеевой краской в эти цвета, как в 40-е – 50-е годы прошлого века. Кухня была общая, без газа: на столах гудели примусы, мигали керосинки. Домик был вместительный и набит до отказа. Кто только здесь не жил! Чета студентов, наборщик, инженер, служащие, домашние хозяйки, портниха и разнообразные дети <…> Окно в желтой комнате было широкое. Я давно мечтала об итальянском окне. Вскоре на подоконнике появился ящик, а в ящике настурции. Мака сейчас же сочинил:
В ночном горшке, зачем – бог весть,
Уныло вьется травка.
Живет по всем приметам здесь
Какая-то босявка…» [8; 352–353]
Но вернемся к обыску и тому, что было у писателя конфисковано. Помимо «Собачьего сердца», с которым все было более или менее ясно, и об этой повести в органах имели благодаря профессионализму стукачей адекватное представление, у Булгакова был отобран дневник, а также ходившее в списках стихотворение под названием «Послание „евангелисту“ Демьяну», ставшее самиздатовским ответом на напечатанный в «Правде» похабнейший текст Демьяна Бедного «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна».
ПОСЛАНИЕ «ЕВАНГЕЛИСТУ» ДЕМЬЯНУ
Я часто размышлял, за что его казнили,
За что Он жертвовал своею головой?
За то ль, что, враг суббот,
Он против всякой гнили
Отважно поднял голос свой?
За то ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом Кесаря полны и свет, и тень,
Он с кучкой рыбаков из местных деревень
За Кесарем признал лишь силу злата?
За то ль, что, разорвав на части лишь себя,
Он к горю каждого был милосерд и чуток
И всех благословлял, мучительно любя,
И маленьких детей, и грязных проституток?
Не знаю я, Демьян, в «Евангелье» твоем
Я не нашел ответа.
В нем много бойких слов,
Ох, как их много в нем,
Но слова нет, достойного поэта.
Я не из тех, кто признает попов,
Кто безотчетно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов,
Молясь у каждого церковного порога.
Я не люблю религию раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба –
Я верю в знание и силу человека.
Я знаю, что, стремясь по чудному пути,
Здесь, на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти
Воистину к божественным пределам.
И все-таки, когда я в «Правде» прочитал
Неправду о Христе блудливого Демьяна,
Мне стыдно стало так, как будто я попал
В блевотину, низверженную спьяна.
Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос –
Далекий миф. Мы это понимаем,
Но все-таки нельзя, как годовалый пес,
На все и вся захлебываться лаем.
Христос – сын плотника – когда же был казнен,
(Пусть это миф), но все ж, когда прохожий
Спросил его: «Кто ты?» – Ему ответил Он:
«Сын человеческий», а не сказал: «Сын Божий».
Пусть миф Христос, пусть мифом был Сократ,
И не было Его в стране Пилата,
Так что ж, от этого и надобно подряд
Плевать на всё, что в человеке свято?
Ты испытал, Демьян, всего один арест,
И ты скулишь: «Ох, крест мне выпал лютый!»
А что ж, когда б тебе голгофский дали б крест?
Иль чашу с едкою цикутой, –
Хватило б у тебя величья до конца
В последний раз, по их примеру тоже,
Благословлять весь мир под тернием венца
И о бессмертии учить на смертном ложе?
Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел его своим пером нимало.
Разбойник был, Иуда был.
Тебя лишь только не хватало.
Ты сгустки крови у креста
Копнул ноздрей, как толстый боров.
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.
Но ты свершил двойной и тяжкий грех
Своим дешевым балаганным вздором:
Ты оскорбил поэтов вольный цех
И скудный свой талант покрыл позором.
Ведь там, за рубежом, прочтя твои «стихи»,
Небось злорадствуют российские кликуши:
«Еще тарелочку Демьяновой ухи,
Соседушка, мой свет, пожалуйста, откушай!»
А русский мужичок, читая «Бедноту»,
Где образцовый блуд печатался дуплетом,
Еще отчаянней потянется к Христу,
Тебе же мат пошлет при этом [59].
Трудно сказать, кто был автором этого произведения. Высказывалось предположение о том, что его написал Сергей Есенин, хотя еще в апреле 1926 года сестра Есенина Екатерина заявила в «Вечерней Москве»: «…категорически утверждаю, что это стихотворение брату моему не принадлежит» [59], и действительно трудно предположить, чтобы Есенин написал такие неудачные в художественном отношении стихи. Но писал или не писал их Есенин, примечательно, что через две недели после обыска у Булгакова следователь С. Г. Гендин вызвал на допрос самодеятельного поэта Николая Горбачева, который признался в авторстве стиха и был наказан тремя годами ссылки в Сибирь.
Булгаков, хоть и не писал возмутительных виршей, тем не менее выступил в качестве автора прозаических дневниковых строк, за которые вернее, чем за «двусмысленные» литературные произведения, можно было угодить в места не столь отдаленные. Его дневник содержал много всякой политической и прочей крамолы: там были записи по поводу советского строя и его вождей («…за последние два месяца произошло много важнейших событий. Самое главное из них, конечно, – раскол в партии, вызванный книгой Троцкого „Уроки Октября“, дружное нападение на него всех главарей партии во главе с Зиновьевым, ссылка Троцкого под предлогом болезни на юг и после этого – затишье. Надежды белой эмиграции и внутренних контрреволюционеров на то, что история с троцкизмом и ленинизмом приведет к кровавым столкновениям или перевороту внутри партии, конечно, как я и предполагал, не оправдались. Троцкого съели, и больше ничего»), и быта, и внешней и внутренней политики, и отношения к властям предержащим:
«Какая-то совершенно невероятная погода в Москве – оттепель, все распустилось и такое же точно, как погода, настроение у москвичей. Погода напоминает февраль, и в душах февраль.
– Чем все это кончится? – спросил меня сегодня один приятель. Вопросы эти задаются машинально и тупо, и безнадежно, и безразлично, и как угодно. В его квартире как раз в этот момент, в комнате через коридор, пьянствуют коммунисты. В коридоре пахнет какой-то острой гадостью, и один из партийцев, по сообщению моего приятеля, спит пьяный, как свинья. Его пригласили, и он не мог отказаться.
С вежливой и заискивающей улыбкой ходит к ним в комнату. Они его постоянно вызывают. Он от них ходит ко мне и шепотом их ругает. Да, чем-нибудь это всё да кончится. Верую».
Наконец, дневник содержал прямой выпад против политики государственного атеизма, оставляющий далеко позади себя вышеприведенные любительские стихи неустановленного автора:
«Сегодня специально ходил в редакцию „Безбожника“. Она помещается в Столешн<иковом> пер<еулке>, вернее, в Козмодемьяновском, недалеко от Моссовета. Был с М. С, и он очаровал меня с первых же шагов.
– Что, вам стекла не бьют? – спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.
– То есть, как это? (растерянно)
– Нет, не бьют (зловеще).
– Жаль.
Хотел поцеловать его в его еврейский нос. Оказывается, комплекта за 1923 год нет. С гордостью говорят – разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год, 12-й еще не вышел. Барышня, если можно так назвать существо, дававшее мне его, неохотно дала мне его, узнав, что я частное лицо.
– Лучше я б его в библиотеку отдала.
Тираж, оказывается, 70 000 и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, входят, приходят; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы.
– Как в синагоге, – сказал М., выходя со мной. <…> Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера „Безбожника“, был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально – Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены».
Словом, материала тут хватало и на Соловки, и на Нарым, и на Туркестан. Если учесть, что обыск у Булгакова проводился не просто так, а потому, что весной 1926 года по решению очередного съезда партии началась планомерная ликвидация сменовеховства как класса, к которому нашего героя – хотел он того или нет – причисляли, остается лишь удивляться, что его не тронули, не выслали и не запретили к служению, по сочувственно-ироническому отзыву А. М. Горького.
В то же время, если отвлечься от повышенной эмоциональности, раздражительности и едкости автора дневника, можно заметить, что в арестованном тексте не было ничего крамольного в адрес Ленина или Сталина, зато приведено достаточно высказываний, направленных против Троцкого, Зиновьева и Рыкова («Если бы к „рыковке“ добавить „семашковки“, то получилась бы хорошая „совнаркомовка“». «Рыков напился по смерти Ленина по двум причинам: во-первых, с горя, а, во-вторых, от радости». «Троцкий теперь пишется „Троий“ – ЦК выпало <…> Вечером была Л. Л. и говорила, что есть на свете троцкисты. Анекдот: когда Троцкий уезжал, ему сказали: „Дальше едешь, тише будешь“».). Таким образом, Булгаков вольно или невольно, но совпадал с генеральной линией партии, причем не только в ее настоящем, но и в будущем. Кроме того, им было высказано однозначно отрицательное отношение к попыткам реставрации монархии: «Был сегодня Д. К<исельгоф>. Тот, по обыкновению, полон фантастическими слухами. Говорит, что будто по Москве ходит манифест Николая Николаевича. Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало».
Помимо этого общая искренность и определенная интимность записей без оглядки на возможную перлюстрацию свидетельствовали о лояльности пишущего к новой власти и о неучастии в контрреволюционных заговорах. У человека непредубежденного и неглупого, не фанатика революционной идеи, а нормального профессионала спецслужб автор дневника должен был вызвать скорее доверие, чем подозрение.
Трудно сказать, водились ли в то время на Лубянке такие профессионалы, во всяком случае, как пишет Шенталинский, «в позднейшем обзорном документе, пышно именуемом – „Меморандум“ <…> говорится <что> во время закрытия лежневской „России“ у ряда бывших сменовеховцев, в том числе и у Булгакова, был произведен обыск. У Булгакова были изъяты его дневники, характеризующие автора как несомненного белогвардейца» [150].
Однако – никаких репрессивных мер к «белогвардейцу» применено не было, зато сам он повел себя отнюдь не как недорезанный большевиками помещик из числа тех, кто, по выражению Филиппа Преображенского, закусывает водку супом.
Он пошел в атаку и написал текст следующего содержания.
В ОГПУ
литератора
Михаила Афанасьевича Булгакова,
проживающего в г. Москве, в Чистом (б. Обуховском) пер. в д. № 9, кв. 4.
Заявление
При обыске, произведенном у меня представителями ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у меня были изъяты с соответствующим занесением в протокол – повесть моя «Собачье сердце» в 2 экземплярах на пишущей машинке и 3 тетради, написанные мною от руки, черновых мемуаров моих под заглавием «Мой дневник». Ввиду того, что «Сердце» и «Дневник» необходимы мне в срочном порядке для дальнейших моих литературных работ, а «Дневник», кроме того, является для меня очень ценным интимным материалом, прошу о возвращении мне их.
Михаил Булгаков.
18-го мая 1926 г.
г. Москва [13; 146–147].
Не получив ответа, Булгаков обратился с письмом к Рыкову, тому самому, кто, к неудовольствию Филиппа Филипповича, опустил градус «новоблагословенной» водки до 30.
Председателю Совета народных комиссаров
литератора Михаила Афанасьевича Булгакова
Заявление
7-го мая с. г. представителями ОГПУ у меня был произведен обыск (ордер № 2287, дело 45), во время которого у меня были отобраны с соответствующим занесением в протокол следующие мои, имеющие для меня громадную ценность, рукописи:
Повесть «Собачье сердце» в 2-х экземплярах
и «Мой дневник» (3 тетради).
Убедительно прошу о возвращении мне их.
Михаил Булгаков.
Адрес: Москва, Малый Левшинский, 4, кв. 1.
24 июня 1926 года [13; 148].
Но и там ничего не ответили на эту граничащую с наглостью настойчивость интеллигента, за спиной которого, можно подумать, не было ни сомнительного происхождения – раз, ни службы у белых – два, ни контрреволюционных сочинений – три, ни родственников за границей – четыре.
Булгаков откровенно нарывался на грубость, и трудно сказать, чего здесь было больше – чистой оскорбленности, гнева или трезвого расчета. Если учесть, что в качестве одной из мер наказания предполагалась ни больше ни меньше высылка за границу, то, как знать, может быть, он действительно сознательно или бессознательно добивался того, чтобы последовать за Лежневым, и тогда уж, будьте благонадежны, никогда бы не вернулся в страну Шариковых и Швондеров. Но… не судьба.
В сентябре 1926 года Булгакова вызвали, точнее, доставили на допрос в ГПУ. Следственные действия проводились давно наблюдавшим за писателем 24-летним заместителем начальника 6-го отделения КРО ОГПУ СССР С. Г. Гендиным, а протокол строго секретного, как и все вышепроцитированное, документа был любезно предоставлен обновившимися и перестроившимися органами КГБ СССР в 1989-1990 годах.
22 сентября 1926 года
ОГПУ
Отдел… Секретный к делу…
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1926 г. сентября месяца 22 дня, Я, Уполн. 5 отд. секр. отдела ОГПУ Гендин допрашивал в качестве обвиняемого (свидетеля) гражданина Булгакова М. А. и на первоначально предложенные вопросы он показал:
1. Фамилия Булгаков.
2. Имя, отчество Михаил Афанасьевич.
3. Возраст (год рождения) 1891 (35).
4. Происхождение (откуда родом, кто родители, национнальность, гражданство или подданство) Сын статского советника, профессора Булгакова.
5. Место жительство (постоянное и последнее) М. Левшинский пер., д. 4. кв. 1.
6. Род занятий (последнее место службы и должность) Писатель-беллетрист и драматург.
7. Семейное положение (близкие родственники, их имена, фамилии, адреса, род занятий до революции и последнее время). Женат вторым браком. Фамилия жены – Белозерская Любовь Евгеньевна – дом. хоз.
8. Имущественное положение (до и после революции допрашиваемого и родственников) Нет.
9. Образовательный ценз (первонач. образование, средняя школа, высшая, специальн., где, когда и т. д.) Киевская гимназия в 1909 г., Университет, медфак в 1916 г.
10. Партийность и политические убеждения. Беспартийный. Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту и, благодаря складу моего ума, отношусь к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях.
11. Где жил, служил и чем занимался:
а) до войны 1914 г.
б) с 1914 г. до Февральской революции 17 года. Киев, студент медфака до 16 г., с 16 г. – врач;
в) где был, что делал в Февральскую революцию 17 г., принимал ли активное участие и в чем оно выразилось. Село Никольское Смоленской губ. и гор. Вязьма той же губ.
г) с Февральской революции 17 г. до Октябрьской революции 17 г. Вязьма, врачом в больнице.
д) где был, что делал в Октябрьскую революцию 17 г. Также участия не принимал.
е) с Октябрьской революции 17 г. по настоящий день. Киев – до конца авг. 19 г. с авг. 19 до 1920 г. во Владикавказе, с мая 20 по авг. в Батуме в Росте, из Батума в Москву, где и проживаю по сие время.
12. Сведения о прежней судимости (до Октябр. революции и после нее). В начале мая с/г производился обыск.
13. Отношения допрашиваемого свидетеля к обвиняемому. (…)
Записано с моих слов верно: записанное мне прочитано (подпись допрашиваемого). Михаил Булгаков, (см. лист 2-й).
Показания по существу дела:
Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. в гор. Владикавказе, при белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России [34]34
Подчеркнуто ОГПУ.
[Закрыть]. С Освагом связан не был, предложений о работе в Осваге не получал. На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1920 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением.В момент прихода Красной Армии я находился во Владикавказе, будучи болен возвратным тифом. По выздоровлении стал работать с Соввластью, заведывая ЛИТО Наробраза. Ни одной крупной вещи до приезда в Москву нигде не напечатал. По приезде в Москву поступил в ЛИТО Главполитпросвета в кач. секретаря. Одновременно с этим начинал репортаж в московской прессе, в частности, в «Правде». Первое крупное произведение было напечатано в альманахе «Недра» под заглавием «Дьяволиада», печатал постоянно и регулярно фельетоны в газете «Гудок», печатал мелкие рассказы в разных журналах. Затем написал роман «Белая гвардия», затем «Роковые яйца», напеч. в «Недрах» и в сборнике рассказов. В 1925 г. написал повесть «Собачье сердце», нигде не печатавшееся. Ранее этого периода написал повесть «Записки на манжетах».Записано с моих слов верно.
М. Булгаков.
(обрез верха листа) были напечатаны «Дьяволиада» и «Роковые яйца». «Белая гвардия» была напечатана только двумя третями и недопечатана вследствие закрытия, т. е. прекращения, толстого журнала «Россия».
«Повесть о собачьем сердце» не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, т. к. подпала под влияние фракции. Это произведение я читал на «Никитинских субботниках», редактору «Недр» – т. Ангарскому и в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича и в «Зеленой лампе». В Никитинских субботниках было человек 40, в «Зеленой лампе» человек 15 и в кружке поэтов человек 20. Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание“.
Вопр.:Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке «Зеленая лампа»?
Отв.:Отказываюсь по соображениям этического порядка.
Вопр.:Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая подкладка?
Отв.:Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю.
М. Булгаков.
А далее следовал своего рода «эпилог», написанный рукой самого допрашиваемого.
«На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать. Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.
Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.
Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу! Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я – сатирик).
22 сентября 1926 г.
Михаил Булгаков» [13; 156 159].
Прочитав эти строки, можно сказать одно: браво! Это был блестяще исполненный моноспектакль, честная игра, уверенная, безошибочная, смелая, лишенная хотя бы одной фальшивой ноты.
«Правду говорить легко и приятно».
Он ведь действительно сказал почти всю правду. За исключением того, что служил врачом у белых, что в Батуме ни в каком «Росте» не сотрудничал, а хотел отплыть из России в эмиграцию – но в конце концов об этом говорили его «Записки на манжетах». Он верил в прочность советской власти, а как иначе: пролившая столько винной и невинной крови, на его век она себе незыблемость обеспечила. Он видел и высмеивал недостатки советской жизни – но кто их не видел и разве он в чем-то солгал? Не любил деревню, в которой провел полтора года, однако нелюбовь к кулацкой деревне уж точно не считалась в раннем советском обществе преступлением. Любил русскую интеллигенцию, хотя и признавал ее пороки, и во всем этом была честная и искренняя позиция человека, которому нечего скрывать.