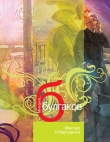Текст книги "Михаил Булгаков"
Автор книги: Алексей Варламов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 61 страниц)
Но – не Булгакова. Этот был кем угодно, только не дипломатом. Скорее – взрывотехником.
Сюжет «Роковых яиц» – история о том, как профессор зоологии Владимир Ипатьевич Персиков открыл фантастический луч, ускоряющий рост всего живого, и о последствиях, к которым это великое открытие, нарушившее эволюцию в революционной стране, привело, – хорошо известен. Известно также, что финал предполагался иным. «В повести испорчен конец, п<отому> ч<то> писал я ее наспех», – отметил в дневнике Булгаков. А как вспоминал один из слушателей авторского чтения, вылупившиеся из яиц чудовищные змеи должны были достичь Москвы и – «заключительная картина – мертвая Москва и огромный змей, обвившийся вокруг колокольни Ивана Великого… Тема веселенькая!» [118]. Схожую концовку желал бы увидеть в «Роковых яйцах» и пребывавший на момент ее публикации за границей М. Горький, который 8 мая 1925 года писал «серапионову брату» Михаилу Леонидовичу Слонимскому: «Булгаков очень понравился мне, очень, но он не сделал конец рассказа. Поход пресмыкающихся на Москву не использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина!» [118]
Маяковский в статье «Доклад об американских впечатлениях», опубликованной в ленинградском вечернем выпуске «Красной газеты», писал о том, что американские газеты выдали фабулу повести «Роковые яйца» за реальное драматическое происшествие в Москве.
О «Роковых яйцах» отозвался другой великий – набравший силу лефовский критик Виктор Борисович Шкловский, которого Булгаков помнил по Киеву 1918 года и которого в «Белой гвардии» вывел в образе «антихриста» Шполянского:
«Как пишет Михаил Булгаков?
Он берет вещь старого писателя, не изменяя строение и переменяя его тему. <…>
Возьмем один из типичных рассказов Михаила Булгакова „Роковые яйца“.
Как это сделано?
Это сделано из Уэллса.
Общая техника романов Уэллса такова: изобретение не находится в руках изобретателя. <…>
Два ученых открывают вещество, примесь которого к пище позволяет росту молодого животного продолжаться вечно.
Они делают опыты над цыплятами. Вырастают огромные куры, опасные для человека.
Одновременно один посредственный ученый украл пищу. Он не умел обращаться с ней. Пища попала к крысам. Крысы стали расти. Стала расти гигантская крапива. Человечество стало терпеть неисчислимые убытки.
Одновременно растут и добрые великаны, потомки ученых. Им пища пошла впрок. Но люди ненавидели и их. Готовится бой.
Здесь кончается роман Уэллса.
Роман, или рассказ, Михаила Булгакова кончился раньше.
Вместо крыс и крапивы появились злые крокодилы и страусы.
Самоуверенный пошляк-ученый, который, похитив пищу, вызвал к жизни силы, с которыми не мог справиться, заменен самоуверенным „кожаным человеком“.
Произведена также контаминация, то есть соединение, нескольких тем в одну.
Змеи, наступающие на Москву, уничтожены морозом. <…>
Я не хочу доказывать, что Михаил Булгаков плагиатор. Нет, он способный малый, похищающий „Пищу богов“ для малых дел.
Успех Михаила Булгакова – успех вовремя приведенной цитаты» [151; 300].
Но Булгакова ждали дела большие, и, как ни пытался впоследствии Шкловский роль своего противника принизить, утверждая в «Гамбургском счете», что «Булгаков у ковра», весь его недружелюбный пассаж, включая последнюю крылатую фразу, обнаруживает либо глухоту (что маловероятно), либо сознательное «тугое ухо» Шкловского и своего рода месть за Шполянского. Шкловский не мог не заметить того, что в «Роковых яйцах» масса замечательных, а главное оригинальных страниц, смешных и страшных эпизодов, социальных сближений и сопоставлений, остроумных пророчеств на тему недалекого будущего Москвы, из которых первое место следует отдать пророчеству театральному: автор между прочим упоминает «театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского „Бориса Годунова“, когда обрушились трапеции с голыми боярами…» – фраза, восхитившая даже сурового к молодой советской литературе Р. В. Иванова-Разумника: «В повести молодого (не без таланта) Булгакова рассказывается, что Мейерхольд был убит во время постановки в 1927 году „Бориса Годунова“ <…> Не так неправдоподобно, как кажется».
Письмо это было адресовано Андрею Белому, который при чтении «Роковых яиц» на «Никитинских субботниках» присутствовал и которому повесть, в отличие от Шкловского, весьма понравилась, а это дорогого стоило, ибо перед Андреем Белым трепетала та самая литературная молодежь, которая не желала признавать Булгакова-беллетриста.
«„Петербург“ Белого – мы молились на него» [32; 494], – рассказывал Катаев М. О. Чудаковой, но Булгаков, если верить мемуарам П. Н. Зайцева, великого символиста не жаловал.
«– Ах, какой он лгун, великий лгун… Возьмите его последнюю книжку. В ней на десять слов едва наберется два слова правды! И какой он актер!» [32; 502]
То же самое подтверждает и булгаковский дневник:
«Позавчера был у П. Н. 3<айце>ва на чтении А. Белого. В комнату 3<айцева> набилась тьма народу. Негде было сесть. Была С. 3. Федорченко и сразу как-то обм<якла> и сомлела.
Белый в черной курточке. По-моему, нестерпимо ломается и паясничает.
Говорил воспоминания о Валерии Брюсове. На меня все это произвело нестерпимое впечатление. Какой-то вздор… символиста… „Брюсов дом в 7 этажей“.
Шли раз по Арбату. И он вдруг спрашивает (Белый подражал, рассказывая это в интонации Брюсова): „Скажите, Борис Николаевич, как по-Вашему – Христос пришел только для одной планеты или для многих?“ Во-первых, что я за такая Валаамова ослица вещать, а, во-вторых, в этом почувствовал подковырку…
В общем, пересыпая анекдотиками, порой занятными, долго нестерпимо говорил… о каком-то папоротнике… о том, что Брюсов был „Лик“ символистов, но в то же время любил гадости делать…
Я ушел, не дождавшись конца. После „Брюсова“ должен был быть еще отрывок из нового романа Белого.
Me
Свой роман Белый тем не менее Булгакову подарил («Глубокоуважаемому Михаилу Афанасьевичу Булгакову от искреннего почитателя, Андрей Белый»), а дневниковая запись с трижды повторяющимся словом «нестерпимо» примечательна еще и тем, что в ней выражается отношение Булгакова к авторитетам, к писателям серебряного века, и жесткие, насмешливые оценки заставляют в первую очередь вспомнить Бунина с его еще ненаписанным тогда «Чистым понедельником»: «…как-то в декабре, попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя по сцене…»
О другом вечере, на котором Белый и Булгаков читали свои произведения, сохранилось свидетельство П. Н. Зайцева, который в письме к Волошину от 7 декабря сообщал: «Мы собираемся по средам. Читали: А. Белый – свой новый роман, М. Булгаков – рассказ „Роковые яйца“» [32; 503].
Это чтение повести «Роковые яйца» было не единственным, три недели спустя Булгаков сделал в дневнике очень примечательную запись, имевшую отношение к его собственной судьбе:
«Вечером у Никитиной читал свою повесть „Роковые яйца“. Когда шел туда, ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда – сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда невыпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература. Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги „в места не столь отдаленные“». Опасения, как показали дальнейшие события, ненапрасные, причем эхо роковой повести докатилось до того времени, когда Булгакова уже не было в живых, но ею продолжало интересоваться не раз затронутое в прозе Михаила Афанасьевича ведомство.
В декабре 1940 года речь о «Роковых яйцах» шла на допросе в НКВД друга Булгакова Сергея Александровича Ермолинского:
« Вопрос:Произведение БУЛГАКОВА „Роковые яйца“ вы читали?
Ответ:Произведение „Роковые яйца“ БУЛГАКОВА я читал, когда оно было помещено в альманахе „Недра“.
Вопрос:Каково ваше мнение об этом произведении?
Ответ:Я считаю „Роковые яйца“ наиболее реакционным произведением БУЛГАКОВА из всех, которые я читал.
Вопрос:В чем заключается реакционность произведения „Роковые яйца“?
Ответ:Основной идеей этого произведения является неверие в созидательные силы революции.
Вопрос:О своем мнении вы как писатель сообщали в соответствующие органы?
Ответ:О реакционном содержании произведения „Роковые яйца“ никуда не сообщал потому, что произведение было опубликовано в печати.
Вопрос:С БУЛГАКОВЫМ вы говорили о контрреволюционном содержании этого произведения?
Ответ: „Роковые яйца“ были опубликованы задолго до моего знакомства с БУЛГАКОВЫМ, поэтому разговоров по существу произведения не было, но я помню, что БУЛГАКОВ говорил мне о том, что „Роковые яйца“ сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе, он стал рассматриваться как реакционный писатель» [76].
В достоверности булгаковского свидетельства сомневаться не приходится.
И последнее. Пожалуй, самое замечательное суждение о «Роковых яйцах» принадлежит рапповскому критику, бывшему анархисту и политическому ссыльному Иуде Соломоновичу Гроссману-Рощину, который (перепутав булгаковские инициалы) писал в статье под названием «Стабилизация интеллигентских душ и проблемы литературы»:
«Автору удается привить читателю чувство острой тревоги… Н. Булгаков как будто говорит: вы разрушили органические скрепыжизни, вы подрываете корни бытия.Мир превращен в лабораторию. Во имя спасения человечества как бы отменяется естественный порядок вещейи над всем безжалостно царит великий, но безумный, противоестественный, а потому на гибель обреченный эксперимент… Эксперимент породил враждебные силы, с которыми справиться не может. А вот естественная стихия,живая жизнь, вошедшая в свои права, положила конец великому народному несчастью» [37; 129].
Если лейтмотивом «Роковых яиц» стала катастрофа, то в «Собачьем сердце» – разруха. Если в «Роковых яйцах» Персиков выгонял с экзаменов студентов-марксистов, которые не знают, чем голые гады отличаются от пресмыкающихся, то Филипп Филиппович Преображенский гнал домком и переходил в более решительное наступление на практикующих большевиков: «Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно?»
«Собачье сердце» Булгаков писал на «голубятне» зимой 1925 года, проживая в нескольких шагах от квартиры ее главного героя, своего дядюшки – врача-гинеколога Николая Михайловича Покровского. Так традиционно было принято считать со слов таких разных женщин, как Надежда Афанасьевна Земская, Татьяна Николаевна Лаппа и Любовь Евгеньевна Белозерская. «Он отличался вспыльчивым и непокладистым характером, что дало повод пошутить одной из племянниц: „На дядю Колю не угодишь, он говорит: не смей рожать и не смей делать аборт“. Оба брата Покровских пользовали всех своих многочисленных родственниц. На Николу зимнего все собирались за именинным столом, где, по выражению М. А., „восседал как некий бог Саваоф“ сам именинник. Жена его, Мария Силовна, ставила на стол пироги. В одном из них запекался серебряный гривенник. Нашедший его считался особо удачливым, и за его здоровье пили. Бог Саваоф любил рассказать незамысловатый анекдот, исказив его до неузнаваемости, чем вызывал смех молодой веселой компании. Так и не узнал до самой смерти Николай Михайлович Покровский, что послужил прообразом гениального хирурга Филиппа Филипповича Преображенского, превратившего собаку в человека, сделав ей операцию на головном мозгу» [8; 331–332], – вспоминала Белозерская, а Татьяна Николаевна Лаппа, напротив, рассказывала, что «он тогда на Михаила очень обиделся за это».
Многочисленные современные статьи, посвященные поиску прототипа, указывают на более известных личностей: Бехтерева, Павлова и Ленина. Последнее призвано прямо сблизить Филиппа Филипповича Преображенского с Владимиром Ипатьевичем Персиковым, провозгласив их общим «родителем» вождя революции и мирового пролетариата, хотя на деле между двумя профессорами куда больше различного, чем общего. Начать с того, что Филипп Филиппович обожает оперу и ездит в Большой на «Аиду», а Владимир Ипатьевич терпеть не может этого рода искусства с той поры, как его жена сбежала с тенором Оперы Зимина в 1913 году, и когда однажды в квартире над ним «загремели страшные трубы и полетели вопли Валкирий, – радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре», то «Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник к чертовой матери».
Булгаков оперу не просто любил – боготворил, но все же его сердцу немузыкальный Персиков был милее насвистывающего арию «К берегам священным Нила» Преображенского. Милее потому, что «был очень вспыльчив, но отходчив», потому что не был гурманом, а любил чай с морошкой, потому что вместо эффектных служанок жила у него в доме «сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька». Милее потому, что заплакал, когда получил известие о том, что умерла жена, потому что действительно бескорыстно был предан науке, не искал выгоды и славы и погиб от темного, дикого народа, от которого не раз мог погибнуть и сам Булгаков.
Это ни в коей мере не освобождает профессора от ответственности за его изобретение, подрывающее естественный порядок вещей, и от мести «низших тварей» из отряда голых гадов, над которыми он проводил эксперименты, но в конце концов Владимир Ипатьич и платит за все цену сполна, принимая насильственную смерть от рук низших тварей из числа двуногих. В том числе и за ту лягушку, которая, умирая, «тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: „Сволочи вы, вот что…“».
Напротив, остающийся жить профессор Преображенский, «величина мирового значения, благодаря мужским половым железам», гурман, эстет, философ, хирург, которому нет равных в Европе, «который никого боится, а не боится потому, что вечно сыт», описан куда язвительнее. Филипп Филиппович – это парафраз тех хорошо устроившихся московских интеллигентов, которые были высмеяны Булгаковым в «Записках на манжетах» и фельетонах, с той лишь разницей, что, долго присматриваясь, пристреливаясь к фигуре внутреннего жирующего оппозиционера, автор нашел иное, более изощренное художественное решение. Он создал образ гордого, независимого и необыкновенно одаренного человека, который может позволить себе любую фронду (разумеется, в разумных пределах – невозможно представить Филиппа Филипповича, заступающегося за людей, пострадавших от большевистского режима, он к ним равнодушен так же, как и к детям Германии), потому что нащупал в прямом и переносном смысле слова интимное место власти.
Благополучие профессора в его семикомнатной квартире, в «похабной квартирке», как называет ее Шарик, его роскошные обеды («На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, – икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты – тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. „Сады Семирамиды!“ – подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой. – Сюда их, – хищно скомандовал Филипп Филиппович») – все это зиждется на охранной грамоте весьма сомнительного свойства и происхождения, и торжество в разговоре с мелкими советскими начальниками, которые безуспешно пытаются доктора уплотнить, и «печальная» фраза о том, что он не любит пролетариат, оплачиваются согласием иметь дело с растлителями несовершеннолетних из числа более крупных чинов. «Потом взволнованный голос тявкнул над головой.
– Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?
– Господа, – возмущенно кричал Филипп Филиппович, – нельзя же так. Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?
– Четырнадцать, профессор… Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.
– Да ведь я же не юрист, голубчик… Ну, подождите два года и женитесь на ней.
– Женат я, профессор.
– Ах, господа, господа!»
Выгнать этого «господина» с той же очаровательной легкостью, с какой он выгнал трех «товарищей», Филипп Филиппович Преображенский не может, и Булгаков, по большому счету, не скрывает неприязненного отношения к своему герою, что, разумеется, не отменяет формулы «героев своих надо любить». Это момент очень существенный, ибо как раз в соединении любви творца к своему созданию и доходящей до презрения неприязни к прототипу и кроется феноменальный и устойчивый успех булгаковской прозы. Но если говорить об иных, нежели Николай Михайлович Покровский, прообразах Преображенского, то «гребущий» деньги, апеллирующий к городовому профессор («– Городовой! – кричал Филипп Филиппович. – Городовой! Это и только это. И совершенно неважно – будет ли он с бляхой или же в красном кепи»), уж если на то пошло, больше всего похож ни на какого не на Ленина, не на Сеченова и не на Павлова, а на хорошо знакомого всем русским старшеклассникам по школьной программе доктора Дмитрия Старцева – Ионыча из одноименного чеховского рассказа, который тоже любил покричать и попугать. У Чехова грозный Ионыч напоминает языческого божка, а Филипп Филиппович после сытного обеда – автору очень важно эту сытость подчеркнуть – древнего пророка, кудесника, жреца, вещуна, а во время операции по превращению доброй собаки в недоброго человека – вдохновенного разбойника, спешащего убийцу и сытого вампира.
Все это, повторим, не лишает профессора своеобразного обаяния, ума и прозорливости, как не лишена этих качеств «нечистая сила» в «Мастере и Маргарите», но все же, если рассматривать образ Филиппа Филипповича не в отрыве от сюжета, восхищаясь его филиппиками про разруху не в клозетах, а в головах («Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, – мутно мечтал пес, – первоклассный деляга»), остроумными речевками – ну же кто станет спорить против того, что «водка должна быть в 40 градусов, а не в 30»? – а также замечательной уверенностью в себе и презрением к окружающему плебсу, как сыграл эту героическую личность покойный Евгений Евстигнеев в превосходном фильме Владимира Бортко, то нельзя не заметить очевидной вещи. Повесть Булгакова построена таким образом, что в первых главах профессор куражится, причем не только над мелкими советскими сошками, но и над природой, кульминацией чего и становится операция по пересадке гипофиза и семенных желез бездомному псу, а начиная с пятой главы получает за свой кураж по полной от «незаконного сына», на самом что ни на есть законном основании поселяющегося в одной из тех самых комнат, которыми Филипп Филиппович так дорожит.
«– Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, – вдруг плаксиво выговорил человек.
Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.
– Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!
Дерзкое выражение загорелось в человеке.
– Да что вы все… То не плевать. То не кури. Туда не ходи… Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет „папаши“ – это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? – Человек возмущенно лаял, – хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить!
Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. „Ну, тип“, – пролетело у него в голове.
– Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? – прищурившись, спросил он. – Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал…
– Да что вы все попрекаете – помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?
– Филипп Филиппович! – раздраженно воскликнул Филипп Филиппович, – я вам не товарищ! Это чудовищно! – „Кошмар, кошмар“, – подумалось ему.
– Уж, конечно, как же… – иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, – мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право…»
А дальше к делу подключается с позором выгнанный Швондер, и дело Филиппа Филипповича становится совсем швах.
«– Что же, – заговорил Швондер, – дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм… Зародившийся в вашей, мол, квартире.
Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.
– Гм… Вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто… Ну, одним словом…
– Это – ваше дело, – со спокойным злорадством вымолвил Швондер, – зародился или нет… В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.
– И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.
– Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите „и очень просто“ – это очень не просто.
– Как же мне не вмешиваться, – обидчиво забубнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал.
– Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право – участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ – самая важная вещь на свете».
И спасает Филиппа Филипповича лишь то обстоятельство, что один из его пациентов и могущественных покровителей, «толстый и рослый человек в военной форме» не дает хода доносу, написанному Швондером. Сатира в «Собачьем сердце» обоюдоостра: она направлена не только против пролетариев, но и против того, кто, теша себя мыслями о независимости, находится в симбиозе с их выморочной властью. Это повесть о черни и элите, к которым автор относится с одинаковой неприязнью. Но замечательно, что и публика на никитинских субботниках, и читатели советского самиздата в булгаковские 1970-е, и создатели, равно как и зрители фильма «Собачье сердце» в 1990-е увидели только одну сторону. Эту же сторону, судя по всему, увидела и власть – может быть, поэтому издательская судьба «Собачьего сердца» сложилась несчастливо. Ее очень хотел опубликовать в «Недрах» Ангарский, рассчитывая развить успех «Роковых яиц», но обминуть чуткий пролетарский орган не удалось.
«…цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь „Собачье сердце“, и он совсем падает духом. Да и живет почти нищенски. Пишет грошовые фельетоны в какой-то „Гудок“ и, как выражается, обворовывает сам себя» [24], – писал внимательно следивший за Булгаковым В. В. Вересаев М. А. Волошину в апреле 1925 года.
Тогда Ангарский пошел на крайний шаг: он предложил Булгакову написать письмо Льву Борисовичу Каменеву, о чем писателю сообщил сотрудник редакции Борис Леонтьевич Леонтьев:
«Дорогой и уважаемый Михаил Афанасьевич, Николай Семенович прислал мне письмо, в котором просит Вас сделать следующее. Экземпляр, выправленный, „Собачьего сердца“ отправить немедленно Л. Б. Каменеву в Боржом. На отдыхе он прочтет. Через 2 недели он будет в Москве и тогда не станет этим заниматься. Нужно при этом послать сопроводительное письмо – авторское, слезное, с объяснением всех мытарств и пр. и пр. Сделать это нужно через нас… И спешно!» [142; 247]
Точная дата отправки этого письма неизвестна, но известна датировка другого письма Б. Л. Леонтьева – 11 сентября 1925 года:
«Повесть Ваша „Собачье сердце“ возвращена нам Л. Б. Каменевым. По просьбе Николая Семеновича он ее прочел и высказал свое мнение: „это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя“. Конечно, нельзя придавать большого значения двум-трем наиболее острым страницам; они едва ли могли что-нибудь изменить в мнении такого человека, как Каменев. И все же, нам кажется, Ваше нежелание дать ранее исправленный текст сыграло здесь печальную роль» [142; 252].
Вообще на что рассчитывал Ангарский, как мог, по его представлениям, Каменев эту злостную и злобную сатиру даже не на революцию – черт бы с ней, а на большевистскую верхушку пропустить, не очень понятно. Видимо, надо было очень сильно Булгакова любить (и неслучайно Белозерская писала в мемуарах: «…мне довелось поговорить с Ангарским о литературе и по немногим его словам я поняла, как он знает ее и любит настоящей– не конъюнктурной – любовью <…> и по сию пору с благодарностью вспоминаю его расположение к М. А., которое можно объяснить все той же любовью к русской литературе» [8; 334]), но печальную роль сыграл не только отрицательный отзыв Каменева.
Позднее начальник Главлита Лебедев-Полянский рассказывал на секретном совещании заведующих республиканскими главлитами и облкрайлитами: «Мы очень долго возились с такими писателями, как, например, Булгаков. Мы все рассчитывали, что Булгаков как-нибудь сумеет перейти на новые рельсы, приблизиться к советскому строительству и пойти вместе с ним попутчиком, если не левым, то бы правым или средним, или каким-нибудь другим. Но действительность показала, что часть писателей пошла с нами, а другая часть писателей, вроде Булгакова, не пошла и осталась самой враждебной нам публикой до последнего момента. <…>».
А далее следовал замечательный пересказ «Собачьего сердца», который стоит того, чтобы его процитировать, ибо здесь обозначена мера советского понимания булгаковской повести:
«Какой-то профессор подхватил на улице собачонку, такую паршивенькую собачонку, никуда не годную, отогрел ее, приласкал ее, отошла собачонка. Тогда он привил ей человеческие железы. Собачонка выровнялась и постепенно стала походить на человека. Профессор решил приспособить этого человека в качестве слуги. И что же случилось? Во-первых, этот слуга стал пьянствовать и буянить, во-вторых, изнасиловал горничную, кажется. Потом стал уплотнять профессора, словом, безобразно себя вел. Тогда профессор подумал: нет, этот слуга не годится мне, и вырезал у него человечьи железы, которые ему привил, и поставил собачьи. Стал задумываться: почему это произошло? Думал, думал и говорит, надо посмотреть, чьи же это железы я ему привил. Начал обследовать больницу, откуда он взял больного человека, и установил – „понятно, почему все так вышло – я ему привил железы рабочего с такой-то фабрики“. Политический смысл тут, конечно, ясен без всяких толкований. Мы, конечно, не пустили такой роман, но характерно, что была публика так настроена, что позволяла себе подавать такие романы…» [174; 190, 192]
За Булгаковым и его новой вещью, как он и догадывался, уже давно следили. В сводке Секретного отдела ОГПУ № 110 сохранился донос одного из слушателей авторской читки:
«Был 7 марта 1925 г. на очередном литературном „субботнике“ у Е. Ф. Никитиной (Газетный, 3, кв. 7, т. 2-14-16).
Читал Булгаков свою новую повесть. Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается „очеловечение“ последней.
При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах:
1). У профессора 7 комнат. Он живет в рабочем доме. Приходит к нему депутация от рабочих, с просьбой отдать им 2 комнаты, т. к. дом переполнен, а у него одного 7 комнат. Он отвечает требованием дать ему еще и 8-ю. Затем подходит к телефону и по № 107 заявляет какому-то очень влиятельному совработнику „Виталию Власьевичу“ (?), что операции он ему делать не будет, прекращает практику вообще и уезжает навсегда в Батум, т. к. к нему пришли вооруженные револьверами рабочие (а этого на самом деле нет) и заставляют его спать на кухне, а операции делать в уборной. Виталий Власьевич успокаивает его, обещая дать „крепкую“ бумажку, после чего его никто трогать не будет.
Профессор торжествует. Рабочая делегация остается с носом.
„Купите тогда, товарищ, – говорит работница, – литературу в пользу бедных нашей фракции“. – „Не куплю“, – отвечает профессор. „Почему? Ведь недорого. Только 50 к. У Вас, может быть, денег нет?“ – „Нет, деньги есть, а просто не хочу“. – „Так, значит, Вы не любите пролетариат?“ – „Да, – сознается профессор, – я не люблю пролетариат“.
Все это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории. Кто-то не выдерживает и со злостью восклицает: „Утопия“.
2). „Разруха, – ворчит за бутылкой Сэн-Жульена тот же профессор. – Что это такое? Старуха, еле бредущая с клюкой? Ничего подобного. Никакой разрухи нет, не было, не будет и не бывает. Разруха – это сами люди. Я жил в этом доме на Пречистенке с 1902 по 1917-й, пятнадцать лет. На моей лестнице 12 квартир. Пациентов у меня бывает сами знаете сколько. И вот внизу, на парадной, стояла вешалка для пальто, калош и т. д. Так что же Вы думаете? За эти 15 л. не пропало ни разу ни одного пальто, ни одной тряпки. Так было до 24 февраля, а 24-го украли всё: все шубы, моих 3 пальто, все трости, да еще и у швейцара самовар свистнули. Вот что. А вы говорите разруха“.
Оглушительный хохот всей аудитории.
3). Собака, которую он приютил, разорвала ему чучело совы. Профессор пришел в неописуемую ярость. Прислуга советует ему хорошенько отлупить пса. Ярость профессора не унимается, но он гремит: „Нельзя. Нельзя никого бить. Это – террор, а вот чего достигли они своим террором. Нужно только учить“. И он свирепо, но не больно, тычет собаку мордой в разорванную сову.
4). „Лучшее средство для здоровья и нервов – не читать газеты, в особенности же 'Правду'. Я наблюдал у себя в клинике 30 пациентов. Так что же вы думаете, не читавшие 'Правды' выздоравливают быстрее читавших“, и т.д., и т.д.
Примеров можно было бы привести еще великое множество, примеров тому, что Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения.