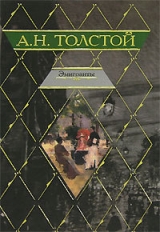
Текст книги "Том 4. Эмигранты. Гиперболоид инженера Гарина"
Автор книги: Алексей Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Хорошо, хорошо, Мери, кто смелее – мы это еще посмотрим.
– А что? Разве ты уже придумал что-нибудь? – спросила она с любопытством. Такой ответ большеротого Мишки ей, видимо, понравился.
– Может быть, – проговорил он, – там увидим.
Некоторое время он играл на Мерином любопытстве: говорил туманные слова. Но в конце концов надо было действовать. Тогда он сказал, что один нэпман, за которым он ходил (хотя тот был вооружен до зубов резиновой палкой, тростью со стилетом и револьвером), внезапно уехал за границу, и дело сорвалось. Мери всему поверила.
– Миша, а много у него было денег?
– Тысячи две червонцев при себе носил, в портфеле…
Она молча всплеснула руками и совсем уже растерялась, когда подсчитала, сколько можно было купить всяких вещей на две тысячи червонцев. С этой минуты горячая голова ее стала работать в том же направлении: проследить нового нэпмана с двумя тысячами червонцев. Отношение ее к Михаилу изменилось, – он сразу почувствовал все выгоды быть бандитом.
– Миша, ты меня, главное, не ревнуй, – говорила теперь Мери, – если я бываю с мужчинами, то это для нашей общей выгоды. А люблю я одного тебя. И мы уедем, уедем в Париж.
Дожидаясь Мери в Адмиралтейском парке, Михаил еще издали увидел, как летело по аллее в полосах солнечного света розовое платье, розовая шляпка. Румянец заливал щеки Мери. Не здороваясь, шлепнулась на скамью. Оглянулась направо, налево:
– Нашла. Есть один.
– Ну? Кто?
– Нэпман. Богач. Колоссальные деньги. Женатый, интересуется женщинами и страшный дурак. Его все девочки зовут «Тыква»… Ну, Миша… (У нее расширились синие глаза.) Ну, Миша, зевать нельзя…
– Пускай только попадется мне в руки. Выпотрошу.
Мэри повела Михаила в бар – показать «Тыкву». При одном взгляде на нэпмана у Михаила завалилось сердце черт знает куда: «Тыква» оказался огромного роста, тучным мужчиной с сизо-бритым жирным лицом, в котором было что-то бабье. Лоб у него зарос волосами почти до бровей. Одет шикарно, во все новое, заграничное. На мизинце – большой бриллиант. Окруженный девицами, он благополучно пил боржом.
Мери зашептала Михаилу:
– Семья у него в Москве. Здесь он наездом, ворочает делами. И все удивляются, почему он не в Соловках. Так что вдвойне надо торопиться.
Она встала и особой походочкой (у Михаила сразу защемило в животе от ревности) прошла мимо «Тыквы», покачивая бедрами. Он протянул к ней руку на весь бар брызнули лучи из перстня.
– Цыпка, блондиночка, садись…
– Я занята, – строптиво ответила Мери.
Он все же поймал ее руки, привлек к себе и долго о чем-то шептал на ухо. Мери освободилась, пожала плечами, отошла. Михаил видел, как «Тыква» вытащил платок и вытер жирное лицо и шею под шелковым воротником.
Этот нэпман в баре казался видением из далекой и волшебной жизни великосветских бандитов. Все дальнейшее было делом одной Мери, Михаил исполнял только приказания. Она отыскала комнату с отдельным ходом и ключом на Бассейной улице, где могла бывать не прописываясь. (Хозяйка комнаты жила в Сестрорецке.) Она заставила Михаила ходить по следам за «Тыквой» из банка в банк – собирать точнейшие сведения о его денежных операциях. Михаил видел за окошечками в банках толстые связки червонцев: очевидно, все эти несметные богатства принадлежали «Тыкве». Мери и Михаила трясла лихорадка. Нэпман каждый вечер приходил в бар и интересовался Мери. Но она ни разу не подсела к его столику – дразнила издали.
И вот, когда все было готово, Мери сказала Михаилу:
– Сегодня приходи на Бассейную к десяти часам. Не забудь – захвати револьвер… Голыми руками не справишься.
Михаил по пути домой купил сороковку и выпил ее в парке. Думал, что подействует, но мороз продолжал драть по коже. Он валялся на кровати, курил, прятал голову под подушку, хрустел пальцами. Когда в столовой, где отец читал газету, пробило девять, Михаил сорвался с постели, вынул из стола револьвер и мелко-мелко закрестился…
К десяти часам он был на Бассейной. Мери открыла ему дверь. Зашептала, втаскивая в комнату:
– На лестнице никого не встретил? Тише, тише, молчи, ни слова. Почему от тебя водкой несет? Струсил?
– Ничего подобного… Сама трусишь…
– Не гуди… Не стучи каблуками. Слушай меня внимательно… Ты здесь останешься… Я уйду… Когда услышишь, что я его привела, что я отворяю дверь, – ты станешь вот за эту портьеру. И ты там стой, не дыши, не шевелись, что бы я ни делала… Когда увижу, что он уже пьяный, – я хлопну в ладоши. Ты, значит, и выскакивай с револьвером…
Мери надела розовую шляпку, живо напудрилась, взбила височки перед зеркалом и убежала. Михаил остался один. Что он переживал за эти два часа до появления нэпмана? Никогда впоследствии он не мог толково рассказать об этом; установлено только, что выпил большой графин воды и часть воды из умывальника.
Ровно в двенадцать часов послышалось на лестнице кошачье хихиканье Мери, зашуршал ключ в замке. Михаил, как привидение, ускользнул за портьеру, прикрывавшую дверной вырез в капитальной стене, и там стоял, обливаясь потом, смертно боясь чихнуть.
Первой в комнату вошла Мери, за ней нэпман с шампанским и фруктами. Он посапывал от одышки и сейчас же повалился в кресло. Мери не переставая говорила, хихикала, как-то особенно ходила по комнате: «Тыква» старался поймать ее, посадить на колени, она со смешком увертывалась. Тогда он хлопнул пробкой:
– Ну, пить – так пить… Хотя я и не большой охотник. Я скоро пьянею.
– Ах, как я люблю шампанское, вы поверить не можете! – пищала Мери. Я могу выпить три бутылки.
– За что же мы пьем?
– За ваше будущее.
– Ишь ты, как подковырнула… За лучшее будущее! Эх, черт возьми, девчонка, тебе и во сне не увидать, как мы раньше жили. В Вилла-Родэ на серебряной посуде кушали, а какие были женщины – с ума сойти… А теперь вот таким огрызочком довольствуюсь, как ты… Ну, ну, не сердись.
– Нет, рассержусь… Во всяком случае, пейте.
– Иди ко мне!.. Какая ты вертлявая!
– Сяду, но только выпейте.
– За что еще?
– За наши отношения в дальнейшем.
– Вот куда гнешь… Отчего же, посмотрю, какая ты сладенькая…
Он откупорил вторую бутылку. Мери сидела у него на коленях, брыкая ногами. Он захмелел и целовал Мери… Она же все не подавала знака смеялась, пила, бросала в зеркало апельсинные корки…
Михаил, оглушенный, несчастный, боясь дышать, стоял за портьерой. Кинуться бы, избить нэпача, вытолкать за дверь! Как он смеет целовать Мери, жирно хохоча, раскачивать ее на коленях… Но Михаил не смел даже пошевелиться. Выпитая водка с огромным количеством воды отбила у него последнее мужество. Сейчас, он чувствовал, должно совершиться страшное…
– Нет, нет, не нужно, подождите… Пустите меня, – прозвенел жалобный голос Мери.
Тогда Михаил от всего отчаяния, от всей своей униженности громко всхлипнул за портьерой, револьвер выскользнул из руки, тяжело стукнул о паркет. Сразу стало тихо.
– Кто там у вас? – хрипло спросил «Тыква».
– Подлец, трус! – Мери сорвалась с его колен, распахнула портьеру. Лицо ее пылало гневом и возбуждением. – Плакса! – Она изо всей силы ударила по вспухшему большеротому лицу. – Ну же, дурак! – Схватила револьвер, повернулась к нэпману и стала подходить. Он сразу осел в кресле, развел руки. Челюсть у него отвалилась. Выкаченными глазами глядел в черную дырку револьвера.
– Денег… Я стреляю, – сказала Мери.
– У меня нет с собой денег, – захлопнув челюсть, проговорил «Тыква». – Не стреляйте, слушайте…
– Денег! Если крикнете, то…
– У меня деньги дома, у компаньона… Я же не ношу с собой денег…
Такого оборота вещей не ожидали ни Мери, ни Михаил, стоявший сзади нее со сжатыми кулаками и перекошенной мордой. Револьвер заходил ходуном в Мериной руке. «Тыква» совсем струсил и сам помог выйти из затруднительного положения:
– Не вертите им, он так непременно выстрелит. Черт с вами! Дам я, дам денег, но за ними нужно съездить…
Немедленно Мери стащила с себя панталоны, приказала Михаилу разорвать на ленты. «Тыква» протянул ноги, их связали. Кряхтя, косясь на револьвер в Мериной руке, он написал записку. (Примечательно, что Мери не сказала цифру, и «Тыква» сам указал ее в записке.) Михаил сейчас же ушел по указанному адресу. Сорок минут Мери выдерживала нэпмана под дулом револьвера, иногда только брала апельсин из корзинки, зубами сдирала кожу.
– Тихо, не шевелиться, – повторяла она, выплевывая косточки.
«Тыква» пробовал ее улещать, стыдил вкрадчивым голосом, вспомнил даже о своих детках в Москве – Мери была неумолима, как настоящая бандитка. Наконец вернулся Михаил с деньгами. Привез тридцать червонцев…
– Да ей-богу, больше нет! – завопил «Тыква». – В следующий раз как-нибудь, с большой радостью… Что? Вам этого мало? Ну, стреляйте в таком случае, сволочи, если не верите!
Мери пересчитала деньги. Сунула их за чулок. Зло надвинула шапочку:
– Хорошо. Мишка, развяжи его! Теперь слушайте, нэпман… Мы выйдем. Если вы сейчас же побежите за нами, мы вас застрелим на лестнице… Можете уходить только через десять минут.
– Пока! – сказал «Тыква» вслед уходящим и, засопев, потянулся за бутылкой.
Через несколько дней Мария Осколкина и Михаил Цибриков были арестованы в Севастополе. Они сейчас же во всем сознались. Михаил ревел и раскаивался. Мери держалась равнодушно-презрительно. Их отвезли в Ленинград. И вот на суде защитник окончил свою речь следующими словами:
«…Товарищи судьи, взгляните на потерпевшего, оцените его большую физическую силу, огромную сообразительность, которую он проявляет обычно в деловых операциях… (При этих словах „Тыква“ стал протискиваться к двери, в зале захихикали.) Теперь взгляните на этих подростков, обманутых соблазнами Запада… Эти два романтика новой формации, два посетителя кино, связывают человека, который одним движением руки мог бы их обоих раздавить, как мух. И что самое главное – что я особенно подчеркиваю: револьвер, игравший основную роль во всем этом происшествии, был не заряжен. (Мери с бешенством взглянула на Михаила, он опустил голову.) Из этого револьвера никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя выстрелить, потому что это заржавленный и сломанный револьвер…»
* * *
Суд приговорил Марию Осколкину и Михаила Цибрикова на пять лет условно.
Василий Сучков
(Картинки нравов Петербургской стороны)
1
– Я так скажу: дети наши, имей они понятия, как мы, старики, – и на том слава богу.
– Нельзя теперь «слава богу», Тимофей Иванович.
– Ну, слава труду… Не придирайся – я старый человек… Скажи: мы боролись? Правильно я говорю?
– Боролись, Тимофей Иванович. Собственно, у меня служба тихая, я не боролся, а вы действительно боролись.
– Мне нравится, как вы отвечаете, Иван Иванович; вы человек прямой. Таких нам надо… Официант, еще парочку и два бутерброда с ветчиной… Так вот, мы страдали. Верно, Иван Иванович?
– Ну еще бы…
– Когда Путиловский завод зажигалки делал, вы представляете, каково было нам, старым мастерам, это видеть! Кто в ответе? Ссылайся, пожалуй, на Антанту… Так-то, мол, так… А кто заводил? За этим все ниспровергли, чтобы лучший в Союзе завод зажигалки точил? Хорошо теперь – на верфи лесовозы строим. Все цехи работают… А в то время бывало, что и не верится… Так бы взял, лег среди разрушения и заплакал… Это разве не страдание? А кто восстановил завод? Видел эти руки? И кости-то на них – просмоленные машинным маслом: гляди, какие пальцы черные… Значит, я имею право говорить… И я говорю. Дети наши ни к черту не годятся… Они боролись? Нет. Они страдали? Нет. Они пенки собирают. А мы для них – устарелое племя. Мишка мой – комсомолец. Хорошо. Его трогать нельзя. Ему слово, он – десять. Ладно, ладно… Учись, выходи в первые ряды. Хотя потрепать-то следовало, но – обомнется… Ведь гавкать дерзко на каждое тебе слово еще не означает, что отец – дурак. Ладно, говорю, ладно… Мишка – честный парень. А вот Колька мой… Ну, этот… Тут я не могу. Завел он себе морские штаны, финский ножик… День работает, другой – с девками по заливу гуляет… И заметьте, Иван Иванович, его я тоже не могу ни палкой урезать, ни за волосы его взять… А какие у него волосы? Священные? И он сейчас же идет на меня жаловаться – и мне выговор, в лучшем случае за истязание… А Кольке на роду написано – десять лет с изоляцией. Знаете, что он мне отвечает? «Ты мне докажи, старый хрен, почему я должен работать, когда я хочу гулять? Это в какой, хрен, книжке написано, чтобы я удовольствий лишался? Почему?» И он, сволочь Колька, говорит это так уверенно, будто он – правящий класс. «А будешь драться, говорит, я тебе дырку в животе сделаю…» И вертит ножом и глазами блистает…
– Отчаянное ваше положение, Тимофей Иванович.
– Хорошо. Я не доживу до конечного торжества. Я старый человек. Но я хочу, чтобы дети мои, внуки мои говорили на трех языках, Иван Иванович… Чтобы летали они на воздушных кораблях кругом всей земли, как у себя дома… Чтобы ручки их знали тонкую и умную работу… Я плачу, Иван Иванович, оттого что не вовремя родила меня мать… Родили меня – стену головой прошибать… Мы – героическое поколение, Иван Иванович… За нами идут дети и внуки… Черную-то работу мы сделали… Но каковы они? Вот мучительный вопрос. К примеру… У нас за Нарвской заставой строят рабочие кварталы – дома по заграничному образцу, с балконами и ваннами. Значит, есть намек, что теперь рабочий не будет жить, как свинья. Я прихожу с верфи. Я помылся, я сажусь обедать в строгом порядке, с моими домашними… Едим в опрятной комнате, и разговор у нас возвышенный, симпатичный… Верно ведь, да? А теперь – какова действительность? Этой весной я переезжаю на новую квартиру. Хорошо. И вот, я иду с верфи домой, и покуда я иду – с меня пальто снимают в переулке, – это раз… Налетают с финскими ножами, здорово живешь, походя кишки выпустят, – два… И если я, скажем, уберегусь от этих двух происшествий, прихожу цел-невредим домой, за моим опрятным столом уже сидит Колька… Конопатая морда так вся и пропитана матерщиной… Нет, Иван Иванович, много мы ждали бед, а эта беда нежданная.
Тимофей Иванович отодвинул пивные бутылки, перегнулся через круглый столик к самому лицу Ивана Ивановича, поднял негнущийся палец:
– Затаенное. Еще никому не говорил. И близкие мои не знают. Василия Алексеевича Сучкова, зятя моего, Варварина мужа, стал я бояться. Не верю ему. Темный он человек.
– Бросьте вы, Тимофей Иванович! В самом деле, вам уже не знаю что мерещится…
– Верно. Никаких оснований. Но стану я о нем думать – и во рту у меня горько.
Разговор этот происходил в июне месяце на Петербургской стороне, в пивной. Разговаривали два старинных приятеля: Жавлин Тимофей Иванович, рабочий Путиловской верфи, и Иван Иванович Фарафонов, служащий по речному ведомству хранителем затона на Петровском острове.
День был безветренный, солнечный – воскресенье. В пивной было пустовато, пахло кислым и раками. О зеркальное окно, на котором шиворот-навыворот стояло: «Пиво Стенька Разин», звенели мухи, навевая полдневную скуку.
Приятели допили пиво. Покурили. Расплатились и вышли на улицу. Синее небо раскинулось летней тишиной над бедными улицами Петербургской стороны.
– А все-таки, – Тимофей Иванович поднял опять палец, – а все-таки зять мой – непроницаемый человек.
После этого они пошли рядом по выбитому тротуару, засыпанному подсолнечной шелухой. В вышине плыл аэроплан. Плыли белые, как снег, облака. Тишина, воскресная скука. В окнах – горшочки с цветами. На пустыре, среди кирпичных развалин, дети играют в мяч, и самый маленький плачет, сидя в лебеде.
Навстречу приятелям шла девушка в ситцевом светлом платье. Молодая шея ее, плечи, худые руки были покрыты золотым загаром. Вьющиеся русые волосы лежали шапкой на милой голове.
Все шире улыбались приятели, поглядывая на подходившую девушку. И день был хорош, и от выпитого тепло на душе, и приятно поглядеть было на осмугленную солнцем молодость.
– Дочь у тебя – по первому разряду, одобряю, – сказал Тимофей Иванович.
Довольный Иван Иванович спросил:
– Настюша, ты куда ударилась?
Она подняла синие глаза, и лицо ее стало еще милее. Остановилась. Легко вздохнула:
– К Варваре Тимофеевне обещалась зайти сегодня.
– Я сегодня у дочери был, – Тимофей Иванович, вдруг насупившись, стал глядеть под ноги, – был и часу не высидел… Теперь через полгода только к ним приду… И вам, Настя, там делать нечего…. Слушать рассуждения гражданина Сучкова?.. Незачем. Так-то…
Настя подняла тонкие брови, пожала плечиком. Непонятно было, почему Тимофей Иванович рассердился. Молча все трое постояли с минуту. Настя улыбнулась отцу и пошла своей дорогой, пряменькая, так и видно было, что в ней все в порядке.
– Чистенькая девочка, – глядя ей вслед, проговорил Иван Иванович.
– Вот то-то, что чистенькая… И к Варваре ей не надо ходить, доброго там ничего не получится…
2
Скучно в воскресный полдень на Петербургской стороне, в улицах, где не прозвенит трамвай. Пустынно, бедно. И чудится – за пыльными окошечками, за покосившимися воротами, в деревянных домиках на поросших травою дворах, в домишках, глядевших одним чердачным окошком из-за кирпичных каких-то развалин, так бы и задремала навеки эта сторона, оставь ее в покое.
Вот розовый дом в три этажа. Его недавно покрасили, починили водосточные трубы, на окнах еще не смыты длинные кляксы штукатурки. На нем – синяя вывеска: «Петрорайрабкооп». А дальше, до самой реки – облупленные непогодами стены, заборы, развалины, табачный ларек с задремавшим от скуки инвалидом, у водосточной трубы – баба с конфетами по копейке и семечками… Семечки, семечки… Неужели земля и солнце создавали человека только затем, чтобы грызть ему эти окаянные семечки, шатаясь без дум, без страсти?
Вот забор из ржавых листов кровельного железа. За ним на пустыре несколько грядок с картошкой, и кругом – кучи щебня, поросшие крапивой. Бродит коза. Сидит на камне женщина с грудным ребенком на коленях, подперлась, глядит пустыми глазами.
Вот еще пустырь. Сбоку тротуара три ступени – все, что уцелело от подъезда. И чудится – по этим ступеням можно войти в невидимый дом. Его очертания еще заметны: направо, на глухой стене соседнего дома виден треугольник – след исчезнувшей крыши, а ниже – остатки голубых обоев с цветочками. Налево еще торчат кирпичные своды, и в них – дверь прямо в небо.
Если спросить у старика дворника, что сидит на другой стороне улицы у ворот, он скажет, что действительно три ступени крыльца вели в двухэтажный дом. Хороший был дом, деревянный. Жильцы иные пропали без вести, иные умерли, иные живут сейчас на Васильевском. И хозяином невидимого сейчас дома был он сам, старичок, ныне дворник. Так он и днюет напротив у ворот, глядя в минувшее. А над ним в раскрытом окне сидит, подняв худые колени, стриженая девушка, читает книгу. Через улицу идет с чайником гражданин в трикотажных коричневых штанах со штрипками и, загнув нос, ёрничает глазами на девицу в окошке.
Гражданин этот, увидев Настю, вдруг дрыгнул ляжками и загнул нос в ее сторону.
– Извиняюсь… Почему одна гуляете?
– Вас это меньше всего касается, – проходя, ответила Настя, строптиво оглянула трикотажные штаны.
– Насчет юбочек меня всегда касается… Куда же вы бежите? Все одно на то же самое наткнетесь, зачем искать журавля в небе?..
Настя свернула за угол и вошла во двор, где жила Варвара Тимофеевна. В одном из открытых окон ее квартиры, во втором этаже, видна была спина Сучкова (в серой рубашке и велосипедном поясе). Он играл на гитаре, напружив крепкий затылок.
3
С Василием Сучковым Варвара познакомилась в прошлом году в кинематографе «Леший». Он показался ей интересным мужчиной. Был очень вежлив, холодный, чисто одет. Бритое узкое лицо, небольшие глаза, шрам на щеке около рта. Во время антракта он пристально глядел на темноволосую, круглолицую, несколько полную Варвару, пересел в кресло рядом с ней и предложил программу. Затем сказал, что не курит по причине гигиены здоровья, и предложил леденцов. Варвара грызла леденцы белыми зубами, должно быть с лица ее не сходила веселая и нервная улыбка. Сучков с холодной жадностью глядел на ее рот.
Ей понравилось, что он поспешил установить свое социальное положение: он служил инструктором в топографической школе. Такой подход в разговоре показывал серьезность его видов. Варвара сказала, что она служит на шоколадной фабрике упаковщицей, – ему это, видимо, тоже было приятно: работа чистая, и девушка, значит, опрятна. До конца сеанса они обменивались впечатлениями, – шла картина «Бандиты Парижа». Сучков проводил Варвару до трамвая, и в следующее воскресенье они опять встретились в кинематографе на Невском. По окончании сеанса он предложил зайти в кавказский ресторан. Варвара покраснела и отказалась. Она отдалась ему только после третьего посещения кино, взбудораженная приключениями Мери Пикфорд.
Сучков сам предложил оформить связь в загсе (от жизни он требовал порядка прежде всего), – и Варвара переехала к нему на Петербургскую сторону. С тех пор прошел год. Родным Варвара говорила, что живет хорошо и дай бог всякому. Но стали замечать, что она худеет, вянет, – пропал ее веселый нрав. Оказалось, что она неистово ревнует мужа и боится показать ему это; и ревнует его потому, что за год жизни не узнала его, не узнала о нем больше, чем в первый вечер знакомства.
4
Стол был накрыт. Через открытую дверь было видно, как на кухне в чаду примуса суетилась Варвара. Сучков наигрывал на гитаре. Около него на стуле плотно сидел Андрей Матти, финский подданный, чисто вымытый блондин с коровьими ресницами. Одет он был в новенький серый костюм и розовый галстук. Прямой, как щель, рот его добродушно улыбался. Так он мог сидеть сколько угодно – помалкивать.
Варвара, летая по кухне, нет-нет да и поглядывала пронзительно на мужа и Матти. Чего молчат? Ну чего? Без дела, здорово живешь, Матти не втерся бы в их дом, и Сучков не стал бы с улыбочкой играть ему на гитаре. Вот уже которое воскресенье тащится финн с цветком для Варвары или с шоколадной плиткой, и у Сучкова – сразу эта непонятная кривая усмешечка (так бы и швырнула в рожу ему кастрюлю с горячими щами). Неистовым сердцем Варвара чувствовала, что они сговариваются, финн подбивает мужа, опутывает, уводит… И муж не прочь… Еще бы… Разве бы так улыбался?.. Полечку с ёрническими коленами наигрывает. Утром ногти обстриг, чтобы за струны не цеплялись. Ах, и сомнения нет: присмотрел ему финн девчонку…
– Варя, – вполголоса позвал Сучков, – как у тебя с котлетами? А то мы сядем водку пить.
Варвара загремела кастрюлями, горло перехватило злобой. И это было не вовремя, потому что Матти, пользуясь шумом на кухне, сказал наставительно:
– Это большой неудобство, когда нет кухарка. Такой приличный дом, конечно, должен иметь прислуг. Человек с вашими вкусами должен иметь деньги.
5
Когда Настя вошла в столовую, мужчины уже пили водку под миноги в горчице. Сучков изумленно поднял брови, рыжие зрачки его беспокойно заметались. Матти бросил салфетку, поспешно встал и несколько раз, сгибая весь корпус, поклонился Насте, – видимо, по-заграничному. Когда Сучков, снова холодный и непроницаемый, здоровался с девушкой, Варварины расширенные глаза появились в чаду в темном коридорчике, ведущем из кухни в столовую. Варвара внесла блюдо, вытерла фартуком руки и поцеловала ледяными губами Настю. Ей предложили рюмку водки. Матти воскликнул с каким-то финским – хэ-хэ – хохотком:
– Современный девушка должен пить водка.
Настя выпила – главное для того, чтобы побороть в себе неловкость. После мягкого света дня, и морского ветерка, и тишины над Петербургской стороной, и тишины в самой себе, которой не мог даже нарушить гражданин в трикотажных штанах, ей колюче и непокойно было под взглядами этих людей.
Но ведь прийти надо было – Варвара несколько раз обижалась: «Почему нас знать не хотите?» А сейчас она кожей чувствовала Варварину неприязнь. Ей вдруг стало неловко от того, что вся шея и грудь – голые, и руки голые до плеч. И хоть бы не пялились так эти двое!.. Опустив голову, пробуя кусочек миноги, она преувеличенно поморщилась от горчицы.
Сучков сказал отчетливо:
– У вас красивый загар, Настасья Ивановна. Физкультурой несомненно занимаетесь?
– Да!
– Посмотри, Варя, какой приятный загар и как приятно женское тело, хорошо тренированное. Ведь вы, Настасья Ивановна, всего года на три моложе Вари? А посмотрите, какая разница. Да, Варя, тут нужно понять, что не тряпьем, не помадами себя красит женщина, а содержанием тела в физической тренировке.
– Это большое значение имеет, – сказал Матти. – Варваре Тимофеевне тоже не поздно заняться гимнастикой. Я видел в Або, один старый женщина в пятьдесят лет бегал и прыгал очень хорошо.
– Спасибо за сравнение, – только и ответила Варвара. Губы ее дрожали. Не знала, куда отвести глаза. Мужнин уверенный скриповатый басок бил ее каждым словом, будто кирпичом в темя.
Обычно Сучков многозначительно помалкивал. Сейчас, упираясь локтем в стол, наливая рюмки, вертя вилкой, говорил, говорил не переставая. Даже в тот первый вечер, в кино, он не разговаривал с такой охотой.
– Отношение полов – это острый вопрос современности. Я знакомлюсь с женщиной, которая меня зовет, влечет. Я сближаюсь с ней, и венерическое заболевание обеспечено. Каждая женщина – ловушка… Отсюда – неприятный страх, отсюда тяга к уверенности, к семейному очагу.
– Семейный очаг имеет также свои недостатки, – качая как будто глуповатым лицом, вставил Матти.
– Да. Семейный очаг дает мне некоторую уверенность. Но он же отнимает часть моей личности. Он подрезает мне крылья. Я намекаю не на тебя, Варя, – у нас теоретический разговор, не сверкай глазами. Я получаю сто тридцать пять рублей жалованья за скучную и неинтересную работу. Я только не умираю с голоду. Разве это жизнь, я спрашиваю?
Все так же, с застывшей улыбкой, Матти внимательно покосился на него из-под коровьих ресниц. – Бедность – это главный несчастье человека… Шрам около рта у Сучкова резко обозначился, опустились углы губ.
– Мои желания принуждены дремать. Я не вижу этому конца, вот в чем дело. У моей матери не было средств. До восемнадцати лет я учился, в то же время добывал жалкие гроши тяжелым трудом… (Варя остановилась в дверях с пустым блюдом и с этой минуты жадно слушала.) Но я был упрям; если бы не мировая катастрофа, я бы дождался своего часа… Только я кончаю техническое училище – война. И меня гонят на фронт. Там, в дерьме, во вшах, я узнал, какие бывают желания. А хотите, расскажу, как я снял золотые часы и бумажник с одного с оторванной головой? Может быть, это было; может быть, выдумано для Настасьи Ивановны… ха-ха… В месткоме на днях мне сделали замечание – почему я увиливаю от общественной работы. Да, увиливаю, сохраняя свою личность от размена на копеечки. Эту личность ели вши в империалистическую войну, ели вши в гражданскую войну. И теперь за сто тридцать пять рублей месячного оклада я буду еще способствовать развитию социализма в этой стране… Данке шен… Я не идеалист. И прежде всего – я не верю в Россию. Нас обманывали – такого даже и народа нет… И язык-то сам хваленый русский – не язык, а простонародное наречие. А каждая уважающая себя личность должна разговаривать по крайней мере по-немецки. Россия, извиняюсь, – это историческое недоразумение, мираж. Человек существует только там, за пограничной линией.
– Вы большой философ, – сказал Матти, наливая рюмки.
– Меня насильственно заставляют быть философом. Вот – водочка, закуска. Но я не люблю пить, об этом мало кто знает. Я пью только потому, что это – единственное, что материально доступно мне как личности. Нет, граждане, нельзя так играть с человеком. Желания во мне таятся, но не умирают, и они когда-нибудь громко заявят о себе. Но вернемся к началу темы… Женский вопрос… Вот, если вы хотите строить социализм, хотите, чтобы я вам помогал, прежде всего обезопасьте меня от венерических заболеваний и разгрузите мой семейный очаг. Половые переживания я должен отправлять с такой же легкостью и свободой, как грудь моя дышит воздухом. Что делают для этого в Европе? А вот что, граждане. Город разбивают на районы, в каждом районе – особый кабинет врача-венеролога, открыт круглые сутки. Бесплатно. Каждому гражданину обоего пола выдается карточка. Каждый должен не позже чем через два часа после полового акта явиться к своему районному врачу, подвергнуться обезвреживанию и прижиганию и проштемпелевать карточку. Если он не явился и заболел – пять лет каторжной тюрьмы. Не пройдет двух-трех лет, как болезни исчезнут в Европе… И к женщине мы сможем подходить без страха, срывать ее, как полевой цветок.
Едва Сучков произнес эти слова, Варвара, белая, как бумага, поставила блюдо на стул, подошла, неловко, по-детски, размахнулась и ударила мужа в длинное лицо.
– Уходи, уходи, иди к ним, иди, – зашептала она. Расширенные глаза ее остекленели. Сучков схватил ее за обе руки и, должно быть, больно сжал. Она все повторяла: – Уходи, уходи…
Матти отошел к окну и там закуривал, ломая спички. Настя хотела было обнять ее за плечи, увести из столовой, но Варвара, быстро повернув голову, так взглянула молча в самые глаза, что у Насти затошнило в сердце.
– Ну что, успокоилась теперь? – проговорил Сучков, и рот его полез совсем криво, – Драться больше не будешь? – Он выпустил руки Варвары, и она сейчас же ушла на кухню, затворила дверь.
– У вас, в Финляндии, тоже мужей по мордасам лупят? А у нас, как видите… Так сказать, на сладкое после обеда, – сказал Сучков и, откинувшись на стуле, улыбался зло и криво.
Настя ушла, не простившись с Варварой. Подумала на улице: куда? Светлый день был уже не светел. Она встряхнула волосами, отгоняя неприятное, и вернулась домой, на Петровский остров.
6
На Петровском острове, в шагах тридцати от озера, стоит небольшая мыза. Ветхий забор ее одной стороной выходит на травянистый берег Малой Невы, откуда на яликах перевозят на Васильевский, к устью речки Смоленки. Другим краем забор спускается в тихий затон – гавань и кладбище землечерпалок. Из затона в круглое озеро, затененное столетними липами, ведет узкий проток с горбатым мостиком. Подойти к мызе можно только через этот мостик. Здесь всегда закрыты ворота. За ними – рябина, кусты, лопухи, грядки с картошкой, и поблескивают от отсветов воды три пузырчатых окошка деревянного домика.
Здесь живет Иван Иванович Фарафонов, хранитель этой мызы и всего казенного имущества затона – заржавленных землечерпалок, пароходных котлов, перевернутых кверху килями старых баркасов, якорей, железного хлама, валяющегося на берегу. Из окоп видна Малая Нева, где пробегает, надымив под Тучковым мостом, буксирчик «Кропоткин», и от его волны тяжело поскрипывают дровяные баржи, стоящие караваном. Дальше видны мачты финских лайб, пришедших с дровами или с камнем, крыши Васильевского острова, выцветшие купола. Дальше на восток – колоннады корпусов Академии наук, рогатая ростральная колонна, и за туманами – все неяснее, все голубее – арки мостов, купол Исаакия, игла над крепостью, поблескивающая, как щель в небе.







