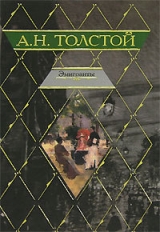
Текст книги "Том 4. Эмигранты. Гиперболоид инженера Гарина"
Автор книги: Алексей Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и – ниже площадкой – фыркнули со смеху; можно было разобрать только: «…лошади испугаются…» Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны… Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядье – звали ее Сонечка Варенцова.
* * *
Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядье), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» – задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила клинком.
Сонечка нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком мосту, что теперь носят платья «шемиз», чулки телесного оттенка и прочее и прочее…
Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: «Есть. Так… Поняла…» Затем схватилась за Сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:
– А это – как чесать?
– Безусловно стричь, мое золотко, – пела Роза Абрамовна, – сзади коротко, спереди – с пробором на уши…
Петр Семенович Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом:
– Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна…
Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, но внятно:
– Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле…
* * *
В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.
Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещавшим телефоном.
– Елки-палки, – сказал он, – это откуда же взялось?
Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза – как ночь, длинные ресницы… руки отмыла от чернил, – одним словом, крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазком.
– Ударная девочка! – впоследствии выразился он про нее.
Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.
Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда – гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.
* * *
На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помуслив ее, отчищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу. Они вышли.
Педотти сказал:
– Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом.
Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Влезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.
– Ну? – спросила она. – О чем вы хотели со мной говорить?
Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате.
– Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо… В ударном порядке… Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность… Романтику всякую там давно пора выбросить за борт… Ну вот… Предварительно я все объяснил… Вам все понятно…
Он обхватил Ольгу Вячеславовну под мышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление: Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула, – она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся и, так как она продолжала мучительство, закричал:
– Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..
– Вперед не лезь, не спросившись, дурак, – сказала она.
Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу «Ява», закурила и ушла.
* * *
Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели… Садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки… Припомнилась вся жизнь; все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало… Вот была чертова ночка… Зачем, зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жизнь била ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и «это», конечно, теперь начнется… Не обойтись, не уйти…
Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:
– …Поразительно, до чего она ломается… Противно даже смотреть… Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая… При заполнении анкеты прописала вот такими буквами: «девица»… (Смех, шипение примусов.) А все говорят: просто ее возили при эскадроне… Понимаете? Жила чуть не со всем эскадроном…
Голос Марьи Афанасьевны, портнихи:
– Безусловный люис… По морде видно.
Голос Розы Абрамовны:
– А выглядывает – что тебе баронесса Ротшильд.
Басок Петра Семеновича Морша:
– Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскусил… Она карьеру сделает – глазом не моргнете…
Возмущенный голос Сонечки Варенцовой:
– Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович… Успокойтесь, не с такими данными делают карьеру…
Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз.
* * *
После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались. Но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: «гадюка», «клейменая» и «эскадронная шкура», – она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И – всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно… Будто бы можно было закричать им всем: «Я же не такая…»
Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой… С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания… Ее девственность негодовала… Но – что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз… Это было не нужно, это было ужасно…
* * *
Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: о н… Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромыхнувшим из-за угла.
Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):
– Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был сильный и низкий.) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против… Но это же никому не нужно, это – мелочь, это не талантливо!
На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности…
– Больно укусить побоялись, а тявкнули – по-лакейски… Ну что же, что чай… В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать…
Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те – любимые, навек погасшие… Чисто выбритое лицо – правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой… Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас… Такие люди ей представлялись – несущие голову в облаках… Он тасовал события и жизни, как колоду карт… И вот – с портфелем, с усталой улыбкой – и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями…
– Так все мельчить неумело, – опять сказал он, – можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам… Значит, старики сделали дело и – на свалку… Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить… Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки… Так-то…
Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение Махорочного треста, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней… Ей пронзительно стало его жалко… А как известно, жалость…
* * *
При первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал:
– Все, товарищ… Идите.
Это было действительно все… Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума… Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста…
Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки граммов десять йодоформу: «Бесится наша гадюка-то», – сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.
Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо – стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам – где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, – было не по ней. Решила: прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней… А так – жизни нет…
Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же, на улице, схватить его за рукав: «Я люблю вас, я погибаю…» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих… В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась грозовым электричеством. Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой… Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.
Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула, – во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки, – строгий…
– Дело в том…
– Дело в том, – сейчас же перебил он с брезгливостью, – мне про вас говорят со всех сторон… Удивляюсь, да, да… Вы преследуете меня… Намеренье ваше понятно, – пожалуйста, не лгите, объяснений мне не нужно… Вы только забыли, что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет – выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее… Из вас может выйти хороший товарищ…
Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она начала что-то ему говорить. Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.
* * *
Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно…
В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало Невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему: «Ах, это – черт знает что» дважды – на кухне и возвращаясь к себе в комнату, – после чего она ушла со двора.
На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович – небритый и веселый с перепою. Роза Абрамовна варила варенье из мирабели. Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками.
– Я больше не могу, – сказала она еще в дверях, – это должно кончиться наконец… Она меня обольет купоросом…
Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке, – не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону – сероводородом или опять тот же йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело:
– Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?
– Да, – ответила Лялечка, – третьего дня мы были в загсе… Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно…
– Поживем – увидим, – блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович.
– Так этой гадине ползучей, – Марья Афанасьевна потрясла утюгом, этой маркитантке вы в морду швырните загсово удостоверение.
– Ой, нет… Ни за что на свете… Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия…
– Мы будем стоять за дверью… Можете ничего не бояться…
Владимир Львович, радостный с перепою, заблеял баранчиком:
– Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства…
Лялечку уговорили.
* * *
Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени… Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому… Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так, сейчас она увидела в руках у себя велодок – и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку…
В дверях постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы, – и кажется в руках у них были щетки, кочерги… В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами… Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:
– Это совершенное бесстыдство – лезть к человеку, который женат… Вот удостоверение из загса… Все знают, что вы – с венерическими болезнями… И вы с ними намерены делать карьеру!.. Да еще через моего законного мужа!.. Вы – сволочь!.. Вот удостоверение…
Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, на визжавшую Сонечку… И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь… Из горла вырвался вопль… Ольга Вячеславовна выстрелила и – продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо…
Эмигранты
Факты этой повести исторически подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Профессор Стокгольмского университета сообщил мне подробности этого забытого дела. Остальные персонажи и сцены взяты по возможности документально из материалов, из устных рассказов и личных наблюдений. В первой редакции эта повесть называлась «Черное золото».
А. Толстой
1
Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев.
Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улички – ванилью, овощами, винными лавками, непроветренными постелями, гигантские железо-стеклянные рынки – всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки.
Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились потом проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, загримированных с послевоенной решительностью, нехорошее возбуждение – на лицах юношей, свинцовая усталость – под седыми усами у стариков.
Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.
Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами.
Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взвывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами…
Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, покуда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся «защитникам отечества» лишь мирным путем отыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли.
Руки, привыкшие к винтовке, не легко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой. Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним – с парусиновым свертком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим – проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах (сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокинговых рубашек), – тут можно было задуматься: «Так что же, выходит – ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак!»
Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту: около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. Двести тысяч франков взлетело вечером четырнадцатого июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все восемьдесят столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства – трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в Сене. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю: этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу двенадцать женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады, Мистангет, плясала на верху лимузина. На рассвете палач, в черном сюртуке, в цилиндре, появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник ножа, – палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека со всклокоченной черной бородой… Несколько секунд – и он привязан под ножом, он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку, глухой стук ножа, голова Ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескания…
Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых – почва была еще пропитана нарывным газом. За двадцать франков можно было поглядеть на места гибели пяти миллионов человек.
Эти экскурсии подготовляли общественное мнение: Совет Десяти медлил с подписанием мира, – Германию ожидала суровая кара. Двадцать семь стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на парижскую мирную конференцию, в ней выделилось ядро из пяти великих держав – Совет Десяти. Во главе стоял президент США – Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона четырнадцать пунктов вечного мира для человечества. Эти четырнадцать заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море.
Четыре остальные державы – Франция (представитель Жорж Клемансо), Англия (Ллойд-Джордж), Италия (барон Сонино) и Япония (барон Макино) – готовились вонзить зубы в колонии и богатства Германии и ее союзниц. Их волчий аппетит президент Вильсон упрямо пытался ограничить бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. Не подымайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина – США, они давно бы вышвырнули за дверь этого Божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками.
Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. Она готовилась к огромному индустриальному подъему: приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности.
С первых же заседаний Совета Десяти Франция повела линию на завоевание мира. Восьмидесятилетний «национальный тигр», злой и злопамятный Жорж Клемансо предоставил Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра и ждал, когда он всем опротивеет. Клемансо разрабатывал французский мир: двести миллиардов долларов германских репараций (по три тысячи долларов с каждой немецкой души), провинции, Рейн, колонии, раздел Турции, создание и вооружение «великой» Польши, наконец, большой военный поход на восток Европы: Берлин – Москва. Словом – возобновление империи Наполеона I.
Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Германия и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицийцы, бунтуя против польских панов, осаждали Львов. Итальянские рабочие выбили медаль с профилем Ленина. Славяне бывшей Австрии казались ненадежными. Никто не мог поручиться (так говорил Ллойд-Джордж), что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж стомиллионную Красную Армию.
Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу он опасался одной только Англии.
Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мировой конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски скрытен, – несомненно он веселился, и вовсю, – он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, зажмурил глаза, седые усы приподнялись, лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь.
Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончатся заседания конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только четырнадцать пунктов Вильсона. Доходили слухи, что в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости: Вильсон ставил соотечественников в смешное положение, – чего, поди, в Европе начнут думать, что США населены одними мечтателями… Вокруг Вильсона образовалась пустота… Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований.
Четырнадцать пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но он не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии – Лигу Наций. Он отчаянно боролся. Лига Наций была провозглашена, тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор.
В безоблачное утро седьмого мая германский министр иностранных дел – граф Брокдорф-Ранцау (в черном, черных перчатках, с черной тростью), высокий, замкнутый, вошел с пятью представителями в белый зал Версальского дворца. Немцы увидели потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены; казалось, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля солнца, за столом, завершающим амфитеатром расположенные золотые кресла, сидел Клемансо в темно-серой стариковской визитке – коренастый, с угловатыми плечами; опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо топорщилось белыми бровями, пожелтевшими усами. Направо от него – высохший президент Вильсон, налево – приветливо улыбающийся, франтоватый, румяный, седогривый Ллойд-Джордж с опущенными на губу седыми усами и хищным носом. Ниже – в креслах – пестрые представители двадцати семи стран и народов, посланных купечеством урвать, что можно…
«Господа делегаты германского государства. Здесь не место для лишних слов… Вы навязали нам войну… Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось… – так заговорил Жорж Клемансо, тяжело дыша от ярости. – Час расплаты настал. Вы просили нас о мире, мы согласны вам предложить его…»
После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу-Ранцау книгу в триста печатных страниц, переплетенную в белый сафьян, – условия мира. Ранцау бросил на нее черные перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны – одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников… Но этой силы у него не было.
Пятьдесят два дня спустя в том же зале Версаля к инкрустированному, на изогнутых ножках, столику подошел Клемансо, привычным движением матерого журналиста обмакнул золотое в золотой ручке перо, стряхнул, – черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний («в семидесятом году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам, – я мщу»), – и он подписал…
Шестьдесят миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию – день и ночь, день и ночь – потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Тощие, с землистыми щеками немцы, костлявые немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед этим поездам, вслед улетающей на долгие годы надежде поесть, отдохнуть… На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто правил Германией, этот отблеск был страшнее ночи.
2
Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни по древнеримскому обычаю – триумфом.
В центре Парижа – на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских полей и на площади Звезды вокруг приземистой арки Наполеона – навалены были кучами (с трехэтажные дома) немецкие заржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди в форме средневековых копий, спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги… Одна из сидящих каменных статуй на площади Согласия – статуя города Страсбурга, пятьдесят четыре года покрытая трауром, – сегодня утопала в знаменах.
Августовский день был зноен и сух. В бледном небе, сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз по этой страшной аллее войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полусгнивший труп без лица – неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Играли рожки, били барабаны. Из-за Сены, из горячей мглы, стреляли пушки. Республика отдавала воинские почести народу: каждый бедняк теперь вправе думать, что в центре столицы мира, под аркой Звезды, лежит его брат, его сын, пропавший без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невозвратимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки… Но разве это было веселье? За все муки – подарить народу гнилой труп без лица! Веселились вовсю лишь американские солдаты – сытые жеребцы, шатались под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки себе на железные шлемы…
Вечером над черной Сеной взвились потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец хмурые пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на колесиках четырехугольные рамы с зажженными плошками, за ними ковыляли безногие, безрукие, безглазые, – это инвалиды войны собирали милостыню. На перекрестках играли уличные оркестрики. Но Парижу не плясалось в этот душный, безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов своих домов, у кофеен, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни. «Эх, Жак, не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня?…»







