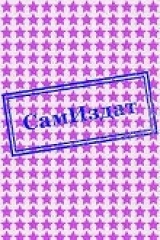
Текст книги "Сввпсу-"Ю". Часть 2 (СИ)"
Автор книги: Алексей Кулецкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Вышли из полосы леса. Демир-Капу, в переводе "Железные ворота", своей громадой в 1540 метров, всего лишь на пять метров ниже главной крымской вершины, нависал над нами с противоположного борта котловины. Довольно далеко впереди дорога по яйле уходила вниз, на Южный берег, через самый высокий крымский перевал – Гурзуфское седло, 1348 метров. Поднявшись еще немного, мы сошли с дороги и стали уклоняться в сторону яйлы – довольно плоского плато, на котором отдельными, порой довольно невзрачными буграми, возникали высшие точки Крыма. Одним из таких бугров был и Роман-Кош.
Роман-Кош, несмотря на свою невзрачность, выделялся на общем, довольно однообразном фоне своей высотой. Снова бредем вверх. Нескончаемый, нудный подъем. Слева от нашей тропы стал виден скальный "зуб", торчащий из склона. Значит, до цели уже недалеко. Постепенно подъем стал положе и, в конце пути, мы увидели огромный, метров в шесть высоту, "тур", наваленный из камней самого разнообразного размера, многочисленными восходителями.
Забрались на тур. Теперь – выше нас в Крыму нет никого. Мы на высшей точке! 1545 метров над уровнем моря! С тура и вообще с вершины открывался поистине волшебный вид. На юг, однообразными волнами уходило плато Бабуган. На севере, склон обрывисто уходил вниз, а котловину заповедника замыкал наш старый знакомый Чатыр-Даг, на вершине которого мы были пару дней назад, открывавшийся отсюда в совершенно необычном виде и едва узнанный, потому что был ниже нас почти на двадцать метров. Более привычным делом было то, что его трапециеобразную громадину видно почти с половины Крыма. А здесь он – под нами! На запад – огромной ямой зияла котловина Заповедника, а над ней с другой стороны – высился, почти вровень с нами, Демир-Капу.
Ветер трепал нас довольно сильно, продувая насквозь. Мы развернули флаг СССР, написали на нем фамилии всех участников восхождения, нашу принадлежность и, прикрепив его к заранее припасенному импровизированному флагштоку, воткнули на верхушке тура, завалив один его конец камнями. Все было замечательно, но... наверху ты лишь одно мгновение, дальше – только вниз.
Через перевал ветер проносил клочья облаков, которые иногда цеплялись за горы и тогда, все заволакивало непроглядной пеленой. Мы выдвинулись в направлении дороги, по которой изредка в сторону Южного берега проносились какие-то машины. Судя по карте, там, недалеко от перевала, уходила вниз старая грунтовая дорога, найти которую, была теперь наша первоочередная задача. Красный флаг на вершине Крыма, еще долго развевался нам вслед...
Дорогу мы нашли, сориентировались еще раз по карте и начали спуск. Моря мы не увидели, поскольку весь Южный берег находился под облаками, волнистое море которых расстилалось под нами до горизонта.
Маршрут, из-за наших блужданий по заповедному лесу, оказался скомканным. В "Орлиный залет" мы уже не успевали. Капитану через два дня нужно было уже выходить на службу, а у нас в запасе было еще пару дней. Мы должны были возвратиться через два дня после него. Решили встать на привал где-нибудь здесь, а спуск до трассы, продолжить уже завтра, немного отдохнув после всех наших марш-бросков. Нашли подходящую площадку, где и остановились.
Полянка была неброская, но довольно уютная. Разбили палатки. Стали попадаться первые сосны. Вспомнили, что сосновые леса на Южном берегу, почти каждый год горели, как спички. Набрали дров, обкопали место для костра и обложили его камнями. Приготовили обедо-ужин. Запасы наши ощутимо истощились, но был в этом определенный плюс – рюкзаки стали гораздо легче, да и мы втянулись в этот ритм. Завтра – дальнейший спуск, судя по карте, "свалиться" мы должны были в Краснокаменку. Ну что же, поглядим. И на нее и на тот самый "Красный камень". А пока – отдых.
*****
Как хорошо, что не нужно никуда «рвать когти». Мы начали спокойный, методичный спуск через светлый сосновый лес. Лесная дорога вилась серпантином по склону горы, ныряя вниз и выныривая вновь, но уже несколько ниже. Пару раз делали привал. Больше молчали. Но не от того, что говорить было не о чем, просто все понимали, что наша сказка в горах подходит к своему завершению. Дорога ясна, до трассы Алушта – Ялта уже буквально рукой подать. А там – и до Училища недалеко. Всего каких-то полтора часа на троллейбусе. И – как будто бы и не было ничего...
Как ни береглись от клещей, вспоминая наше бегство из Заповедника, несколько человек все же пострадали. Я снял клеща, уже порядком надувшегося, с живота, Саня с ноги, кто-то еще с чего-то. А у одного из наших, имени его я называть не буду по этическим соображениям, клещ присосался прямо к гениталиям. Тем самым сделав мишенью для незлых, но колких шуточек, типа – "Этот клещ тебе минет сделать хотел... А ты его "Звездочкой" от жопы и до головы..." Каких-то особых средств борьбы с клещами у нас не было, но была одна на всех банка "Звездочки". Вот ей и спасались. Натрешь ею клеща, он просто офигевает от подобного обращения. У человека слезы градом, если под глазом мазнуть, а тут... Маленькой комашке... Дыхание перекрыть... Он же жопой дышит, сердешный...
Перед нами возник старый, заброшенный карьер, а впереди красно-оранжевым выступом, маячил тот самый "Красный камень" или, если говорить с точки зрения местной топонимики – "Кизил-Таш". Сверху, он больше напоминал высунутую из склона задницу. Северный склон, довольно пологий, разделен узкой, заросшей лесом расщелиной надвое. Ассоциации – самые прямые. Южные же ее склоны были отвесными. Одна из многочисленных на Южном берегу так называемых скал-отторженцев. В районе этой скалы, когда-то отколовшейся от крутого южного склона Главной гряды и сползшей за миллионы лет по склону, почти к самому берегу, расположены виноградники. Где и выращивают тот самый Мускат белый, Красного камня, из которого потом производят одно из лучших одноименных крымских вин.
Прошли мимо него, посмотрели на тренировавшихся скалолазов, развесивших свои веревки на желто-красноватой, отвесной скале и вошли в поселок Краснокаменка, где и расположились на отдых, прямо на парапете подпорной стенки почти в самом центре. Здесь с нами попрощался наш старший. Проинструктировал нас относительно поведения на оставшемся маршруте и, дойдя до трассы, убыл к месту службы в Училище. У нас же оставалось впереди еще два свободных дня. Нужно было провести их с максимальной пользой для себя и добрать недобранных впечатлений.
Второкурсники отправились обследовать ближайшие окрестности. "Пацаны, там винище продают! Портвейн красный, Крымский! На розлив!" – восторженно объявил всем Володя. Ильдар быстро прокрутил в мозгу какие-то финансовые операции – "Идите, берите. В нашу флягу. Денег хватит?" Деньги в нашем общем котле были практически нетронутые, а объем фляги в двенадцать литров обещал нам впереди, абсолютно не скучный вечер. Вскоре они пришли обратно и Леша Звягин волок на пару с Димой, попеременно меняясь, нашу синюю двенадцатилитровую емкость, в которой во время походя мы хранили запасы питьевой воды.
"Ну и где отдыхать станем?" – спросил Король. Идею поехать в Алушту и там нормально бухнуть, предложенную мной и Саней, Ильдар сразу же отмел, как неприемлемую. Альтернативный выход нашелся тут же. "Слушайте," – предложил я, – "Давайте доедем до Лазурного, спустимся к морю и там, на Голубовских камнях, чудесно у моря отдохнем! Там тоже какой-то туристический притон имеется". Саня тут же подхватил эту идею, подтвердив, что место там действительно прекрасное, если его не испортила находящаяся там стройка. "А нам похер!" – ответил Дима, – "Переключатель в каком положении?" "Пох.й!" – подхватили все остальные – "Тогда поехали!"
Мы доехали до отворота с трассы на село Лазурное, расположившееся в живописном месте, на склоне горы Кастель и спустились туда пешком. Из села к морю. На берегу, порядком исковерканном стройкой пансионата "Лазурный", среди деревьев и кустов на склонах, то тут, то там торчали палатки какого-то полусамодеятельного туристического лагеря, в котором совершенно свободно себя чувствовали различного рода неформалы зачатую хиппового вида.
Мы прикинули, что места нам здесь явно будет не хватать и отошли немного подальше по берегу, пока не нашли нормальную, хотя и несколько загаженную поляну. Люди – свиньи, срать у себя под носом – для многих в порядке вещей. Прибравшись на ней, разошлись в разные стороны для заготовки дров, что в условиях довольно посещаемого места оказалось делом довольно проблемным.
Соорудили костер и стали готовить себе обед, совмещенный с ужином. Ну, а раз такое дело, то наша синяя емкость стала главной героиней сегодняшнего вечера. Рассыпали по мискам макароны с тушенкой и наполненные рубинового цвета жидкостью, алюминиевые кружки пошли гулять по кругу. За горы! За поход! За нашу замечательную команду! За Крым! За Училище! И еще много за что. На свежем морском воздухе красный портвейн усваивался очень хорошо и был вкусен необычайно.
Саня, Володя и Дима ходившие вокруг да около с заговорщицким видом, шмыгнули куда-то в кусты. "Куда они пошли?" – поинтересовался Ильдар. "Да наверное в санаторий на блядки пошли..." – ответил я неспешно, поскольку и мне уже было довольно-таки хорошо. "Я им сейчас устрою блядки! Стоять!" – рявкнул Ильдар и диким кабанчиком ломанул за ними через кусты, а через некоторое время буквально пинками, выгнав обратно на поляну.
Тихоня Звягин тем временем, начал петь во весь голос "Aufviederseen meine kleine, aufviederseen!" – чего за ним в трезвой обстановке никогда не замечалось. После чего зазвучал "Karl Marks sсhtadt" – это тот, который в переводе на русский звучал, как "Ландыши" и "Strasburg, meine liebe Strasburg". "Ну них.я себе, сказал я себе..." – переглянулись мы с Деркачом – "А Леха-то и петь умеет на немецком!"
Подведение итогов тем временем, плавно перешло в шабаш. Балховитин все порывался пойти искупаться, причем пойти он хотел напрямую, не обращая внимания на обрыв, высотой метров в пять, скопанный при обустройстве предполагаемой набережной. Пару раз его едва успевали поймать, после чего он заплакал и залез в палатку, подальше от ненавидящих его упырей. Ильдар с Лехой, как самые старшие, все порывались пойти и избить хиппи в ближайших кустах. Их еле отговорили и они весь оставшийся вечер собирали воедино наше взбесившееся воинство...
*****
Утро встретило нас головной болью, а некоторых и приступами тошноты. Стали подсчитывать потери. Одна палатка оказалась заблеванной от пола до потолка, включая все имущество. Вова решил ночью посмотреть на лунную дорожку, да видать в темноте не рассчитал и улетел вниз с обрыва. Пришел в лагерь с ободранной мордой, без своей шапки и утром, чистя зубы и поминутно кривясь, вычистил один зуб. Вместе с Балховитиным, упавшим в куст держидерева, они составляли весьма колоритную парочку.
Вместе с Вовой мы пошли искать его шапочку – "пидорку". Обойдя лагерь по берегу, нашли ее на склоне, из которого торчали гранитные валуны и имевшем на себе свежие следы от летавшего здесь тела. "Ёо-пт..." – протянул Вова, – "Трезвый бы наверняка убился..." "Не ссы, Вован, везет дурака и пьяницам! А мы совмещаем в себе эти два замечательных свойства!" – успокоил его я. "Теперь еще блять и заблеванная палатка, вместе с вещами... как теперь все это переть?" – огорченно покачал он головой.
Тем временем, лагерь, полуразгромленый вчера, начал снова сворачиваться. Звягин на просьбы спеть что-нибудь по-немецки, только слегка краснел и опускал взгляд. Ильдар почему-то ни в какую не хотел останавливаться для приведения себя в порядок в Алуште, а упорно хотел ехать в Сосновку, на последнюю ночевку. Его видимо смущал наш внешний вид и в гости к людям во главе компании с такими рожами, он идти не хотел.
В Сосновку, так в Сосновку. Не могу сказать, насколько колоритным был вид нашего уставшего, ободранного, но непобежденного, заросшего щетиной войска. Войска, меньше всего напоминавшего будущих офицеров, а больше похожего на бредущих по набережной Рабочего Уголка бомжей. Но то, что мы привлекали внимание гуляющих жителей и гостей города – это да! Саня встретил каких-то своих знакомых, которых в городе у него было пруд пруди и, на какое-то время задержался, разговаривая с ними. Может быть еще и поэтому, нами не заинтересовалась местная милиция.
Добредя до троллейбусного кольца, мы погрузились в салон и поехали к месту ночевки в отсыревших палатках и практически, без запаса еды, имея лишь остатки хлеба и пакет с горохом. По пути, уже в троллейбусе на Балховитина начал наезжать какой-то не совсем трезвый придурок. Пришлось его немного успокоить, после чего он сидел у задней двери и плакал пьяными слезами. Опустевшая Сосновка предстала перед нами довольно унылой и тихой. Тишину нарушал лишь гул проезжающих по трассе машин. Туристы, пройдя свои маршруты, убыли к месту жительства. Было тихо и начал моросить мелкий, противный дождичек, пропитывая сыростью все наше имущество.
Костер не хотел разгораться ни в какую, все было сырым и противным и вызывало злость. Потому что рядом была Алушта и нормальные бытовые условия. Но, настойчивость и чувство голода победили, огонек постепенно отвоевал себе место под зашедшим за горизонт Солнцем и наше варево начало понемногу пузыриться, предвещая скудный, но долгожданный ужин. "Блять... до послезавтра тут сидеть..." – со злостью процедил Дима.
Наше уныние было прервано возгласом – "Вот они где!" К месту готовки пищи приближались мои и Санины родители – "Собирайтесь, поехали!" Ильдар, видимо поняв, что отвертеться не удастся, стал с хмурым видом собирать вещи. Всех остальных однако, не пришлось долго уговаривать. Мы разделились. Король и Остапенко поехали к нам, но поскольку у нас был ремонт, то остальные – к Сане. Где привели себя в порядок, нормально поели и переночевали.
Следующий день выдался солнечным и теплым. Как по заказу. Прогулка по Набережной до Рабочего уголка и свежее пиво в пивной "Корчма". Все были гладко выбриты и пахли одеколоном, разве что некоторые – слегка ободраны. Мы ходили и радовались жизни, а так же – простому, домашнему комфорту. Вечером этого же дня, все мы убывали в Симферополь, где нас снова ждал учебный процесс и повседневная служба. А так же – прекрасные и веселые воспоминания... Мы рассчитывали соорудить что-то подобное на следующий год, но... Советский армейский туризм ушел в небытие вместе со страной... Мы оказались последними...
Г игиена на грани экстрима .
Всех извилин – две,
Горд собой, натужен.
Светлой голове
Ореол не нужен...
(Леонид Авербух)
«Они тупые!» – так кажется в свое время говорил Михаил Задорнов об иностранцах вообще и об американцах в частности. Ну что же, вероятно что-то в этом все же есть! И действительно, какой, скажите мне, адекватный среднестатистический обыватель – иностранец додумается до тех вещей, до которых додумывается среднестатистический наш человек, в смысле – гражданский? Ну а наш человек военный может додуматься до такого, какое не всегда будет сниться его гражданскому собрату.
Вадим Сергийчук, по прозвищу "Уксус", с выпученными глазами несся по взлетке в направлении ротного санузла, держа на вытянутой руке эмалированное ведро, из которого, из дыры в боку хлестала вода, оставляя на поду извилистый мокрый след. Перед этим в роте моргнул свет и раздался звук, примерно такой, какой производит сварочный аппарат во время работы. "Вадим, что такое?" – живо интересовались у него окружающие. "А... отъ.битесь!" – прошипел Вадим, пробегая мимо – "Них.я себе, водички нагрел... ноги помыть..."
В комнате первого отделения третьего взвода на полу было мокро и воняло паленой изоляцией. На стене, в том месте, где была розетка, как бы украшая ее (стену), виднелось красивое черное пятно с неровными краями. Присутствовавший народ улыбался, но как-то кривовато – "...там Уксус мимо вас не пробегал? Он еще полы здесь должен протереть..." "Да так... пролетел, как в жопу укушенный, с дырявым ведром... матюкаясь..." – прозвучал ответ – "А что?"
А было вот что. Вадим соорудил себе армейский кипятильник большой мощности. С использованием двух подковок, хорошего куска провода, десятка спичек и некоторого количества ниток, которое он беспощадно отмотал из общей катушки. Почему большой мощности? Да потому что в другом случае, при изготовлении не такого мощного аппарата, можно прекрасно обойтись двумя старыми лезвиями и шестью спичками.
Кипятило получилось действительно атомное. Полная трехлитровая банка воды для чая вскипала буквально через несколько минут, гудя и вибрируя так, как будто ее поставили греться на кратер действующего вулкана. О том, чтобы вскипятить отдельный стакан – речи не шло. При вскипании половина воды разбрызгивалась вокруг сразу же. Другая – просто превращалась в пар.
Поскольку в казармах, во всем Училище отсутствовала горячая вода, судя по всему, не была предусмотрена изначально, то имея такой аппарат, можно было позволить себе некоторые блага цивилизации. В виде воды подогретой. Которую можно было бы использовать, скажем, для приведения себя в порядок. Мысль об этом, однажды возникнув в голове Вадима, какое-то время упорно не хотела его отпускать.
В один прекрасный день, он откуда-то приволок в роту эмалированное ведро. Прополоскав его в умывальнике, набрал почти до краев и понес в комнату своего отделения, мечтая подогреть и затем, снова отнеся его в умывальник, помыть ноги теплой водой. Как белый человек, разумеется. Почти.
Поставив ведро на табуретку, Вадик с мечтательным выражением на лице, размотал провод кипятильника. Все последующие действия сопровождались дельными советами и язвительными комментариями собравшихся вокруг ведра сослуживцев, на которые курсант Сергийчук отвечал неизменным – "Отвалите!" С таким же мечтательным выражением, он сунул кипятильник в воду, предварительно положив сверху ведра линейку и изогнув провод таким образом, чтобы приспособление не касалось стенок.
"Ну... С Богом..." – сказал Вадим, втыкая провод в розетку. Свет в комнате немного мигнул и послышался тихий, но вполне ощутимый гул. "Ну и за.бись!" – глядя на это отметил Вадим, потирая руки – "Интересно, за сколько времени он нагреет ведро?"
С этими словами он протянул руку к ведру, видимо, решив поправить начавший съезжать провод. Как было бы сказано в настоящее время – "в результате нечетких действий обслуживающего персонала", кипятильник коснулся стенки ведра. Бело-голубая вспышка из ведра, заставила всех, собравшихся вокруг, попрыгать прямо через спинки, на свои кровати, а вторая такая же, бело-голубая, но уже из стены – сгруппировавшись, закрыть головы руками.
"Бляяяять!" – заорал Вадим, выдирая провод из розетки и отшвыривая кипятильник в сторону. Послышался тихий плеск. "Твою мать! Дырка! Уксус, беги нахер в туалет со своим ведром!" – в свою очередь, заорал Виталик Соценко, уворачиваясь от летящих в его сторону и вертящихся, как змей, еще дымящихся остатков кипятильника. Вадим, схватил ведро с табуретки и исчез за захлопнувшейся за ним дверью.
Ну а что было дальше – Вы уже знаете. Точнее – не все. Когда об этом узнал старшина, то чуть было не свалился в обморок. Он вызвал к себе Вадима, поприветствовав его словами – "Ах ты, ё.анная жертва!", а в дальнейшем разговоре, одним из самых приличных слов в его адрес, было слово "х.й". Вдобавок, Вадику еще пришлось потом искать новую розетку и заклеивать обоями черное пятно на стене. Вот такая гигиена. Экстрим почти!
Лушпарики.
Если стремитесь натужно
Вы долгожителем стать –
Предков своих тогда нужно
Тщательнее выбирать...
(Леонид Авербух)
Иногда задаю себе вопрос – вот мы учились десять лет в школе, но общаешься и даже здороваешься уже далеко не со всеми, а здесь – всего четыре года и дружим до сих пор. Почему? На мой взгляд – во многом от того, что нам выпало вместе переживать далеко не простые времена последних лет Советского Союза и первых лет после его краха. Это первое. А второе – мы не только учились, мы жили вместе. Все. Двадцать четыре часа в сутки. Семь дней в неделю.
Казарма, пусть даже и нашего образца – типа общежития, с комнатами по десять человек – это все же – казарма, с тем же делением личного состава по морально – психологическим качествам, что и в казарме классической. Ну а третье – мы не только жили, но и болели тоже вместе. Общая столовая, общая баня, да что и говорить – бабы тоже были такие, у которых отметилась немалая часть училищного люда. Отсюда – и одинаковые болячки.
Мы с Вами намеренно не будем обращать внимания на общую природу заболевания триппером у "молочных братьев", все же, как справедливо сказано мудрыми людьми, что "триппер – это не болезнь, это травма!" А обратимся к вещам гораздо более прозаическим, но от этого не менее интересным и увлекательным.
"Бля... что это такое..." – растерянно, с оттенком раздражения, сказал Вовчик (фамилии в данном случае называть не будем, обойдемся лишь именами). Он снял с себя штаны армейского белья, именуемого "белухой" и посмотрел на свой живот, на котором явственно проглядывали свежие расчесы – "Ну писец, зудит аж не могу! Разодрать все готов! Зато когда чешешь, аж кайф ловишь!"
"Слышь кайфолов, п.здуй-ка ты в санчасть, да поживее!" – посоветовал ему спавший на соседней кровати Макс. "Похоже у тебя чесотка!" – пришел он к заключению с видом бывалого врача – "Сейчас эта херня пойдет гулять по всей роте..." "Слышь, Вован, у тебя что, "месячник чухана" начался?" – участливо поинтересовался Дима.
Вовочка, который чуханом никогда не был, только и делал, что периодически поскребывая себя в разных местах, отмахивался от шуточек окружающих. Все было довольно серьезно. Казарма – такое дело... любая инфекция, возникнув однажды, могла пойти гулять по роте – и попробуй ее останови. Во втором взводе кто-то уже ходил по казарме в тапочках. С перебинтованными и измазанными какой-то желтой дрянью пальцами ног.
Зараза заходила к нам одновременно с двух сторон. Чесотка и грибок интенсивно искали себе жертв среди курсантов. "Нитрофунгин – лучший друг курсанта!" – сказал кто-то из знакомых старшекурсников. Народ толпами побежал спасаться в санчасть. Там выдавали военное средство от чесотки. Что такое военное средство? Это – две двухсотграммовые банки, заполненные двумя бесцветными жидкостями. Одна – с едва уловимым, но неприятным запахом, вторая, без запаха вообще. Сперва, сняв штаны и вообще – все, намазываешься той жижей, которая с запахом. Потом, когда она высохнет и превратится в кристаллики, намазываешься второй жижей, той, что без запаха. Ждешь, пока это все снова высохнет и тогда пробуешь одеваться. Одеваться противно, поскольку снадобье довольно ощутимо начинает стягивать кожу. Но – жить можно.
И так – три раза в день, втечение недели. После чего – все проходит. Тут и болеть не захочешь, потому что времени свободного у курсанта первого курса – нет. Если кто-то заболевал со старших курсов, то вместо санчасти, просто перелезал через забор и бежал в ближайшую аптеку. Аптечное средство убивало чесоточного клеща в три дня. Но для ленивых и первокурсников – сходило и так. Главное – результат.
Наверное, трудно отыскать человека, прошедшего через казарму, который не изведал бы в свое время этих милых болячек. А со стороны пока еще здоровых, при виде бредущих с банками из санчасти раздавалось – "О! Лушпарики идут..."
Пролетарии всех стран – соединяйтесь!
В конце 1991 года на нашу долю выпала редкая удача – лечь спать в одной стране, а утром проснуться уже в другой. При этом – никуда даже не выходя из родной казармы. Как это? Да очень просто – в конце декабря упомянутого выше года, некогда могучая держава – СССР, после недолгого периода распада, прекратил свое существование. Как обычно, в роте был произведен отбой. Примерно в это же время, в Беловежской Пуще собралась троица моральных подонков и интеллектуальных кретинов и, в пьяном угаре подписала бумагу, где говорилось о том, что страны больше нет. А есть какое-то Содружество, о котором еще никто толком не знает. Так что наш подъем был произведен в другом субъекте международного права.
Все резко стали чрезвычайно самостоятельными. Вначале никто не понял – как это, в ту же Москву и ехать за границу? В телевизоре коротко сказали – "Да". А вечно молодой и вечно пьяный Борис Николаевич заверил, криво улыбаясь, что "границы будут прозрачными". "Офигеть! И как мы теперь будем учиться и где служить потом?" – такие разговоры были не редки в то время. Как и где – никто толком не знал.
А где неопределенность – там хаос. Как неслась служба – было известно одному Богу. Какой-то наряд назначался и как-то заступал. Вечерних поверок как таковых, какое-то время не было. Так же не было и подъемов. Просто не все могли встать с подъемом. Не сказать, что все пили беспробудно, но количество поглощаемого алкоголя резко возросло. Иногда пустые бутылки даже катались по взлетке. Личный состав в своей массе, все же старался держаться достойно и не опускаться на уровень полуобезьян. Хотя некоторые потом все же покатились по наклонной. Но это – лишь немногие исключения. В семье – не без урода, как говорится. Пустую тару выбрасывали так, чтобы она не попадалась на глаза командирам. Зачем?
Все вставали сами, сами умывались и, через черный ход шли в столовую, пробираясь мелкими группами. Если конечно хотели есть с утра. Частенько бывало так, что на еду начинали смотреть уже ближе к обеду. Иногда даже выходили как бы на зарядку. Больше – чтобы просто обозначить выполнение распорядка дня, поскольку подразделения не уходили дальше банно-прачечного комбината, где, устроив общий перекур, пешком возвращались обратно. И если походами в столовую руководило все-таки чувство голода, то, что руководило учебной деятельностью, было совершенно непонятно. Скорее – условные рефлексы, заложенные в нас за первые полтора курса. Потому что на кафедрах работали заслуженные офицеры, отдавшие большую часть жизни службе в Вооруженных Силах СССР.
Заслуженные офицеры пребывали в совершеннейшем нокауте. Как так? Была страна и – нет... Впрочем, кто-то приспособился довольно быстро. Примерно в октябре – ноябре 1991 года, стали попадаться на глаза офицеры, быстро сменившие кокарды и пуговицы со звездами на то же самое, но уже с трезубцами. Из вышестоящего командования им никто ничего не говорил и за нарушение формы одежды замечаний не делал. Исключение составляли шутки и язвительные замечания сослуживцев. Значит – будущее предчувствовали правильно. И карьеру необходимо строить уже в этом направлении.
Кто-то не принял происшедших перемен и написал рапорт на увольнение из рядов Вооруженных, или теперь уже – Збройных сил. Кто-то, уволившись, отправился к себе домой, в ту республику, откуда был родом, сменив одну неустроенность на другую. Многие военнослужащие, однако, уже успев обрасти имуществом и пустивши корни в Симферополе, взвесив все "За" и "Против", все же приняли изменившиеся условия и поклялись в верности новой Родине. Выбор вынуждены были поневоле делать и курсанты.
И понеслось... массово стали писать рапорта на отчисление выходцы из бывших союзных республик. На выход потянулись россияне, белорусы, многие выходцы из Молдавии, Узбекистана, Казахстана – "Ну а что мне здесь делать? Я здесь служить не хочу, мой дом – там..." Некоторые переводились в свои местные училища, некоторые и вовсе заканчивали военную карьеру. Многие армейцы так же решили не связывать свою дальнейшую жизнь с военной службой, а податься на более легкие, как представлялось в то время, вольные хлеба. Кого-то прельстила романтика зарождающегося организованного криминала. Кто-то в ближайшие годы заплатил за это своей свободой, да и жизнью.
Батальоны стремительно таяли. Как ни крути, падала и дисциплина. Хотя, как мне кажется, эта проблема и вовсе отошла в то время на второй план. На первый план вышла задача хотя бы как-то попытаться организоваться снова. И снова хотя бы стать похожими на военное Училище. В конце концов, организм, пользуясь огромным запасом прочности, понемногу начал собирать себя сам, после осознания необратимости произошедших перемен. В подразделениях, из первоначальных ста двадцати – ста тридцати, оставалось по шестьдесят – семьдесят, а то и меньше, человек. В конце концов, дело дошло до того, что личный состав, заступая в "большой наряд", заступал всем батальоном.
Как? Спросите Вы. Да очень просто – караулы выставляла рота, у которой это был наряд по графику. Столовая и вся остальная "мелочевка", распределялись между остальными двумя ротами по очереди. Вполне в порядке вещей было сегодня смениться с караула, а завтра – уже заступать на КПП, или в Управление. Иногда "фартило" особенно – когда в нагрузку ко всему, еще нужно было отправлять людей и в гарнизонный патруль. Тогда могли вообще выдернуть "методом тыка" из любой роты того, кто не успел скрыться с глаз долой. Иногда это создавало конфликтные и курьезные ситуации ситуации, но вопросы все равно хоть и криво, но – решались.
Однажды вообще, для заступления в гарнизонный патруль, человека буквально "сняли с очка". Ни в чем не повинный курсант, чудом избежавший заступления в наряд, сидел и отдыхал с сигареткой в зубах, в ротном санузле. Внезапно на пороге данного места отдыха появляется командир двадцать второй роты и, увидев сидящего в позе орла военнослужащего, кричит, тыкая в него пальцем – "Вот Вы пойдете в гарнизонный патруль!" От такого известия, к тому же, преподнесенного в экстремальной форме, у нашего бедолаги, вывалилось сразу и все, что было накоплено за довольно продолжительный период времени.
Командир двадцать второй был мужиком достаточно настырным и не отставал. "Как Ваша фамилия?" – кричал он, нависая над сидящим и пытаясь проникнуть в его нагрудный карман в поисках военного билета... Срущий человек – по определению беззащитен. Однако, беззащитность порождает чувство, что отступать более некуда, а отсюда – мужество обреченных. Курсант, думая лишь о том, чтобы не провалиться в унитаз и, всеми силами, стараясь удержаться в неустойчивом положении и держа одной рукой собственные штаны и отбиваясь второй, закричал в ответ – "Да нет у меня никакой фамилии, отстаньте от меня, дайте посрать спокойно!"
Майор видимо понял, что слегка придурковато выглядит, да и пахнет здесь далеко не цветами, что-то буркнув себе под нос, вышел в коридор, на более свежий воздух, где и дождался нашего героя, которого, несмотря на полнейшее нежелание последнего, отправил в гарнизонную комендатуру на развод суточного наряда, пользуясь правами старшего по воинскому званию.







