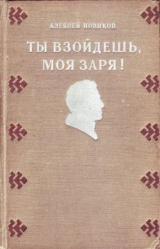
Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
Автор книги: Алексей Новиков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Москва! Москва!.. На тесных, но бойких улицах твоих легче дышится Михаилу Глинке. Горячее идут споры не только с однокашниками, но и с впервые встреченными людьми. И дни, недавно столь одинокие в Петербурге, летят неуловимой чередой.
Дружеские сходки следовали одна за другой. Собирались у Киреевских за Красными Воротами, у Соболевского на Собачьей Площадке, у Мельгунова… Сборища начинались по-московски – с обеда, а кончались поутру. И везде, где появлялся Глинка, к спорам присоединялась музыка.
Шестисотверстное расстояние, отделявшее древнюю столицу от резиденции Николая Павловича, благодетельно сказывалось во всем. Словно кончилось в Москве оцепенение, в котором пребывали мыслящие люди в Петербурге. Правда, над московскими журналами тяготел тот же чугунный цензурный устав. И в Московском университете точно так же, как и в Петербургском, до блеска начищенные пуговицы на студенческом мундире значили в глазах начальства куда больше, чем успехи в науках.
Но плохо ли, хорошо ли, московские витии ораторствовали каждый вечер. Они не были, впрочем, последовательны в суждениях, молодые москвичи. Профессор Погодин, например, выпустил увесистую диссертацию «О происхождении Руси». Диссертация не столько трактовала о происхождении Руси, сколько о варягах, якобы пришедших владеть Русью. Но, добравшись до варягов с помощью ученых немцев, профессор так ничего и не объяснил о происхождении русского государства, так и не догадался, что русская государственность сложилась без помощи незваных гостей. Раболепие перед варягами не мешало, однако, ученому мужу ратовать за словено-русские начала.
Московские витии из словено-россов единодушно питали недоверие к Петербургу. Там, на Сенатской площади, погибли скороспелые, чуждые народу замыслы, утверждал Погодин. Не то древняя Москва, колыбель, оплот и надежда русского народа. Не то первопрестольный град Руси, хранитель благочестия, ковчег мудрости, а самое главное – кладезь народного простодушия и смирения. Ревнители дедовых устоев готовы были видеть в Петербурге наваждение сатаны.
Но тут решительно возражали им московские философы, взиравшие с надеждой на Запад. Начинался спор, по-московски долгий и жаркий. Друзья-противники охотно ссылались на историю, на народ. Но как те, так и другие народа одинаково не знали, ибо предпочитали словопрения в уютных кабинетах и дальше московских гостиных не выглядывали.
Поклонники западной учености рассуждали о судьбах русского народа, оперируя Шеллингом и Фихте. Словено-россы, столь же упорно открещиваясь от живой действительности, взывали к старине. Замена туманных немецких формул декларациями о любви к Москве, к сарафану и даже к солянке по-московски не способствовала выяснению истины. Противники во мнениях охотно объединялись, впрочем, на любви к шампанскому. Шампанское пенилось, умы кипели, одна сходка сменялась другой.
По четвергам москвичи самых разных лагерей съезжались к княгине Зинаиде Волконской. В ее особняке на Тверской бывала вся Москва, с той существенной поправкой, конечно, что в обитель «Северной Корины» не ездил мастеровой люд из московских слобод. Точнее было бы сказать, что у Волконской собиралось все избранное общество. Однако можно ли отнести к этому обществу полупрощенного правительством, неслужащего дворянина Александра Пушкина? Часто езжал сюда и Сергей Соболевский, хотя по полицейским справкам значился он атаманом либеральной шайки.
Соболевский и повез Глинку к Волконской.
– Наша Зинаида, – рассказывал по дороге Соболевский, – прославилась не только красотой, но и мистической близостью к покойному царю-сластолюбцу. А ныне вышла по той должности на пенсион и на покое строчит ученые повести о древней Руси. Наши умники вещают в похвалу княгине, что в этих повестях виден утонченный вкус художницы, воспитанной в Италии. Кроме того, сочиняет княгиня оперу на французский сюжет. Ну, а поет!.. Да это ты сам услышишь.
Съезд у Волконской был в разгаре. Величавый швейцар едва успевал распахивать двери. Все новые и новые гости поднимались по мраморной лестнице, устланной коврами.
У «Северной Корины» не играли в карты. Чопорный аристократизм делил здесь досуг с искусством, мужи университетской науки внимали великосветской болтовне. Юноши толпою стекались к Волконской, соревнуясь со старцами, сданными из петербургских высших сфер в Москву, как в архив.
Соболевский подвел Глинку к хозяйке дома.
– Позвольте представить, княгиня, моего петербургского приятеля и музыканта. Он счастлив засвидетельствовать вам…
Перед Глинкой стояла высокая женщина лет за тридцать, красота которой была воспета Пушкиным.
– Я льщу себя надеждой, – приветливо сказала Глинке Волконская, – что наше знакомство даст и мне возможность насладиться вашим искусством, о котором наши общие друзья так много говорят. Нам, русским, дорог каждый отечественный талант.
Обласканный хозяйкой дома, Глинка замешался среди гостей. Едва встретил он Мельгунова, как все были приглашены в концертный зал. На боковых колоннах, обрамлявших миниатюрную эстраду, красовались портреты Мольера и Чимарозы. «Смеясь, говори истину», – вещала надпись над эстрадой, сделанная на латинском языке. Гости, заполнившие зал, перебрасывались французскими фразами.
– Мы готовим тебя на десерт, – шептал, склонясь к Глинке, Мельгунов. – Воображаю бурю восторга…
– Если ты не замолчишь, сейчас сбегу!
Мельгунов, кажется, принял угрозу всерьез и на всякий случай, чтобы общество не осталось без десерта, крепко взял Глинку за руку.
На эстраду вышел сухощавый господин и сел к роялю. Волконская со свободой истинной артистки облокотилась на инструмент.
– Я спою романс, всем вам известный. Но тем самым мы отдадим сердечную дань отсутствующему поэту и присутствующему сочинителю музыки.
Она любезно склонила голову по направлению к аккомпаниатору. Аккомпаниатор в свою очередь низко ей поклонился.
Музыка началась. Волконская запела:
…Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…
Глинка впервые слышал эти стихи Пушкина, положенные на музыку. Он прислушивался к могучему контральто певицы. Тонкий артистизм ее превосходил все, что ему пришлось о ней слышать.
А едва кончилась пьеса, Мельгунов стал повествовать другу о том, как княгиня исполняла этот романс в присутствии Пушкина.
– Вспыхнул Александр Сергеевич, как красная девица, – стало быть, дошло до сердца.
– Изрядная пьеса, – подтвердил Глинка, что-то обдумывая. – Так это и есть ваш Геништа? – он показал глазами на аккомпаниатора.
Автор музыки безучастно сидел за роялем. Гости наперебой изъявляли восхищение певице.
– «Из «Танкреда»! Из «Танкреда»! – все настойчивее раздавались голоса.
Речь шла о той опере Россини, которая составила первую его славу. Мелодии «Танкреда» пела вся Италия. Несравненная дива Паста, явившись на сцене в образе храброго влюбленного рыцаря, завоевала «Танкреду» Париж и всю Европу.
В музыкальных летописях числилась еще одна непревзойденная исполнительница роли Танкреда. То была знатная путешественница, прибывшая в карете с княжескими гербами из России. Разумеется, Зинаида Волконская не выступала на театральных подмостках, только избранная публика великосветских салонов могла слушать русскую певицу. Теперь, в Москве, она охотно возвращалась к «Танкреду», сызнова переживая отлетевшую славу.
– Начинаем? – спросил Геништа, когда зал затих.
Волконская пела выходную арию Танкреда, о которой говорили, что она навеки останется самой распространенной в мире. Но прошло всего пятнадцать лет со дня премьеры «Танкреда» – и полузабытого рыцаря сменили новые кумиры. Страшно сказать – трагического рыцаря потеснил разбитной цирюльник из Севильи. И никто другой, как сам Россини, был в этом виноват.
Волконская пела. В ее исполнении восхищенные слушатели ощутили и безумную любовь Танкреда к юной Аменаиде и горечь изгнанника при возвращении в неблагодарное отечество. Голос певицы звучал, как виолончель, вышедшая из рук старинных мастеров Кремоны. Раздались единодушные аплодисменты. Мельгунов хотел ринуться к эстраде, но Глинка удержал его.
– Дураки кричат, – сказал он, – будто только в Италии рождаются певцы. Сколько же беспорочных голосов водится у нас! Хоть бы и княгиню взять, да если бы еще пела она по-русски.
– Перевода нет, который бы удовлетворил княгиню, – объяснил Мельгунов. – Как поэты ни состязаются, она всех бракует.
– При чем здесь перевод? – удивился Глинка.
– А ты о чем говоришь? – переспросил Мельгунов. – Об арии Танкреда? Вот я и докладываю тебе, что нет достойного перевода. Как же петь княгине по-русски?
– Вовсе я не о том толкую, – рассердился Глинка, – но стократ сильнее был бы эффект, если бы пела княгиня не с итальянской аффектацией, а в русской манере…
Тут он вспомнил, что еще ничего не говорил другу о своих опытах в области русской системы пения. Но обстановка была неподходящей для объяснений.
Хозяйка дома, щедро угостив собравшихся своим искусством, теперь искала кого-то взглядом. Соболевский ей помог. Он взял Глинку под руку и повел на эстраду.
– Что вам угодно слушать? – с готовностью спросил Глинка у Волконской. – Что-нибудь из Россини?
– Почему вы думаете, – «Северная Корина» улыбнулась, – что одному Россини отдана моя любовь? Может быть, мы поладим на Бетховене?
Москва была избалована виртуозами. Поклонение Бетховену быстро распространялось среди молодежи, посещавшей дом Волконской. Каждый знал сонату, которую играл Глинка. Фортепианист не гнался за блестящими эффектами. Его мягкая и сдержанная манера исполнения отнюдь не препятствовала раскрытию взволнованной мысли Бетховена.
– Благодарю вас, – откликнулась Волконская, едва Глинка кончил. – Я никогда не слыхала Бетховена в таком понимании, но сердцем чувствую, что вам дано вдохновенное прозрение.
– Когда говорят о всечеловечности Бетховена, – отвечал Глинка под общий говор, – я думаю о том, что он прежде всего был великим немцем. Вне родной стихии не может творить талант. Именно потому великое в Бетховене стало достоянием не только немцев, но и всего человечества… Уважение к искусству других наций есть правило для народа, обладающего собственными талантами.
– А ваши композиции, господин Глинка? – Волконская обратилась к гостям, окружившим рояль. – Не правда ли, господа, мы все с нетерпением ожидаем?
– Я редко исполняю свои сочинения, – объяснил Глинка, – но, уверяю вас, вовсе не потому, что отличаюсь робостью. Музыка моя не соответствует, пожалуй, требованиям воспитанного вкуса.
– Вы хотите сказать: ложно воспитанного вкуса? – перебила Волконская.
– О! Я никогда не взял бы на себя смелость быть незваным судьей… Впрочем, я еще менее хочу уклониться от вашего взыскательного суда…
Глинку не отпустили с эстрады до тех пор, пока он не спел все свои романсы.
…В салоне, посвященном изящным искусствам, как всегда, обсуждали журнальные новости и театральные спектакли. Много говорили и о молодом петербургском артисте. Исполненные им романсы сравнивали с пьесами баловня Москвы – композитора Верстовского.
Вокруг этой темы и сосредоточились в конце концов все разговоры. Но это не значит, конечно, что Москва изменила своему любимцу. В музыке Верстовского находили больше романтических страстей. Чего стоит его «Черная шаль» и «Песня Земфиры»! С другой стороны, отдавали дань и господину Глинке: приятные его романсы были мило спеты.
– Только и всего?! – возмущался Мельгунов.
Но так и осталось неясным, чего он ждал.
Глава пятаяДрузья сидели за утренним чаем.
– Ты, актуариус, в должность поедешь? – спросил Глинка.
– А то и впрямь съездить на часок? – задумался Мельгунов. – До репетиции как раз успею.
– Стало быть, поедешь?
– Или не ехать? Черт с ним, с архивом, – после наверстаю.
– В таком случае попотчую тебя музыкой.
– Что же сразу не сказал! – обрадовался Мельгунов. – А вдруг бы я воспылал усердием к службе?..
Он поместился около фортепиано и долго слушал.
– Что ты играл, Мимоза?
– Сам разгадай! – отвечал Глинка и повторил начало пьесы.
– Что-нибудь из западных мастеров? – сообразил Мельгунов. – Так?
– Стало быть, так… – улыбнулся Глинка, продолжая играть. – А может быть, и не так? Вслушайся лучше.
– Неужто твое? – растерялся Мельгунов.
– Послушай еще раз адажио будущей сонаты. Давно я ее начал для альта с фортепиано, да на русском скерцо споткнулся, а теперь и адажио заново замыслил.
– Писано, нет сомнения, в классической манере, – снова вслушался в пьесу Мельгунов, – однако и здесь ты хозяином глядишь.
– Кажется, я сообразил ловкий контрапункт, – согласился Глинка. – Думаю, и с прочими ухищрениями музыкальной премудрости я теперь не в очень дальнем родстве. Но все это только глупца утешить может. – Глинка встал из-за фортепиано. – Ты наших народных умельцев когда-нибудь слыхал? Сколько ни поют, всегда новые варианты ищут. Святое беспокойство, в нем же и есть жизнь. Касательно музыкальной науки тоже скажу: нет ничего губительнее застоя.
– Русская музыка тогда возвысится, когда сочетает отечественное с лучшими элементами германской и итальянской школы.
– И статьи твои по этому поводу читал, – Глинка, ухмыляясь, посмотрел на Мельгунова. – Однако решительно с тобой не согласен. Негоже нам в пестром лоскутье щеголять. Нам только тот кафтан будет по плечу, который сами сошьем по собственному покрою. А доброго приклада, коли к нашему покрою подойдет, чураться, разумеется, не будем. Есть у тебя, Мельгунов, и воображение, и чувства, и перо в руках, – продолжал Глинка, стараясь развить у друга верные взгляды, – доколе же будешь сидеть между двух стульев? Вот ты о симфониях графа Виельгорского писал: русские, мол, симфонии! А какие они русские? Любой ученый немец так потрафит. Не та симфония будет русской, которую в России напишут, а та, в которой мы себя узнаем. Пришло время выработать коренной взгляд на нашу музыку… А еще более время, – вдруг заключил Глинка, – ехать нам в театр. Кажись, мы и так опоздали?
В театре репетировали оперу Верстовского «Пан Твардовский». Любимец Москвы впервые дарил ей крупное, драматическое произведение. Москва полнилась слухами о предстоящем событии. На репетицию, которая была назначена в декорациях и костюмах, собралось немало любопытных.
Гремела увертюра. В ней усердно действовали неумолимый рок и силы ада. Рок пользовался преимущественно трубами, адские силы вихрем поднимали весь оркестр.
– Опоздали! – с отчаянием воскликнул Мельгунов, заслышав из театрального вестибюля последние звуки увертюры, и увлек Глинку в зрительный зал.
Сцена представляла мрачный лес: среди таинственных гробниц расхаживал в сопровождении слуги герой оперы – пан Твардовский.
– Молнию давай! – крикнул в кулисы дирижер и знаком остановил оркестр.
– Вот это и есть Верстовский, – шепнул Глинке Мельгунов.
Запоздавшая молния ослепительно сверкнула и эффектно лязгнула в оркестре. Пан Твардовский вынул из-под черного плаща черную книгу, протянул к гробницам магический жезл и пропел заклинание:
Оставь подземных стран туманную обитель
Тебя зовет твой грозный повелитель!
В покров эфирный облекись,
Прими прелестный вид,
Покорствуй мне, явись!..
– Ну чем не Фауст по-московски? – саркастически улыбнулся Мельгунов. – Автору сей поэмы, Загоскину, нипочем Гёте… Мы сами с усами.
– А где происходит действие? – деловито осведомился Глинка.
– На Галицкой Руси.
В это время запел хор невидимых духов, произошло колебание земли, вспышки волшебного пламени, и перед паном Твардовским предстал дух преисподней. После обстоятельных переговоров пан заключил союз с сатаной. Верстовский то дирижировал оркестром, то взбегал на сцену. Он показывал адские повадки сатане, учил демоническим жестам пана Твардовского, потом снова возвращался к оркестру.
– Пойдем к Верстовскому, – предложил Глинке Мельгунов, когда картина кончилась.
– Не будем ему мешать, – отвечал Глинка. – Видишь, сколько у него хлопот: мало что оркестром управляет, он еще артистов учит – и, сколько можно заключить, искусно учит… Не пойму только: чего хочет пан Твардовский?
– Поэму Гёте помнишь? Пан Твардовский, как и Фауст, жаждет девственной любви, и сатана сулит ее герою в образе прекрасной Юлии. Но Юлия не Маргарита, и Твардовскому не суждено обладать невинностью. У Юлии есть возлюбленный, русский офицер Красицкий. Все думают, что он погиб на войне, но он вовсе не погиб, а, разочарованный, бродит неподалеку с цыганами.
– В чем же он разочаровался? – опять перебил рассказчика Глинка.
– Об этом Загоскина спроси. Знаю только, что Верстовский непременно требовал присутствия в опере цыган.
Цыгане не заставили себя ждать. Едва открылся занавес, они явились пестрой толпой, во главе с разочарованным Красицким. Со сцены грянула удалая цыганская песня:
Мы живем среди полей,
И лесов дремучих,
Но счастливей, веселей
Всех вельмож могучих.
Песне этой суждено было жить гораздо дольше, чем самой опере. Но сейчас даже лихой напев не мог утешить печального Красицкого: Юлия была объявлена невестой чародея!
Уже было приготовлено для Юлии брачное ложе, на котором она должна была погибнуть в объятиях чародея, но свадебные столы превратились вдруг в гробницы. Уже заключен был в темницу несчастный Красицкий, но в это время сатана поджег замок пана Твардовского. Потом на сцену хлынули бурные воды. Словом, все шло так, будто на сцене распоряжалась приснопамятная колдовка Леста. Наконец сатана, измучившись с чернокнижником, поднял его на воздух и швырнул чародея в озеро, во-время образовавшееся на сцене. Тогда на глазах у зрителей погиб злодей, а счастливые влюбленные приступили к заключительному дуэту. Цыгане, объединясь с поселянами, окружили их радостной толпой.
Но дело шло на репетиции далеко не так гладко, как полагалось по либретто. Уже надобно было гореть замку Твардовского, а он стоял как ни в чем не бывало.
– Давай пламя, черт! – кричал взбешенный Верстовский пиротехнику, заболтавшемуся в кулисах с фигуранткой.
Все это было бы еще полбеды. Гораздо больше пришлось повозиться автору оперы с хористами: явившись на сцену в виде вольных цыган, они выстраивались во фронт, держа руки по швам. Разочарованный Красицкий в свою очередь досаждал маэстро, ибо по романтической рассеянности никак не мог вступить во-время. А ведь романс его, печальный и страстный, томный и мечтательный, был гвоздем оперы!
Едва отзвучал финал, разгневанный маэстро покинул оркестр и скрылся за занавесом.
Глинка с Мельгуновым поехали к Соболевскому.
– Как тебе опера пришлась? – спрашивал за обедом хозяин Глинку.
– Молчит! – откликнулся Мельгунов. – Я к нему всю дорогу приставал, а он мне о прелести московских улиц рассказывал. Понравилось ему, видишь, как разносчики выпевают.
– Да ведь это клад для музыканта! – объяснил Глинка.
– Коли так, то и за разносчиков выпьем, – радушно потчевал Соболевский. – Впрочем, любопытно знать твое мнение о новинке, которой предрекают неслыханную славу.
Глинка отхлебнул любимого красного вина.
– Решительно не понимаю этой московской селянки из «Фауста» наизнанку с подболткой из пушкинских «Цыган». Да еще обильно сдобрил ее господин Загоскин собственными упражнениями в романтизме, если только можно принять за романтизм всякую чепуху в стихах и в прозе… Да вы все это сами лучше меня знаете.
– Надо же чем-нибудь публику ошарашить, – улыбнулся Соболевский, – иначе ложи не раскупят.
– А музыка? Ты про музыку говори! – приступал к Глинке Мельгунов.
– А музыка… Надобно бы музыку еще раз послушать…
– Эзопова мудрость! – съязвил Мельгунов.
– Нет, почему же? – спокойно отвечал Глинка. – Сколько я ни пытаюсь ту музыку воедино собрать, а она между рук плывет. Выходит, хоть и представлены мелодии в «Пане Твардовском» в изобилии, а оперы-то, пожалуй, нет… Ты, Соболевский, сулился мне библиотеку показать… Не томи книжную душу.
Соболевский раскрыл шкафы, в которых хранились его сокровища. Собрание редчайших книг свидетельствовало о редкой энергии библиофила.
– Где ты все это раскопал?
Соболевский наблюдал с затаенным торжеством.
– Весьма еще скудно мое собрание, – с напускным равнодушием сказал он, – однако, положив начало, не отступлюсь. Задумал я собрать все, что написано о России на всех языках земного шара… Ты эту книжицу видел?
Соболевский порылся на нижних полках и извлек из-под спуда первопечатное издание «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева.
Глинка выхватил книгу и подошел к окну.
– Соболевский, – сказал он, перелистывая страницы, – а Кюхлины выписки из этой книги помнишь?
– Еще бы! А нелегко было и раздобыть это сокровище. Едва ли десяток экземпляров уцелел… Ну, давай, давай сюда запретный плод.
– Счастлив ты, книжник! – с завистью сказал Глинка.
– Не все нам попусту в журналах шуметь. Надо что-нибудь для отечества сделать. Я, пожалуй, все страны объеду, все хранилища обыщу, все монастыри повытряхну, а будет в России такая Rossica[19]19
Собрание книг о России (лат.).
[Закрыть], которой позавидует мир.
В соседних комнатах шли приготовления к вечернему приему, а хозяин и гость все еще рылись в книжных шкафах.
– Когда же ты за границу собираешься? – спросил' Глинка.
– Я бы хоть завтра в Англию махнул. Как будто и компаньоны для будущих фабрик объявились. Но сам знаешь, надо разрешение у царя просить… Ты, Глинка, не туда ли собираешься?
– В Англии мне делать нечего. Коли поеду, то начну с Италии. Однако меня еще служба держит.
– А чего ради служишь?
– Доходов нет. Правда, сейчас батюшка мой, кажется, удачливо коммерцию повел, но пока на чужой капитал работает.
– А зачем тебе Италия?
– Ты в Англию за паровиками собрался, а меня музыка посылает. Не думаю, впрочем, что многие чудеса увижу. Насчет паровиков Европа ныне куда богаче.
– И в Москву тебя музыка привела? Ты с Верстовским познакомился?
– Не имел возможности.
– Так сегодня у меня и познакомишься.
Наемный лакей, заглянув в кабинет, вызвал хозяина для неотложных распоряжений. Вернувшись, Соболевский спросил Глинку:
– Ты завтра окончательно едешь?
– Окончательно.
– Так мы тебя до заставы с цыганами проводим.
– Помилуй! – ужаснулся Глинка.
– А чего же миловать? Законтрактованы цыганы на всю ночь, а день мы, как водится, по пути прихватим.








