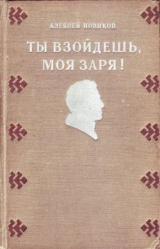
Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
Автор книги: Алексей Новиков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
По просторной зале в доме купца Пискарева ходит одинокий титулярный советник, клянет великосветских аматёров и… кажется, сызнова мечтает.
Да мало ли титулярных советников занимается в свободные от должности часы проектами по части поэтической или музыкальной?
Однако бдит над титулярными советниками начальство и ни одному не даст спуска. Сам первоприсутствующий граф Сиверс старается спасти своего помощника секретаря.
– Я знаю все, – сказал Глинке граф, вызвав его в служебный кабинет. – Я готов простить молодости ее легкомыслие… я на многое готов, но я хочу видеть хотя бы тень раскаяния…
Глинка слушал графа, ничего не понимая.
– Господин Майер объяснил мне все, – решился наконец Егор Карлович. – Сочиняйте вашу музыку, кому она может помешать… Но если вы, – граф Сиверс слегка постучал сухим пальцем о стол, – если вы становитесь богоборцем и отвергаете классическую форму, то я, ваш начальник и, смею думать, друг, должен остановить вас раньше, чем вы совершите прыжок в бездну… Что? – неожиданно спросил Егор Карлович, сам потрясенный нарисованной картиной.
– Уверяю вас, ваше сиятельство, – отвечал Глинка официальным тоном, – я никуда не собираюсь прыгать.
– Значит ли это, что господин Майер ошибся, рассказывая мне о ваших композициях, или, может быть, я неточно его понял? – Егор Карлович смотрел на кающегося грешника выжидательно.
– Ни то, ни другое, Егор Карлович! Я свято ценю классическую форму, как то подобает каждому образованному музыканту…
– Вы все-таки примерный молодой человек! – просветлел граф.
– Но признаюсь вам, когда мне хочется испробовать свои силы в сочинении музыки…
– Тогда? – опять насторожился Егор Карлович.
– Тогда я считаю недостойным слепо подражать великим музыкантам. Это было бы неуважением к ним. И я пробую идти своим путем. Не смею сравнивать себя с великими творцами прошлого, но ведь и они, прежде чем стать классиками, были бунтарями, обгоняя свое время.
Первоприсутствующий граф Сиверс задумался, пока не нашел выход из затруднительного положения.
– В конце концов, – сказал он, – мне нет дела до ваших партикулярных занятий. Но я хочу быть уверенным, что завтра вы примете участие в нашем домашнем квинтете. Начнем ровно в семь часов.
По всей вероятности Глинка и поехал бы к Сиверсам, если бы не было назначено у него занятие с певчим Ивановым. Ведь вбил же себе в голову неугомонный музыкант, что невзрачному певчему суждено прославить русское искусство. Но для этого Иванову надобно было стать артистом-творцом. И здесь Глинка нередко чувствовал свое бессилие.
– Разве не красиво у меня, Михаил Иванович, звучит? – спрашивал, почувствовав себе цену, Иванов. – Этак и в театре ни один тенор не возьмет.
– В театре… в театре! – ворчит Глинка. – А вы спрячьте свои ноты так, чтобы никто и не думал, что вы берете верхнее си, но чтобы оказал каждый: «Эх, сколько сердца!» Русский же вы человек, или не слыхали, как в народе поют? Ну, давайте повторим.
Но Иванов уже влюбился в свой голос и не хотел думать ни о чем другом. Однако не таков был Глинка, чтобы, открыв клад, выпустить его из рук.
– Олух! – говорил он, отпустив певчего, и стучал при этом кулаком. – Мог бы мир перевернуть с таким голосом, если бы человеком стал.
А Яков норовил еще больше досадить:
– Не прикажете ли, Михаил Иванович, прибавить соловью за усердие, а то, может, тоже сбежит?
Глинка подталкивал дядьку к дверям и запирался.
Не время ли вернуться к собственным сочинениям? Гамлет не мог стать героем русской оперы и давно не тревожит воображение. Но ведь и великий Моцарт и несравненный Глюк не создадут русской музыкальной драмы. Следовательно, не с музыки ли надо начинать? А начинать с музыки – это значит вернуться к песням.
Вся осень 1827 года прошла в трудах. Никто не мешал затворнику. Не появлялся и Одоевский.
Но в один из октябрьских вечеров Глинка радостно встретил долгожданного гостя.
– Вот уж во-время пожаловали, Владимир Федорович! – и, едва Одоевский снял пальто, хозяин увлек его в кабинет. – Чем порадуете?
Одоевский рассказал о многих своих предприятиях. Кое-что думает он усовершенствовать в органе, и тогда преобразованный по требованиям науки орган поразит слух небывалой мощью. Кое-чего добился он в химических опытах. Есть нечто новое в полифонии, о чем, кажется, не подозревают даже признанные авторитеты. Но здесь сделан только первый поиск.
– Да, чуть не забыл, – оживился рассказчик, – изобретен мною строго научный соус…
– Соус? – переспросил Глинка, удивленный скачком к кулинарии. – Бог с ним, с соусом. А сочиняете?
– Кое-что замыслил в жанре фантастическом, в дань альманашной моде, – признался гость.
– Бог с ними, с альманахами, – опять отмахнулся Глинка, – спрашиваю о музыкальных ваших сочинениях.
– Нет, бросил, – твердо отвечал Одоевский. – признаться, не вижу для музыки той реторты, в которой мог бы открыть миру новые ее элементы… Но жажду, Михаил Иванович, знать о ваших трудах.
– Должно быть, тоже реторты не имею. – улыбнулся Глинка. – С тех пор, как расстался с принцем Гамлетом, никаких прибытков у меня нет.
– Помню, даже очень помню, и сердечно сожалею о том, что оставили вы Шекспира.
– Увлекся было после того испанским дворянином Дон-Жуаном. – вспоминал Глинка.
– Как Дон-Жуаном? – Одоевский был совершенно озадачен. – После того как Моцарт…
– Нет, – перебил Глинка, – вместе с Моцартом и против исказителей его. Хотел помочь идальго предстать на театре в том самом виде, как создал его Моцарт.
– Странный переход, Михаил Иванович! От Гамлета – и к Дон-Жуану… не вижу связи!
– Не скажите, Владимир Федорович. Родство между ними немалое, хоть и произошли от разных отцов. Смешали их творцы высокое и смешное, трагическое и низменное, и вышел чудесный сплав, который именуется истиной. Вот если бы мне подобную реторту в руки…
– Не в реторте химика, а под микроскопом естествоиспытателя раскроются сокровенные тайны созидания, – возразил Одоевский.
– Неужто? – Глинка хитро прищурился. – А помнится, вы еще недавно уповали на колбы и реторты.
– Каюсь в заблуждении, которое оставил, однако горжусь тем, что, стремясь к истине, не боюсь ошибок. Вот и ваше мнение о родстве Гамлета и Дон-Жуана кажется мне недоказуемым…
– Но ведь я говорил только о печати гения, которая равно почиет на них, хотя в одном случае творец воспользовался словом, а в другом – звуками, и даже противоборствовал словам наивной поэмы… Я мог бы прибавить к этим творениям еще одно, возникающее у нас на Руси. Разумею поэму Пушкина об Онегине.
– Не стал ли Онегин героем вашего воображения?
Глинка не ответил. Перебрал какие-то ноты на столе, потом обернулся к гостю.
– Признаться, с ума у меня нейдет мысль о тех российских героях, которые даже имен своих истории не оставляют. Если бы заговорил в музыкальной драме такой герой в сермяге, как вы его речь на ноты положите?.. Одно могу сказать: заговорил бы он совсем не так, как изъясняются герои всего мира, даже в гениальных творениях. В жизни, в поэзии вы хорошо ощущаете всю силу и прелесть русской речи. А ну-ка, покажите мне русского героя применительно к царству звуков…
– Предугадываю, Михаил Иванович, что будете искать эту музыкальную речь в наших песнях. Но, сколько я знаю, нет в них героического, если иметь в виду музыкальную сторону.
– Подумать только! – подозрительно охотно согласился Глинка. – Воздвигли люди этакую громаду, именуемую Русью, а до героического, если иметь в виду музыкальную сторону песни, как вы выражаетесь, не дотянули!
– Совершенно справедливо, – подтвердил Одоевский.
– Если смотреть с высоты барского величия!
Глинка разгорячился и, заложив палец в карман жилета, принялся быстро ходить по комнате, высоко подняв голову, словно хотел казаться выше.
– Все недоразумение кроется в том, – продолжал он, – что мы за героическое привыкли принимать заморские фанфары да барабаны, а в наших песнях этого, подлинно, нет. Не любим шуметь!
И привлек к спору Михаил Иванович Глинка многие песни – и те, в которых отразились вековые народные беды, только отчаянию места ни в одной не нашлось; и те, в которых о смерти поется, а песня, глядишь, жизни поклоняется; и те, что, пребывая в рабстве, сложили русские люди в честь вольности. Одну за другой перебирал песни музыкант, повторяя: «Вот он, русский героизм…» Потом замолк и, по обыкновению, спрятался за шутку:
– Кто с этой стороны за песни возьмется и возвысит их до музыкальной системы со всей мудростью, от них же взятой, тому ни колбы, ни микроскопы не нужны. В колбу песни наши не вместишь, и в микроскоп великое сие царство тоже не усмотришь… А красненького, Владимир Федорович, во славу будущих музыкальных Колумбов давайте немедля выпьем. Осень-лихоманка все косточки грызет.
Друзья сели к камину. Яков подал красное вино.
– За плавающих и путешествующих, – сказал Глинка, чокаясь, – и за тех, кто не довольствуется попутным ветерком, но ищет бури…
В уютной комнате, у пылающего камина, тост имел, очевидно, аллегорический смысл. Сам титулярный советник, взывая к бурям, все время кутался в теплый халат, опасаясь малейшего дуновения.
А к дому купца Пискарева под проливным дождем подъехала извозчичья пролетка. Молодой, высокого роста человек, закутанный в пледы и насквозь промокший, глянул на освещенные окна и быстро вошел в подъезд.
– Дома? – спросил он у Якова, открывшего дверь.
– Дома-с, теперь мы всегда дома, – отвечал Яков и оглядел неизвестного ему господина. – Как прикажете доложить?
– Не надо, – отвечал гость и пошел следом за Яковом.
Едва войдя в кабинет, он громко окликнул хозяина:
– Мимоза!
Глинка обернулся, секунду вглядывался.
– Соболевский! Какими судьбами?! – и пошел с открытыми объятиями навстречу пансионскому товарищу.
Поэт и музыкант
Глава перваяИздатель альманаха «Северные цветы» Антон Антонович Дельвиг сидел в кабинете, рассеянно перелистывая какую-то рукопись, и прислушивался к звукам фортепиано, долетавшим из гостиной. Чьи-то ловкие руки разыгрывали вальс.
Антон Антонович снова углубился в поэму и сейчас же поймал себя на том, что напевает мотив вальса.
– Забавно! – рассердился Антон Антонович и перевернул страницу.
Поэма не предвещала ничего доброго, но издатель «Северных цветов» решил испить чашу до дна и не обращал больше внимания на музыку, доносившуюся из гостиной.
Там сидела за фортепиано постоянная гостья Дельвигов Анна Петровна Керн. Молодая жена поэта, Софья Михайловна, слушала, уютно примостившись на низком диване.
Кончив вальс, Керн минуту подумала, не снимая рук с клавиатуры, и стала наигрывать что-то очень бравурное.
– Милая Аннет, – попросила Софья Михайловна, – лучше повторите еще раз ваш вальс.
– Вот уж не думала, что мои музыкальные мечтания могут угодить такой взыскательной музыкантше!
– Ваш непритязательный вальс как нельзя лучше отвечает моему настроению… Или у меня сегодня опять припадок сплина? – Она подняла на Анну Петровну грустные глаза. – Неужто никогда в жизни не приходит необыкновенное, что только снится и снова забывается, едва проснешься?
– Не гневите бога, Софи, – с укором отвечала Керн. – Вам ли жаловаться на судьбу и мне ли слушать эти жалобы?
Софья Михайловна подошла к подруге и обняла ее.
– Простите, Аннет, я сама не знаю, что творится со мной сегодня. – Она поглядела на темные окна, по которым крупными каплями струился дождь, быстро задернула тяжелые шторы и долго стояла, словно в забытьи.
– Опять, Софи? – тревожно спросила Анна Петровна. – Нельзя жить прошлым, вы измучаете себя.
Софья Михайловна провела рукой по лбу.
– Я часто вижу его, Аннет, – сказала она шепотом, – и чаще всего в осеннее ненастье, когда плачет о погибших само небо… Может быть, тогда, когда несчастный Каховский изливал предо мною душу, я слишком пококетничала с ним. Но ведь в какой-то миг я и сама была обманута этим страстным чувством… И каждый раз я спрашиваю себя: виновата ли я в том, что позволила ему увлечься, или в том, что бездумно увлекла его?
– Нельзя жить только прошлым, Софи, – повторила Анна Петровна, – оставьте это право обездоленным и не обкрадывайте свое счастье.
– Счастье? – задумалась Софья Михайловна. – Но я и до сих пор не знаю, счастлива ли я с Дельвигом или мне только спокойно с ним. А вы знаете, что таится для женщины в таком спокойствии?
– Молчите! Не хочу и не буду вас слушать! – возмущенно перебила ее Керн. – Я тоже знаю, как часто мы бежим от тех, кто достоин любви, и как оскорбительно зависим от тех, кто умеет воспламенять шутя.
– Вы говорите о Пушкине?
– О нет! Он всегда был робок со мною до смешного и только в письмах предавался бурным порывам. Но другие поступают, увы, наоборот… А мы все-таки сохраняем верность мечтам, хотя они давно износились, как наши первые куклы.
– Но если Пушкин вернется в Петербург, что будет тогда, Аннет?
– На мне нет перед ним вины. Я никогда ничего ему не обещала. И готова это повторить.
– Повторите лучше ваш вальс, Аннет, – улыбнулась Софья Михайловна. – Может быть, мы снова вернемся в утраченную юность?
Керн покорно села за фортепиано. Звуки наивно-мечтательного вальса снова долетели до кабинета Дельвига.
Поэт прислушался, сложил рукопись и направился в гостиную. Путь был недалек: надо было лишь откинуть тяжелую тафту, отделявшую кабинет от передней, и открыть дверь в гостиную.
– Что за музыкальная меланхолия? – спросил Антон Антонович.
Стоя на пороге, он оглядел дам через очки. Дамы таинственно переглянулись.
– Забавно! – по привычке протянул Дельвиг. – Но согласитесь, сударыни, что, прежде чем хвалить или порицать неведомое произведение, будет осторожнее наперед узнать имя сочинителя.
Дамы снова переглядываются. Софья Михайловна указывает на Керн:
– Сочинитель вальса перед вами, сударь! Попробуйте-ка теперь встать в позу язвительного критика.
– Что вы! Что вы! – машет обеими руками Дельвиг. – Теперь мне остается лишь приветствовать новый талант.
Он рассматривает Керн так, как будто видит ее в первый раз, затем говорит о лаврах, которые отныне ждут Анну Петровну на новом поприще, и предлагает ей союз поэзии и музыки.
– Какое из моих стихотворений вам будет угодно избрать, – шутит поэт: – древние идиллии, гекзаметры или подражания русским песням?
– С вашего разрешения, – смеется Анна Петровна, – я попробую облечь в звуки ваш бессмертный экспромт о том, как собака съела томик Беранже.
– Случай такой действительно был, – подтверждает Антон Антонович, – и непостижимо: лежали на столе пухлые оды графа Хвостова, а пес предпочел им тощего Беранже. Но в доказательство того, сударыня, что я ценю ваш музыкальный дар, предоставляю вам оный экспромт безденежно и навечно.
Поэт и Анна Керн с увлечением подбирают музыку к экспромту. Дельвиг подпевает баритоном:
Хвостова кипа тут лежала,
А Беранже не уцелел!
За то его собака съела,
Что в песнях он собаку съел…
– Стойте, стойте, Анна Петровна! – смеется Дельвиг. – Я утверждаю, что к тексту более всего подойдет итальянская баркаролла. Сонинька, – обращается поэт к жене, – будь друг, помоги нам!..
Софья Михайловна нехотя подходит к фортепиано и рассеянно берет аккорды.
– Голубчик! – вдруг прерывает жену Дельвиг, и на лице у него появляется выражение ужаса. – Прости, если можешь, а если не можешь… тоже прости! – Он целует руку жене. – Забыл, совсем забыл тебя предупредить…
– Что такое? – все с той же рассеянностью спрашивает Софья Михайловна.
– Как я мог забыть! – сокрушается Дельвиг. – Ведь сегодня, именно сегодня, обещался быть у нас Соболевский из Москвы и с ним какой-то здешний музыкант… Только фамилию запамятовал… Да, точно… музыкант Глинка. – И поэт еще раз просит прощения у жены.
– Можно ли быть таким забывчивым? – укоряет мужа Софья Михайловна. – В какое положение ты меня ставишь? – В голосе ее накипает раздражение, которое так часто разрешается семейными бурями.
Но Анна Петровна приходит на помощь растерявшемуся Дельвигу.
– Вы сказали: музыкант Глинка? – переспрашивает Керн. – Михаил Иванович?
– Вы его знаете?
– Еще бы мне не знать! – оживляется Анна Петровна. – Правда, я слушала его всего однажды, но этого нельзя забыть. Это такой музыкант… – и, не найдя слов, Керн беспомощно развела руками. – Уверяю вас, вы никогда не слышали и никогда не услышите ничего подобного.
– Новый Фильд? – иронически улыбнулась Софья Михайловна. – Но, зная вашу восторженность, Аннет…
– Фильд?! – возмутилась Анна Петровна. – Я ни с кем не могу сравнить этого чудодея. Я никогда не слыхала такой мягкости и страсти в исполнении!
– Однако, – говорит Дельвиг, наблюдая оживление Анны Петровны, – не пора ли, Сонинька, принять хоть какие-нибудь меры, чтобы искупить мою забывчивость?
Дамы занялись хозяйством. Антон Антонович ушел к себе и с невозмутимым спокойствием занялся чтением давно надоевшей поэмы. Он работал до тех пор, пока не явились гости.
– Наша московская журнальная братия, – повествовал за чайным столом Сергей Соболевский, – осведомившись, что я буду в Петербурге, дала мне поручение ехать к Пушкину в Михайловское и во что бы то ни стало взять с него оброк для нашего «Московского вестника».
– Предприятие малонадежное, – утешил Дельвиг. – Александр Сергеевич ныне ни журналам, ни альманахам на алтын не жертвует. Даже мои «Северные цветы» и те по его милости чахнут.
Дамы посмотрели на Дельвига с удивлением. Никто не пользовался больше от щедрот Пушкина, чем издатель «Северных цветов». Но Антон Антонович продолжал речь с тем же чистосердечием:
– А с тех пор, как летом выехал Александр Сергеевич из Петербурга, даже писем не шлет, жалуется, будто мы молчим… Забавно? – говорил Дельвиг, обращаясь к Соболевскому. – Впрочем, мы и в самом деле мало ему пишем. Но кто на Руси не ленив писать? Как вы, москвичи?
– А московские журналисты следуют примеру петербургских альманашников, – отвечал Соболевский, – вот и предал всех нас анафеме Александр Сергеевич. Однако мне все-таки придется ощипать его для журнала.
– Вы что же, возглавляете сей шумный, но несогласный хор, именуемый «Московским вестником»? – поинтересовался Дельвиг.
– Как вам сказать, Антон Антонович… Тайну нашу все равно не скроешь, так как вопиет она противоречиями с каждого журнального листа.
– Да, – согласился Дельвиг, – привычному глазу в столпотворении вашем нетрудно разобраться. Поначалу и мы думали: растет в Москве богатырь, а почитали первые книжки и видим – выдыхаетесь, юноши. Даже здешние братья-разбойники – Греч с Булгариным – не удостаивают вас ни клеветы, ни доносов. Стало быть, чуют недолговечие ваше.
– Но мы еще поборемся, – возразил Соболевский, – да должен нас и Пушкин поддержать…
– Он ли вас не поддержал! Одна сцена в келье Чудова монастыря чего стоит! – перебил Дельвиг.
– А теперь я сызнова на него нагряну, как снег на голову, и возьму весь обмолот.
– Бог в помощь! – простодушно откликнулся Дельвиг. – Не знаю, впрочем, богат ли нынче Пушкин. «Онегин» его замучил… Но из «Онегина» он вам ничего не даст, не стоит и просить. Да, кстати, – дипломатично повернул речь Дельвиг, – истинно украшаете вы, Сергей Александрович, ваш «Вестник» выдержками из португальской литературы. Прелюбопытные выходят статьи.
– Разве вам неведомо, Антон Антонович, – вмешался Глинка, до сих пор беседовавший с дамами, – Соболевский знает все языки, а равно все книги, которые выходили, выходят или могут выйти в свет на нашей планете.
– Буду и я бить вам челом, – Дельвиг склонился к Соболевскому, – нуждаюсь в кое-каких справках по древним авторам.
– Извольте, – согласился Соболевский. – Какие издания вы имеете в виду: итальянские, голландские, аглицкие?
– Антон Антонович, – снова вмешался Глинка, – и я имею на вас большие виды. Давно слежу за вашими опытами подражания народным песням. Хотел бы участвовать в этих трудах, присоединив усилия музыканта к поэтическим поискам.
– Искренне готов служить, – отвечал Дельвиг. – Признаюсь, работаю я над неуловимыми народными размерами с усердием алхимика, но эти воздушно-подвижные метры в руки нелегко идут. Однако прежде я возьму справки у нашего московского гостя.
– Антон Антонович! Вы еще успеете со своими справками, – перебила мужа хозяйка дома. – Подумайте о несчастных дамах, которые сгорают от нетерпения… – Софья Михайловна встала из-за стола, подошла к фортепиано и открыла крышку. – Вероятно, наша просьба не покажется вам очень оригинальной, Михаил Иванович? Анна Петровна столько говорила о вас…
Глинка недовольно покосился на Анну Петровну. Коварная женская дружба успела и здесь раскинуть свои сети. Его выручил новый гость. То был ближайший сотрудник «Северных цветов» Орест Михайлович Сомов.
Дельвиг решил угостить Ореста Сомова новинкой. Софья Михайловна села за фортепиано. Поэт и Керн запели «собачью» баркароллу.
– Прошу прекратить эту варварскую профанацию! – возмутился Сомов. – Не затем я бросил корректуры, голубушка Софья Михайловна, чтобы присутствовать на концерте каннибалов.
– Что же прикажете вам исполнить? – спросила Софья Михайловна.
– А вот те русские вариации, что играли в прошлый раз.
Софья Михайловна нашла старинные ноты.
– Да ведь это древность, Орест Михайлович, – говорила она, перелистывая тетрадь, – и самого Хандошкина у нас мало помнят.
– О, полноте! – вступился, заглянув в ноты, Глинка. – Ивана Хандошкина чтут все истинные любители отечественной музыки. Только помнят его больше как скрипача и забывают замечательного сочинителя. Когда-нибудь ему еще воздадут справедливую дань потомки. Если позволите, я покажу вам при случае его скрипичную сонату – предмет, достойный многих размышлений для музыканта. Но прежде того позвольте присоединить усердную просьбу насчет этой фортепианной пьесы Хандошкина.
Софья Михайловна под общее одобрение сыграла вариации. Орест Сомов подсел к Глинке.
– Вы, сударь, судя по отзыву о Хандошкине, принадлежите к любителям отечественного?
– Не скрою.
– А вот песен наших, – с каким-то желчным раздражением продолжал Сомов, – мало ныне собирают. Оторвались от родной земли и знать ее не хотим. Но если заглянете ко мне, покажу вам мои записи. Сколько ни живу в Петербурге, ни у кого ничего подобного не видел.
– А знаете ли вы, Орест Михайлович, – вмешалась Керн, – что господин Глинка может представить вам любые наши песни во всей их прелести?
– Ого?! – удивился Сомов. – Как же я до сих пор о вас не слыхал?
– Не сумею объяснить, – улыбнулся Глинка. – Служу, впрочем, по ведомству путей сообщения.
Теперь Дельвиг, давно присматривавшийся к Глинке, подошел ближе.
– Сдается, Михаил Иванович, мы ранее где-то встречались с вами… Не было ли то однажды у Рылеева? – спросил он, припоминая.
– Я бывал там.
– Не вы ли и положили на музыку элегию Баратынского?
– Именно я, хоть и было это очень давно.
– И вот судьба поэта! – вздохнул Дельвиг. – Кто знает ныне стихи Евгения? А романс ваш поют повсюду, хотя опять же не знают и не интересуются знать имя сочинителя. Незавидны, стало быть, и лавры музыканта… Так именно у Рылеева, значит, и виделись мы. Кто бы мог тогда предугадать будущее? Вы никак не пострадали?
– Все обошлось для меня благополучно, – отвечал Глинка, – если только можно считать благополучием прозябание наше.
Дельвиг взглянул на него с сочувствием.
– Разве вам, музыкантам, не оставлены звуки, не поддающиеся цензуре?
Дамы увлекли Глинку к фортепиано. Раздумывая, что наполнить, он еще раз взглянул на Дельвига, словно бы продолжая незаконченный разговор. Потом, не объявляя названия романса, запел:
О красный мир, где я вотще расцвел…
Как воспоминание о прожитом и не изжитом в этом доме прозвучала песня Глинки. Будто живой чредой явились сюда погибшие певцы и недавние знакомцы хозяев. Вспомнились Дельвигу жаркие споры, быстротечные охлаждения и вольное товарищество. Тяжело вздохнул поэт, на долю которого остались лишь непритязательные «Северные цветы». Орест Сомов слушал пение, потупив взор. И ему, уцелевшему обломку «Полярной звезды», музыка властно напоминала о прошлом. Померкла мятежная звезда, и остались у Ореста Сомова только шатания по журналам да унылый путь без компаса, без руля и без ветрил.
Глинка между тем пел:
О пристань горестных сердец,
Могила, верный путь к покою,
Когда же будет взят тобою
Бедный певец?.
Софья Михайловна, обняв Керн, стояла у фортепиано. На глазах ее выступили слезы. Дельвиг бросал тревожные взгляды на жену.
– Сонинька! – окликнул ее поэт.
Софья Михайловна сделала над собой заметное усилие.
– Вот вам впечатление от музыки, сударь, – сказала она Глинке. – Может быть, такие слезы дороже артисту, чем пышные лавры… Во всяком случае я не хочу их скрывать.
– Забавно! – начал было со своего любимого словечка Дельвиг. – То есть совсем не забавно, черт возьми! – поправился он. – Признаюсь, первый раз слышу музыку, которая… Нет, не одобрит Василий Андреевич Жуковский такого поворота его стихов в направлении, чересчур близком к испытаниям нашим…
Разговор вернулся к недавним событиям, о которых никому не суждено было забыть. Когда Глинка спел «Разуверение», еще больше задумался Антон Антонович и, вопреки обыкновению, ни разу больше не пошутил.
Гости стали расходиться.
– Почему вы не были у меня так долго? – упрекнула Глинку Анна Петровна. – Я могла бы серьезно рассердиться на вас.
– Но зато как мне хотелось быть вашим гостем! Надеюсь, вы исполните мою просьбу и передадите поцелуй Екатерине Ермолаевне от человека со смешной фамилией.
– Катюша часто вас вспоминает и терпеливо ждет обещанного визита. Но такова, должно быть, участь женщины – страдать с малолетства.
– Ах, боже мой! – с сокрушением воскликнул Глинка. – Скажите ей, что я непременно на днях буду.
– Увы! – отвечала Анна Петровна. – В институте карантин, и я не знаю, когда мне удастся взять домой Катюшу.
Глинка ушел от Дельвигов вместе с Соболевским.
– Ну и шельма этот Дельвиг! – начал Соболевский. – До того усердно убеждал меня не ехать к Пушкину в Михайловское, что я решил скакать туда сломя голову.
– А какая нужда Дельвигу отговаривать тебя?
– Опасается, хотя и виду не подает, что я на корню заберу у Пушкина весь урожай.
– Почему бы ему в таком случае самому еще раньше не поехать?
– Ленив, батюшка! – воскликнул Соболевский. – Так ленив, что по лени даже при собственном рождении не ревел. Куда же он с места тронется? А главное – давно набрал у Пушкина по горло. Ох, и продувные бестии эти альманашники!
Они шли по безлюдным улицам. Ночь, излившись дождем, чуть-чуть посветлела. Было зябко, но дышалось легко. Соболевский возобновил разговор:
– А как тебе Софья Михайловна понравилась?
– Одно могу сказать: блестящая музыкантша!..
– Н-да! – продолжал Соболевский. – Редкий экземпляр… Ессе femina![16]16
Вот женщина! (лат.).
[Закрыть] Грешить будет напропалую, а каяться – еще слаще. И Анна Петровна из того же монастыря, верь моему слову!
– Недаром и зовут тебя Фальстафом.
– Если Пушкин окрестил, стало быть недаром! – согласился Соболевский.




