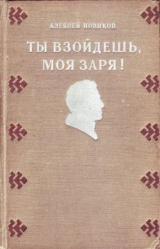
Текст книги "Ты взойдешь, моя заря!"
Автор книги: Алексей Новиков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Глинка опустил шторы и прилег на диван. Едва закрыл глаза, мысли полетели обратно в Новоспасское.
Все дни, проведенные дома, прошли в тревоге. Поля прихварывала, но от всех таилась. Приехав к Соболевским, Глинка нашел сестру в верхней светелке. Поля сидела у окна, опустив голову на руки. Она не слышала, как вошел брат.
– Полюшка, что с тобой?
Поля медленно подняла голову. В глазах ее стояли слезы, но она улыбнулась.
– Ох, как ты напугал меня, Мишель! – Она протянула брату истаявшие руки и хотела крепко-крепко его обнять, но руки были бессильны. – Как я счастлива, что ты, наконец, приехал! – Поля медленно провела ладонью по влажному лбу. – Ох, как я тебя ждала!
– Что с тобой, голубушка?
– Недужу… Только Якову ничего не говори. Раньше мне еще хуже было. А к лету все пройдет. Ведь так может быть, Мишель?
– Так и будет непременно, – отвечал он, вглядываясь в ее печальное лицо. – Вот родишь мне племянника – все твои болезни как рукой снимет… Что говорят врачи?
Медики говорили о тяжелой беременности и выписывали рецепты. Поля худела и лихорадила. И в Русскове и в Новоспасском переходили от страха к надеждам…
Теперь, в Москве, тревога за сестру овладела Глинкой с новой силой. Он лежал с закрытыми глазами, и как живая стояла перед ним Поля. Она была в домашнем платье, в котором он видел ее в последний день. При расставании Поля сдерживалась, чтобы любимый брат больше ее самой поверил в скорую поправку.
– Ведь так может быть, Мишель?..
Но, вместо того чтобы склониться к брату, Поля стала быстро удаляться. Он протянул к ней руки и вдруг почувствовал, что руки его ловят пустоту. Вдали печально ударил колокол… Глинка в ужасе открыл глаза. В ближней церкви со щемящим звоном перекликались колокола. «Должно быть, звонят к вечерне», – подумал он, совсем проснувшись. Сердце отчаянно билось. Глинка встал с дивана и сел к письменному столу.
Весь дом был погружен в тишину. Только в дальних комнатах покашливал и шаркал туфлями отец Сен-Пьера Александр Ермолаевич Мельгунов. Шаги стали отчетливее, дверь открылась.
– Рад возобновлению нашего знакомства, – сказал Александр Ермолаевич, – и прошу прощения, что встречаю дорогого гостя по-домашнему. – Он говорил так же монотонно, как десять лет назад, и, казалось, попрежнему дремал на ходу. – Угодно ли будет со мною отобедать или пожелаете ждать Николашу?
Глинка поблагодарил, прося разрешения отобедать с другом.
– Сделайте одолжение, – коротко сказал Александр Ермолаевич, глухо кашлянув.
Туфли снова зашаркали, дверь закрылась.
Время тянулось медленно. Неистовый актуариус проявил неожиданное усердие к службе. На письменном столе в изобилии валялись книги, разрозненные журналы, а между ними нотные наброски Мельгунова. Глинка стал было их рассматривать, как вдруг сонный дом наполнился движением. Не могло быть сомнения – вернулся суматошный Сен-Пьер.
– Где же твоя опера? – встретил его вопросом Глинка.
– Какая опера? – Мельгунов отдавал на ходу срочные распоряжения лакею: – И повару скажи, чтобы через час все было готово. – Он обернулся к Глинке. – Оперы, Мимоза, пока нет. Для начала пробую силы в романсах…
– Давай их сюда!
– Видишь ли, Глинушка, – засуетился актуариус, – таких романсов, чтобы считать их готовыми, тоже еще нет… Пока что только эскизы и кроки. Но, уверяю тебя, часом так поет душа… А впрочем, идем обедать.
– Не думал я, что ты столько времени уделяешь службе, – начал за обедом Глинка.
– Какая там служба! – отмахнулся Мельгунов. – Созывал в твою честь ассамблею, и пришлось по всему городу за Соболевским рыскать. Он тоже у нас в архиве состоит, и названием архивных юношей мы ему обязаны, но коли надобно его сыскать, то ищи отнюдь не в должности, а на книжном развале.
– И разыскал?
– Как же! У Спасских ворот нашел, за рассмотрением уников, покрытых плесенью и пылью. И всю прочую журнальную братию созвал. Увидишь и бывших любомудров и будущих столпов отечества. Только музыкантов я сегодня не звал. Сначала мы одни твоим искусством насладимся.
– Наперед заявляю – уволь.
– То есть как это уволь?! – Мельгунов грозно поднял вилку. – Этакая знаменитость в Москву пожаловала…
– Ты в уме? Кто меня здесь, кроме тебя и Соболевского, знает?
– Все знают! «Разуверение» твое, хоть и не давал ты романса в свет, и в гостиных и на лоне природы поют. Пожалуй, не первую сотню копий у меня снимают.
Едва кончился обед, Мельгунов потащил Глинку к фортепиано.
– Играй, Мимоза, дай мне первому испить чашу восторга. Хочешь, на колени встану? – Восторженный актуариус ударил себя в грудь и непременно бухнулся бы на колени, если бы не помешали гости, которые стали прибывать один за другим.
Гости непринужденно располагались за столом и на диванах. Все это были сотрудники «Московского вестника», люди большой образованности. Тотчас пошли в ход трубки, не замедлил явиться пунш.
К Глинке подсел магистр Московского университета Михаил Петрович Погодин, высокий человек со скуластым лицом, в долгополом сюртуке скорее купеческого, чем профессорского покроя.
– Какие известия вы привезли нам из столицы? – любезно спросил он.
– Поклон тебе, Погодин, от друга твоего Булгарина, – вмешался, смеясь, горячий журнальный вкладчик Рожалин. – Знает, нечестивец, что ты готов выдать ему «Московский вестник» головою.
Погодин недовольно покосился.
– Не к месту шутишь, Рожалин, вынося сор из нашей журнальной избы.
– Нам давно пора вымести тот сор, который ты с такой ревностью собираешь для журнала, – отвечал Рожалин. – Думали мы, – обратился он к Глинке, – что будем издавать «Московский вестник», а теперь с удивлением видят наши читатели, что подписались на «Епархиальные ведомости».
Раздался дружный хохот.
– Взываю к вам, вкладчики журнала, – продолжал Рожалин. – Читали ли вы примечательную статью, тиснутую Погодиным в разделе наук? – Рожалин быстро отыскал на столе у Мельгунова нужную книжку «Московского вестника», быстро перелистал ее и торжественно прочел: – «Бог есть совершенная гармония, ибо он есть жизнь по превосходству, то есть жизнь, имеющая начало в себе самой, слияние сил в единице…»
Кончив чтение, Рожалин поднял указательный палец, как бы символизируя божественную единицу. Выдержку из статьи встретил общий хохот. Повидимому, никто из сотрудников журнала понятия не имел о том, что печаталось на страницах «Московского вестника», отданных науке.
– А почему бы не печатать нам переводов из немецких философов? – с раздражением спросил Погодин. – Разве не стоит философия в нашей программе?
– Не Германия, но Россия интересует нас по преимуществу, – включился в спор Соболевский.
– Согласен, – продолжал Погодин, – но в таком случае спрошу: где, Мельгунов, твоя статья о русских философах?
– Вот, рекомендую тебе чудака, – Мельгунов обернулся к Глинке. – Состоит Михаил Петрович в редакторах журнала и профессорствует в университете, а думает, что статью о русских философах я ему в месяц напишу… Но довольно о журнале, господа!
– Нет, позволь! – перебил его Погодин. – А ты, Киреевский? – Он простер руку к молчаливому молодому человеку, сидевшему в отдалении. – Где твои песни народные? Вопрошал тебя многократно и опять вопрошаю: где они?
– Это, полагаю, дело будущего, – не спеша отвечал Петр Васильевич Киреевский. – Нельзя смаху: многие подводные камни вижу. Да и сам ты, Погодин, иных песен испугаешься, коли показать их тебе во всей вольной натуре.
– И вот – вкладчики! – победно прогремел Погодин. – А коли я буду от редакторства отказываться, они же меня распнут.
– Но архиереи и архимандриты тебя непременно выручат, – откликнулся Соболевский. – Бог у тебя в научных единицах ходит, а служители его водятся во множестве. К тому же и красноречивы они, духовные персоны. Знай печатай!
Журнальная свара продолжалась. К Глинке обратился Соболевский:
– Ты с Киреевским поближе познакомься. Другие зайцев гоняют, а этот родился охотником за песнями. У него капитальный поиск задуман.
– А как думаете вы переводить народные напевы на ноты? – с интересом спросил Глинка.
– Да разве мы музыканты? – удивился Соболевский. – Мы песни для пользы словесности готовим, а музыканты, коли им в охоту, пусть сами потрудятся.
– Жаль, очень жаль! – огорчился Глинка. – Неужто хотите отсечь душу от тела?
– Нам в первую очередь свое дело сделать, – возразил Киреевский. – Песенный свод мудренее составить, чем свод российских законов.
– А насчет напевов, – продолжал Соболевский, – конечно, с напевом изряднее бы вышло, да где таких музыкантов взять?.. Ну, пойдем к пуншу. Журнальная братия остатки разбирает.
У стола дружно сошлись участники ассамблеи. Вооружась бокалами, журналисты продолжали баталию.
– Господа! – воззвал Мельгунов. – Забудем на сегодня наши распри. Еще раз рекомендую вам дорогого гостя, славного автора «Разуверения». Только истинный талант, – не побоюсь сказать: гений, – передает свои творения народу, не нуждаясь в печатном станке. Пью за художников и за народ, взыскующий правды в художестве!
Глинка никак не мог одернуть воспарившего Сен-Пьера. Пользуясь дальним расстоянием, Мельгунов беспрепятственно закончил спич и пошел к Глинке чокаться. Гости в свою очередь выпили за здоровье артиста. А хозяин ассамблеи, не дав никому опомниться, приказал подавать шампанское. Отведав его, оратор пришел в еще более возвышенное настроение.
– Жрецы изящного! Поборники просвещения! Спасемся от унылой повседневности в горнем царстве гармонии. Михаил Иванович Глинка усладит алчущие души наши новыми созданиями.
Музыки хотелось всем. Степан Петрович Шевырев, соредактор «Московского вестника», только что прибывший на ассамблею, деликатно присоединился к общей просьбе.
– Смею думать, сударь, – сказал он, изящно поклонившись Глинке, – что артист не в праве отказать жаждущим. А мнение наше, почитаемое в Москве, не будет безразлично для гостя Белокаменной.
Оказав должное внимание новому знакомцу, Шевырев налил себе полбокала легкого вина, как пристало поэту и ученому, разрабатывающему по преимуществу область чистой эстетики.
Глава третьяМолодые москвичи, заявившие в журнальных статьях о том, что Москве суждено сказать новое слово в науках и художествах, не были склонны так легко подарить признание петербургскому музыканту. Восторги Мельгунова, хотя и подвизавшегося в музыкальной критике, не имели цены в глазах философов, опиравшихся на собственное мнение.
Вылупившись в московских усадьбах, отгороженных от житейской суеты высокими заборами, молодые философы обратились к всемирной учености. Эстетика трактовалась ими по германским руководствам. Они оставались равнодушны к событиям, которые могли произойти в русской музыкальной сфере.
Глинке надо было изъяснить свои мысли делом и представить на суд самую манеру исполнения. Каков-то будет этот суд?
Московские поэты и музыканты были еще привержены к сентиментальному току слез. Ведь именно в Москве родилась когда-то «Бедная Лиза» Карамзина. И родилась она вскоре после того, как в Петербурге прогремел голос Александра Радищева.
Вот тогда и явилась на свет «Бедная Лиза», благоухающая кротостью, и пролила розовый бальзам на устрашенные сердца господ. Отгородись от горькой действительности в старинных усадьбах, родовитая Москва хранила верность вымыслам Карамзина. Разумеется, модным поэтам из «Дамского журнала» уже неловко было адресовать стихи свои к бедной Лизе. Они с успехом переадресовали их к Надинам. Музыканты в свою очередь отдавались сладостным воспоминаниям. Эти воспоминания были увековечены в кадрилях «Грезы молодости», «Любовь, в тебе есть что-то роковое». Крупный жанр был представлен «Романом в двенадцати вальсах»…
Но с тем большей смелостью выступил перед москвичами петербургский музыкант.
– Я говорил, что готовлю вам чудо! – восклицал в перерывах Мельгунов.
– Пусть же и продолжаются чудеса музыки вместо суждения о ней, – с изяществом отнесся к артисту Шевырев.
Глинка охотно импровизировал. Молодые люди, преданные немецкой философии, незаметно для себя, все более опускались на родную землю. Между споров о прошлом и будущем ее музыкант вернулся к фортепиано.
Отзвучал «Бедный певец». В комнате воцарилась тишина.
– Совсем иначе выражено, чем в пьесе нашего Верстовского, – с недоумением произнес Мельгунов. – Те же слова, а приобретают новый смысл. В чем тут дело?
– Но Верстовский писал музыку, точно следуя мысли поэта. Тем и прекрасна элегия, что открывает нам мир не материальный, но сверхчувственный! – Шевырев говорил привычно округлыми словами. – В том и есть предназначение элегии, которая…
– Постой, Шевырев, – вступился Рожалин. – Когда же вы написали эту пьесу, Михаил Иванович?
– Тому прошло не более двух лет.
– А! Следственно, не мир сверхчувственный, но горестные события жизни послужили основанием музыки, – сказал Рожалин.
– Пусть же и пребудут эти звуки вечным напоминанием о тех, кто погиб для славы России или томится в заключении! – Мельгунов поднял бокал.
Гости стали чокаться, бокалы зазвенели. Застольная песня, которую поют по древнему обычаю дружеские чаши, порой таит в себе больше хитрых противосложений, чем самая ученая музыка. То запоют они в унисон, славя верность и единомыслие, то звякнет чей-нибудь бокал резким диссонансом, предрекая будущую вражду тех, кто еще сегодня пьет общую круговую чашу.
Полным, звонким голосом откликнулся на тост Мельгунова бокал Рожалина. Внушительно присоединилась чарка Соболевского. Неясным звоном отозвался бокал в руке Шевырева, и вовсе замедлил Погодин.
– Пью, Мельгунов, – сказал он, – не за велеречие твое, но за общую нашу мать Москву – единственное прибежище русского во всех горестях и надеждах! – Кончив свой контртост, молодой магистр Московского университета уверенно чокнулся бокалам о бокалы друзей. – Не смею судить о музыкальном искусстве, – продолжал Погодин, чокаясь с Глинкой, – но предвижу, что в лице вашем явился достойный соперник нашим музыкантам.
– Эх ты, архимандрит! – возмутился Мельгунов. – Попал по обычаю пальцем в небо… Нет для Глинки соперников и быть не может. Сама жизнь поет в его песнях!
– Истинно прекрасное всегда будет стоять над жизнью, – мягко поправил Мельгунова Шевырев.
– Тогда и бог с ним, с прекрасным! – не удержался Глинка.
Степан Петрович Шевырев, готовившийся поведать о том, как надо понимать прекрасное, недовольно умолк. Все участники ассамблеи явно предпочитали музыку словесным ристалищам.
– Глинка! – кричал Мельгунов. – Пронзи эти зачерствелые сердца! – он метнул рукой на Шевырева и Погодина. – Покажи им истинно прекрасное…
– Не умею, – серьезно отвечал Глинка, – ибо не знаю, что прекрасно… Но если угодно, господа, я покажу вам то непреходящее, что создает народ. Однако все эти напевы, – Глинка адресовался к Шевыреву, – отнюдь не стоят над жизнью, но самой жизнью рождены.
Песни народные, явившись на ассамблею, вызвали всеобщий восторг. Правда, каждый мерил их собственным аршином.
– Исполать тебе, Михайла! – первым откликнулся Соболевский. – Если все, что ты играл, не тобою сложено, а русским селянином, тогда слава ему!
– Почему же только селянину, а и не горожанину? – с живостью откликнулся Глинка. – Или ты думаешь, Соболевский, что ваши московские Щипки и Сыромятники да наши петербургские окраины в песенное дело не вкладчики?
Но, как всегда, ни в чем не сходились журналисты «Московского вестника». Погодин склонился к Шевыреву:
– Надо бы хоть Мельгунову написать журнальную статью о песнях.
– В каком смысле?
– Да именно в том смысле, что оставила нам древность наша нетленные напевы и должны мы, презрев новшества, вернуться к святыням старины… Дельное выйдет рассуждение.
Степан Петрович недовольно поморщился: вечно прет Погодин медведем…
– Господа! – Шевырев встал с места. – Отдавая дань господину Глинке, который чудесной силой своего таланта вывел нас из тесных стен на просторы родной земли, воспользуемся счастливым случаем и мы, журналисты, чтобы спросить себя: не пора ли поспешить нам уловить русские песни, столь родные нашему сердцу, – иначе навеки унесут их с собою уходящие поколения.
– Не беспокойся, Шевырев, – перебил Киреевский, – народ и старых песен не забудет и без новых не останется.
– Именно так! – с живостью подтвердил Глинка.
– Новые песни?! – с досадой возразил ему Погодин. – Не вам ли, столь искусному музыканту, лучше знать об искажениях и порче, что приносят в народную жизнь город, фабричные слободы и трактиры! Прав Шевырев, когда говорит о сохранении самородной русской старины.
– А в чем надо полагать эти самородные русские начала? – кричал Рожалин. – Почему вы беретесь судить, не спросясь у народа?
– Но основания русской народности ясно очерчены просвещением, – возвысил свой от природы слабый голос Шевырев. – Я вряд ли ошибусь, если приведу эти основания, перенесенные поэтами в изящную словесность…
– Премудрость, вонмем! – пробасил Соболевский, подражая дьякону в церкви.
– Мы давно привыкли к твоему шутовству, Соболевский, – обиделся Шевырев, – не будь же хоть сегодня помехой нашему братству…
– Ах, для чего ты не пьян, Шевырев! – откликнулся Рожалин. – Тогда бы еще красноречивее объяснил ты единение душ, и речь твою мы вкушали бы, как бланманже.
– Никак не согласен, – не унимался Соболевский, – речи его всегда мазаны клейстером.
– Довольно препирательств! – взмолился хозяин ассамблеи. – Дайте Шевыреву продолжать.
– Продолжаю речь свою для тех, кто еще способен ей внимать, – неожиданно кротко сказал Шевырев. – Итак, в чем видим мы стихию народную? Она раскрывается перед нами в нашей русской зиме и в девичьих голубых очах; духом ее веет от волжских бурлаков и извивов Оки; наши богатырские кулачные бои и наш русский сарафан – вот где является народное для поэтов. Живописцы и музыканты последуют за ними.
– Говоря о сарафане, забыл ты, Шевырев, о самородном нашем лапте, – иронически дополнил оратора Соболевский. – Это ли не народная стихия, способная вдохновить поэта-живописца!
– Почему не прибавил ты к живописной картине еще дыбу и плеть? – серьезно спросил Рожалии. – Приверженцы святой старины охотно видят и в этих орудиях самовластья русскую стихию.
– О краснословы суемудрствующие! – отвечал им Погодин. – Неужто из-за лаптя и кнута никогда не увидите вы величия старины?
– Не в том главное, Погодин, – быстро перебил его Шевырев. – Главное для таланта заключается в том, что он отвергает дурное в отечестве и, не найдя пищи для души, ищет изящного в иноземном.
– А как же сарафан и кулачные бои, описанные вами в столь поэтических выражениях? – вставил Глинка.
– Я пытался очертить, – снисходительно отвечал Шевырев, – ту русскую стихию, которая может и должна стать основанием нашей поэзии. Но сверх отечества физического у каждого артиста есть своя родина в высшем смысле слова. Сии бесспорные права принадлежат, по моему мнению, Италии.
– Но для ученых, – дополнил Погодин, – духовным отечеством служит ныне Германия.
– Позвольте, однако, господа! – заговорил наконец Киреевский. – Ведь разговор наш начался с народных песен?
– А превратился по обычаю в скачку вокруг света, – вздохнул Соболевский. – Вот они, тощие плоды ложной учености…
Народные песни уже не являлись более на ассамблее. И захоти Николай Александрович Мельгунов написать о них статью, никак бы не мог потрафить всем издателям «Московского вестника» и даже соредакторам его – Погодину и Шевыреву. Словесная баталия продолжалась до тех пор, пока не объединил всех заключительный пунш.
Гости разошлись. Мельгунов жадно пил воду и расспрашивал Глинку о впечатлениях.
– Славно у вас в Москве, – отвечал гость, – однако в рассуждениях не все ладно. Одни на Запад тянут, другие – вглубь веков. Кто из русских не любит Москву? Но зачем же, славя Москву, молиться только древности?
– А я ни с теми, ни с другими в ряд не стану, – отвечал Мельгунов. – Говорил тебе, что надо быть русским.
– И трудно? – улыбнулся Глинка. – Народ сфинкс?
– Дался тебе сфинкс! – рассердился Мельгунов. – Дерзнешь ли ты утверждать, что знаешь наш народ?
– Смею думать, что знаю, – не колеблясь отвечал Глинка. – И если бы пришлось с мужиками говорить…
– А я бы со стороны поглядел, – восторженный Сен-Пьер обнаруживал после ассамблеи неожиданную склонность к скепсису. – Вот, мол, братцы, – представлял он воображаемый разговор, – рекомендуюсь: душам вашим властитель, а государю моему титулярный советник…
Глинка от души рассмеялся.
– Нет, милый! Это тебе, актуариусу и фланеру, рекомендации нужны, а мое знакомство давно состоялось… Вот ты, Мельгунов, музыкальной критикой занимаешься, пусть так! А подумал ли, куда горячие ваши головы хотят жизнь повернуть? Я не о тех говорю, кто ранее рыдал над творениями Руссо, а ныне ходит по пятам за умствующими немцами… Любопытны мне сейчас те витии, которые славят Москву, а тянут в Московию…
– Я же говорил, что стою между этих лагерей, – отвечал Сен-Пьер.
– Можно и между двух стульев сидеть, – согласился Глинка, – да не завидна, пожалуй, та позиция. И стоять сложа руки не гоже. Пора бы вам, критикам, поближе присмотреться – стали у вас о песнях кричать: «Святая старина! Дедовы заветы!» А если и дедовы песни взять, неужто невдомек ученым москвитянам, что те песни нынче со внуками по-новому живут, а с правнуками невесть куда уйдут! – Глинка, сам того не заметив, давно расхаживал по комнате. – Нет! Древности за мудрое в ее наследстве поклонимся, а назад к ней не пойдем.
Мельгунов раздвинул шторы и распахнул настежь окна. За окнами стояли, притихнув, липы, позлащенные первым солнечным лучом. Хрустальный воздух был по-ночному тих и по-утреннему свеж. Сен-Пьер протянул руку вдаль.
Москва… Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!..
– Я эти стихи от самого Пушкина еще в Петербурге слышал, – сказал Глинка, – а теперь их вся Россия повторит.
– Повторит, Мимоза!
– Только вы в «Московском вестнике» опечатками их испещрили… Эх вы, философы!




