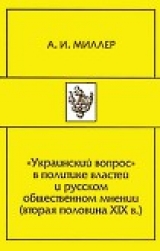
Текст книги "«Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIХ в.)"
Автор книги: Алексей Миллер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
В начале 1861 г. Катков открыт для диалога с украинофилами, его статья адресована прежде всего им, он допускает, хотя отнюдь и не приветствует, возможность формирования особой украинской нации и принципиально выступает против репрессий в отношении украинофилов. В конце 1861 г. Катков уже догматически отрицает объективное наличие проблемы, говорить с украинофилами теперь не о чем, эту проблему они просто «придумывают». Теперь остается только последний шаг – признать украинофильство опасным, и тогда репрессии |91будут оправданы. Из талантливого аналитика Катков постепенно превращает себя в не менее талантливого проповедника русского национализма, пряча, а с течением времени, вероятно, и забывая свои сомнения и критицизм, неуместные для нового жанра [242]242
Весьма сходную эволюцию позиции Каткова по польскому вопросу подробно проследил X. Глембоцкий. См.: Głęmbocki Н. «Со zrobić z Polska?» Kwestia polska w koncepcjach konserwatywnego nacjonalizmu Michaila Katkowa // Przegląd Wschodni. Т. IV. Z. 4. 1998. S. 853—889; а также Sliwowska W. Petersburg społeczeństwo rosyjskie wobec kwestii polskiej // Powstanie styczniowe. Wrzenie – Bunt – Europa – Wizje. Warszawa, 1991. S. 541—569. (Из западных текстов о Каткове наиболее адекватна глава 4 в кн.: Thaden Е. Conservative Nationalism… P. 38—56.) Эволюция эта наверняка далась Каткову нелегко. Еще в конце 50-х Т. Н. Грановский говорил: «Из Каткова может выработаться отличный ученый {…}, но от журналиста требуется нечто другое, чего у него нет и в помине» (Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы 1848—1896. Ленинград: Прибой, 1929. С. 91).
[Закрыть].
К чести Каткова нужно отметить, что он понимал проблему заметно более глубоко, чем большинство современных ему и позднейших русских противников украинофильства, вполне искренно повторявших то, что он писал, начиная с 1862 г. Свое понимание сложности проблемы, ясно выраженное в статье 1861 г., он сознательно не пускал в свои позднейшие тексты в угоду их пропагандистской эффективности. Позднее Драгоманов напишет, что Катков в этой своей новой роли пропагандиста национализма был уникален только для России, что в Германии «чуть ли не каждый профессор и публицист есть такой же Катков по всем национально-политическим вопросам» [243]243
М. Т. (Драгоманов). Восточная политика Германии и обрусение // Вестник Европы. 1872. № 2. С. 641.
[Закрыть]. Это добавляет новые нюансы к оценке эволюции Каткова – по крайней мере поначалу он, вероятно, считал этот выбор своего рода служением, выполнением той для людей его калибра черновой, чтобы не сказать грязной, работы, которую он полагал необходимой и на которую других квалифицированных исполнителей в России 60-х гг. не нашлось.
Тогда же, осенью 1861 г., славянофильский «День» продолжил, теперь уже по поводу статей Костомарова, начатые еще Погодиным и Максимовичем квазиученые препирательства на тему исторических прав велико– и малороссов на Киев [244]244
См. статью И. Д. Беляева // День. № 6. 18 ноября 1861 г.
[Закрыть]. Затем газета выступила против особого «малорусского патриотизма» и надежд на развитие малорусского языка в литературный. Вопрос о такой возможности, по мнению «Дня», «а priori решается отрицательно» [245]245
См. статью А. О. Гильфердинга «Славянские народности и русская партия в Австрии» // День. № 7. 25 ноября 1861 г. С. 17.
[Закрыть].|92
Особое место в публицистике «Дня» по украинскому вопросу принадлежит статье В. И. Ламанского в октябре 1861 г., в которой уже достаточно четко были сформулированы основные элементы той позиции, которая двумя годами позже будет заметно более агрессивно утверждаться Катковым. Ламанский прямо сравнил малорусский язык с patois во Франции, подчеркивая нецелесообразность стараний украинофилов превратить это наречие в развитый язык, «когда для Малой и Великой Руси обоюдными их усилиями уже выработан один общий литературный язык» [246]246
День. № 2. 21 октября. 1861. С. 15.
[Закрыть]. Далее, в связи с претензиями поляков на объединение Западного края с Царством Польским, Ламанский пишет: «Малоруссы и Великороссы с Белоруссами, при всех несходствах и насмешках друг над другом, образуют один Русский народ, единую Русскую землю, плотно, неразрывно связанную одним знаменем веры и гражданских учреждений… Отнятие от России Киева с его областью повело бы к разложению Русской народности, к распадению и разделу Русской земли» [247]247
Там же. С. 17. Позднее Ламанский уже в панславистском духе писал об утверждении русского языка в качестве «языка высшей образованности», как об инструменте политического объединения всех славян, полагая, что при этом условии «образование общего славянского союза не представляет таких громадных трудностей, как политическое единство Германии». Он оговаривался, что «о насильственном распространении (русского) не может быть и речи», и ставил успех этого предприятия в прямую зависимость от успешного развития России: «Для этого нужно, чтобы русский язык стал носителем великих идей любви и свободы, необходимым деятелем общечеловеческого просвещения». См.: Ламанский В. Национальности итальянская и славянская, в политическом и литературном отношении // Отечественные записки. 1864. Т. 157. № 11—12. С. 615—616.
[Закрыть]. (Заметим, что речь все время идет о «русской народности» и «русской земле», но не об империи.) Статья Ламанского была вполне понята в лагере украинофилов и вызвала энергичный протест «Основы»: «Для нас одинаково смешон и шляхетский гонор поляков, обзывающих малорусский язык хлопской мовой, так и вельможная деликатность великоруссов, употребляющих для этой цели французское выражение» [248]248
Основа. 1862. № 3. С. 14.
[Закрыть]. Отметим, что «Основа» откликнулась на статью Ламанского с задержкой почти в полгода. Возможно, редакция решила вступить в полемику только тогда, когда, после истории с «Сионом», стало ясно, что на дальнейшее молчание большинства русских изданий рассчитывать уже не приходится. В случае с либеральной петербургской прессой это молчание можно трактовать как благожелательное, во всяком случае «Русская речь» упрекала «Сион» в бестактности, «на которую противникам неудобно (по цензурным соображениям.– А. М.) возражать» [249]249
См.: Сион. 16.03.1862. № 37. с. 581.
[Закрыть].|93
Период более острой полемики начинается летом 1862 г., когда катковский «Русский вестник» напечатал в приложении «Современная летопись» пространное письмо «Из Киева» П. В. Анненкова с критикой «малорусской партии» [250]250
Современная летопись «Русского вестника». 1862. Июнь. № 25.
[Закрыть]. (Только после этой публикации «Русский вестник» перестал помещать объявления Костомарова о сборе средств на издание малороссийских учебников. В других изданиях, в частности в «Санкт-Петербургских ведомостях», эти объявления продолжали выходить вплоть до рассылки Валуевского циркуляра.)
Провинциальные издания так же были расколоты, как и столичные. Редактор «Киевских ведомостей» П. Г. Лебединцев защищал «Основу» в полемике с уроженцем Малороссии редактором «Петербургского еженедельника» В. И. Аскоченским [251]251
См.: Фабрикант Н. Краткий очерк из истории отношений русских цензурных законов к украинской литературе // Русская мысль. 1905 Кн. III. С. 131.
[Закрыть]. А начавший выходить в 1862 г. «Вестник Юго-Западной и Западной России» К. А. Говореного возражал, пока достаточно сдержанно, Чернышевскому: «Хотя мы сами принадлежим к племени малорусскому, однако же решительно не находим в нашем языке тех литературных достоинств, которые почему-то приписывает ему автор („Национальной бестактности“.– А. М.); да и единства-то малорусский язык, употребляемый в разных до сих пор вышедших книжках, не имеет. Наш общерусский литературный язык есть такое же достояние малоруссов, как и великоруссов, потому что в развитии его оба великие племена принимали участие {…} Мысль о какой-то отдельности малорусского народа и его языка мы считаем просто нелепостью, которая довела бы его не до отдельности, не до самостоятельности, но до погибели; без нашего выработанного, уже богатого письменными произведениями общерусского языка его неизбежно ожидает исчезновение в волнах известной нам западной пропаганды» [252]252
Вестник Юго-Западной и Западной России. 1862. Т. 1. С. 25, 26.
[Закрыть]. Автором этой неподписанной статьи был, по всей видимости, С. С. Гогоцкий, который, как мы видели, еще в 1859 г. активно развивал эти идеи: «Мы должны всячески поддерживать единство трех племен Русских, а иначе… Латино-Ляшская партия его (малороссийский народ.– А. М.) сейчас же раздавит или по крайней мере прямо подавит и ассимилирует. Ляхи это отлично понимают, и потому-то они постоянно, под видом искреннейшего благожелания, нашептывают нам, что Малороссия может быть самостоятельною. Нас-то, Западных Малороссиян обмануть трудно; но Восточные Малороссияне, как я заметил, легко даются и уже дались в обман. Они не замечают того, что Ляхам и Иезуитам только того и нужно, чтобы 1-е, развить нерасположение в Малороссиянах к Великоруссам; 2-е развить мысль об отдельности, и 3-е, вытолкать употребление литературного русского языка. Ляхи очень хорошо знают, что если |94бы Малороссия оторвалась от Великороссии, то первую, особенно Западную, они схватили бы тотчас же и задушили, как кот мышку» [253]253
ГАРФ, Секретный архив, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 1763. Л. 1—3. (Выписка из письма С. Гогоцкого из Киева от 19 дек. 1859 г., к отцу Василию Вас. Гречулевичу в СПб.) Исходя из этих соображений, Гогоцкий осуждает изданный тогда букварь Гречулевича, настаивая, что «литературный русский язык должен быть всем общий в букварях. Вера и язык должны быть связующими элементами. Но не мешает привести что-нибудь и на простом языке нашем». Л. 4 об.
[Закрыть].
Таким образом, обсуждение направления «Основы» и украинофильства вообще в 1862 г. все больше затрагивало такую основополагающую для русского общественного мнения проблему, как границы и принципы организации русской нации, а также постепенно обострявшийся польский вопрос. Как следствие, в дискуссию вовлекались все новые петербургские, московские и киевские издания, а тон ее становился постепенно таков, что украинские активисты сочли за благо в сентябре 1862 г. направить в «Русский вестник» коллективное письмо с объяснениями по поводу звучавших обвинений. Газета опубликовала его в ноябре под заголовком «Отзыв из Киева» [254]254
Современная летопись. 1862. Ноябрь. № 46.
[Закрыть]. Во вполне народническом по духу тексте решительно отвергалось обвинение в государственном «сепаратизме» и вообще подчеркивалось, что «никто из нас… не говорит и не помышляет о политике» [255]255
Там же. С. 5.
[Закрыть]. «Другое дело, если под словом „сепаратизм“ разумеют желание развить южно-русский язык и южно-русскую литературу. Это желание мы действительно имеем»,– признавались авторы письма, полагая, что в русском общественном мнении оно должно выглядеть вполне естественным и безвредным. Под письмом стояла 21 подпись, первыми из которых были подписи его составителей Владимира Антоновича и Павла Чубинского, лидеров Киевской громады.
Параллельно некто, скорее всего из числа подписавших это письмо, предпринял другой, и весьма затейливый, защитный маневр. В бумагах сенатора А. А. Половцова сохранилась анонимная «Записка о состоянии Юго-Западного края», датированная 12 октября 1862 г. Вероятно, он получил ее от начальника III отделения П. А. Черевина, когда готовился к своей инспекции края в 1880 г. [256]256
Подробно об инспекции Половцова см. гл. 14.
[Закрыть]
В записке давалось довольно подробное описание Края и его тогдашнего положения с умеренно-либеральных позиций и от лица великорусса. Роль главного врага отводилась полякам. Особый интерес представляет характеристика, данная в записке украинофильству. «Журнал „Основа“ сделался органом умеренной и разумной партии малоруссов, желающих умственного возрождения своего племени не в видах разобщения его с Россиею, а в цели сознательного участия его |95в общем прогрессивном движении русского народа». Хотя некоторые «пуристы», говорилось далее, доводят свою любовь к малороссийской народности до абсурда и «стремятся навязать народу исключительно малорусскую грамотность, опасного в этом крайнем проявлении малорусского патриотизма ничего нет». Партия хлопоманов – так польская шляхта называла членов киевской украинофильской Громады – характеризовалась как «несколько похожая на нашу современную славянофильскую партию и составляющая только переходную ступень к слиянию польской шляхты с русским населением края». «Лучшим доказательством безвредности и неопасности тенденций партии хлопоманов,– утверждалось далее,– может служить питаемая к ней ненависть шляхты» [257]257
РО РНБ, ф. 600, ед. хр. 606. Л. 52 об—55.
[Закрыть]. Очевидно, что автор(ы) записки стремились нейтрализовать в восприятии III отделения негативный эффект газетных публикаций, теперь от имени благонадежного великоросса.
Хотя прежний благожелательный или по крайней мере терпимый тон по отношению к украинскому движению в московской и киевской прессе с конца 1861 г. уступил место настороженности и подозрениям в сепаратизме, весь 1862 г. конфликт по-прежнему не описывался в категориях жесткой конфронтации. Даже «Современная летопись» Каткова, публикуя коллективное письмо украинофилов, заявляла, что менее всего желает, чтобы «попытки малороссийской литературы встречали какое-нибудь внешнее противодействие и подвергались стеснению», и лишь сетовала, что «многие добрые силы» могут быть отвлечены на «бесплодное и безуспешное дело» [258]258
Современная летопись. 1862. Ноябрь. № 46. С. 3.
[Закрыть]. Перелом, однако, был уже близок.
Защитники украинских активистов в петербургской прессе подчеркивали беспочвенность подозрений в сепаратизме. Сами они также отвергали эти обвинения. Не подлежит сомнению, что часть украинофилов делала это неискренне. Не стоит, однако, и забывать, что тогдашние условия не оставляли другого выхода тем, кто не стремился стать объектом немедленных полицейских репрессий. Боязнь спровоцировать карательные меры властей против «Основы» составляла неотъемлемый фон этой полемики – вся пресса, вне зависимости от идейной ориентации, в 1861—1862 гг. решительно выступает за свободу слова.|96
Глава 4
Власти империи и украинофильство в 1862—1863 гг.
Генезис Валуевского циркуляра
Исследователи уже не раз обращались к проблеме генезиса Валуевского циркуляра цензурным комитетам от 18 июля 1863 г. и реконструировали существенную часть этой истории. Однако целостная картина до сих пор не была воссоздана, во многом потому, что ни один историк не имел, по разным причинам, доступа ко всему комплексу связанных с этим делом документов [259]259
М. Лемке в своей книге «Эпоха цензурных реформ 1859—1865 гг.» (СПб., 1904) вообще вынужден был пользоваться не оригиналами, а копиями неизвестного происхождения. Ф. Савченко («Заборона українства 1876 p.» Харків; Київ, 1930, репринт München, 1970) не знал документов петербургских, а Д. Саундерс – московских. Саундерс опубликовал за последние годы несколько статей о происхождении Валуевского циркуляра: Saunders D. Russia’s Ukrainian Policy (1847—1905): A Demographic Approach // European History Quarterly 25 (1995); Idem. Russia and Ukraine under Alexander II: The Valuev Edict of 1863 // International History Review 17 (1995); Idem. Mikhail Katkov and Mykola Kostomarov: A Note on Petr Valuev’s Anti-Ukrainian Edict of 1863 // Harvard Ukrainian Studies. 17. Nr. 3—4 (1996 for 1993).
[Закрыть]. Между тем в недрах бюрократического аппарата развивались, до определенного моменти формально независимо друг от друга, два дела об украинофильстве, замкнувшихся, в конечном счете, на министра внутренних дел П. А. Валуева, которому и предстояло подписать эту знаменитую инструкцию [260]260
Текст циркуляра см. в Приложении 1.
[Закрыть]. И только изучив оба комплекса документов, хранящихся в ГАРФ и в РГИА, можно воссоздать процесс принятия этого решения, что мы и постараемся сделать.
Более чем за год до того, как Валуев подписал свой циркуляр, 29 июня 1862 г. военный министр Д. А. Милютин направил шефу жандармов кн. В. А. Долгорукову коротенькую записку следующего содержания: «Секретно. Сообщенные мне генерал-губернатором свиты е. в. графом Сиверсом секретные сведения о происходящем в Киеве, считаю полезным довести до сведения Вашего сиятельства, присовокупив, что прилагаемую при сем записку я прочел Государю Императору» [261]261
ГАРФ, ф. 109, 1-я экспедиция III отделения, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 1. Цит. по: Савченко Ф. Заборона… С. 183—184.
[Закрыть]. Хорошо знакомый с обычаями царской бюрократии Милю|97тин знал, как заставить крутиться достаточно неповоротливую машину тайной полиции. Упомянув, что он проинформировал об этом письме императора, или, как сказали бы современные российские бюрократы, что «дело находится у царя на контроле», Милютин мог быть спокоен – оно будет разрабатываться с максимальной активностью.
Такая предосторожность Милютина не была лишней. III отделение уже располагало к тому моменту весьма существенной информацией об активности украинофилов, в том числе и уже цитированной ранее их перлюстрированной перепиской, но никаких действий, помимо сыскных, по этому поводу не предпринимало. Теперь, после записки Милютина, III отделению предстояло заняться этим вопросом всерьез. В приложенном к записке письме Б. Ф. Сиверса говорилось о существовании в Киеве «общества под названием хлопоманов», действующего «для возмущения крестьян против помещиков и распоряжений правительства с целью восстановления независимости Малороссии» [262]262
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 3. Цит. по: Савченко Ф. Заборона… С. 184—185.
[Закрыть]. «Нисколько не скрывая принадлежности к обществу, молодые люди эти ходят в национальном малорусском платье и разъезжают по деревням». Среди активистов общества Сиверс упоминал В. Антоновича, Ф. Рыльского и П. Чубинского, подписи которых стояли под отвергавшим политические обвинения в адрес украинофилов письмом, которое в ноябре 1862 г. опубликовала «Современная летопись „Русского вестника“» [263]263
Современная летопись. 1862. Ноябрь. № 46.
[Закрыть]. Очевидно, что кто-то из местных киевских деятелей снабдил Сиверса информацией, а может быть, и подтолкнул к написанию этого письма. Это могли быть противники украинофилов из собственно малороссийской среды, но более вероятно, что это были местные польские землевладельцы. Именно они прозвали украинофилов «хлопоманами», то есть «поклонниками крестьян» [264]264
Chłop по-польски значит крестьянин. В России это прозвище иногда переиначивали в хохломаны.
[Закрыть], именно они могли акцентировать опасность возмущения крестьян против помещиков – на то время почти исключительно поляков. Наконец, среди названных по именам украинофилов двое – Антонович и Рыльский – были особенно нелюбимы в польской среде как «отступники», родившиеся в польских (точнее, в давно полонизированных) шляхетских семьях, затем сменившие идентичность на украинскую, а социальные симпатии на народнические. В 1861 г. «Основа» напечатала очень эмоциональную «Исповедь» Антоновича, в которой он объяснял своим польским оппонентам, почему он не может и не хочет считать себя поляком. Именно такие бывшие члены польской нелегальной студенческой организации – «гмины» – и составили к 1860 г. ядро киевской «Громады» – полулегальной организации украинских национальных ак|98тивистов [265]265
Сам Антонович говорит об основателях Громады «мы, поляки-украинцы». Кстати, и само понятие «громада» было заимствовано у поляков. См.: Мияковский В. Киевская громада (Из истории украинского общественного движения 60-х годов) // Летопись революции. 1924. № 4. С. 129, 134. Харьков.
[Закрыть]. Так или иначе, но подчеркнем то обстоятельство, что «местная инициатива» дает о себе знать с самого первого шага в развитии этого дела.
Ответы жандармских офицеров из Юго-Западного края на последовавшие вслед за обращением Милютина к Долгорукову запросы петербургского начальства были выдержаны в успокоительном тоне и не содержали существенной дополнительной информации. «Дошедшие в Петербург слухи, что ничтожное общество хлопоманов стремится будто бы о восстановлении и независимости Малороссии (sic!), не заслуживают внимания, испокон веков Малороссия самостоятельно не была и быть не может»,– заключал испытывавший некоторые трудности в борьбе с русскими предлогами поляк, полковник Грибовский, штаб-офицер находящегося в Киевской губернии корпуса жандармов [266]266
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 10 об.
[Закрыть]. (Заметим, что уже здесь проскальзывает формула, которую сделает позже знаменитой Валуевский циркуляр – «не было, нет и быть не может».)
Тем не менее оставить показанную царю записку Милютина без последствий было нельзя, и в январе 1863 г. Долгоруков отправил в Киев предписание, в котором предлагал Киевскому генерал-губернатору «принять зависящие меры к прекращению дальнейших действий означенного общества». В вину Громаде Долгоруков ставил контакты с польскими гминами, а также стремление «распространять в народе либеральные идеи и с этой целью издавать народные малороссийские книги» [267]267
См.: Мияковский В. Киевская громада… С. 149—150.
[Закрыть]. Иначе говоря, шефу жандармов на тот момент более опасной представлялась социальная, а не националистическая сторона идеологии Громады.
Адресатом этого письма был уже новый генерал-губернатор ген. Н. Н. Анненков, назначенный 3 декабря 1862 г. по протекции Д. Милютина на место скоропостижно скончавшегося Васильчикова [268]268
Заметим, что Валуев, еще рассчитывавший на мирное развитие отношений с поляками, был этой кандидатурой недоволен и пытался убедить Милютина, что «в Западный край нужна не сила, которой столько потратил, зато без пользы, ген. Бибиков, но уменье ладить и жить с людьми» (Письмо Валуева Д. Милютину от 16 ноября 1862 г. ОР РГБ, ф. 169, к. 59, ед. хр. 32. Л. 5.). Опасения Валуева подтвердились очень скоро.
[Закрыть]. При всей кажущейся грозности этого предписания прямых серьезных последствий оно иметь не могло. Громада не была официальной орга|99низацией, а потому закрыть ее распоряжением властей было нельзя. Никаких конкретных компрометирующих данных на громадчиков Долгоруков Анненкову не сообщал, так что полицейские репрессии против них также не предусматривались, тем более что таковые были в компетенции самого Долгорукова. Все, что мог предпринять Анненков на основании этого письма, это вызвать нескольких лидеров Громады и сделать им внушение. Однако перспектива «спугнуть» таким образом громадчиков его не устраивала.
23 февраля Анненков отправил Долгорукову письмо, посвященное проблеме украинофильства. Он прежде всего солидаризовался с мнением шефа жандармов о «вредности коммунистических и социалистических теорий». Сетуя на то, что секретный надзор, установленный над украинофилами, не дал компрометирующих материалов, Анненков предлагал спровоцировать в прессе полемику с участием украинофилов, которая «могла бы содействовать Правительству в раскрытии действительной цели и к объяснению духа и направления лиц, подписавших статью», опубликованную в «Современной летописи» [269]269
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 46—47.
[Закрыть]. Н. Анненков, по сути, предлагал продолжить тактику, однажды уже примененную, ведь письмо украинофилов стало ответом на статью губернаторского однофамильца П. Анненкова «Из Киева». Позднее генерал-губернатор просил Долгорукова прислать в Киев опытного и неизвестного там агента, который мог бы внедриться в среду украинофилов. Анненков, таким образом, пытался подтолкнуть Долгорукова более серьезно заняться этим делом, демонстрируя заметно более высокую квалификацию в деле политического сыска, чем начальник III отделения.
Вскоре после этого, в начале марта, Долгоруков получил анонимное письмо из Киева, написанное, судя по его тексту, высокопоставленным духовным лицом (или лицами). Отмечая, что украинофилы «привлекли к своей партии в Киеве и Санкт-Петербурге несколько людей значительных, хоть и слепотствующих», авторы письма продолжали: «Все мы благонамеренные малороссы, вполне понимающие нужды и желания народа и затеи наших хлопоманов-сепаратистов, умоляем в. с. употребить все, чем только вы можете располагать, чтобы защитить нашу святыню от поругания, а отечество от распадения и опасного раскола». Потребовав далее запретить «малорусский» перевод Евангелия, авторы закончили письмо прямой и недвусмысленной угрозой: «Впрочем, если моление наше, теперь одинокое, не принесет ожидаемых от вашей ревности к пользам церкви и отечества результатов, мы явимся с протестом нашим гласно, перед лицом всего Русского мира» [270]270
См.: Герцен А. И. ПСС / Под ред. М. К. Лемке. Т. XVI. Пг., 1920. С. 299—300.
[Закрыть]. Очевидно, что авторы были крайне раздражены медлительностью III отделения, если позволили себе обращаться к |100Долгорукову в таком тоне. Отметим в то же время, что требование о запрете украинского перевода Евангелия формально обращено «не по адресу» – этим вопросом, как и изданием духовной литературы вообще, занимался Синод. Остается предположить, что при всем своем недовольстве III отделением авторы считали более вероятным добиться нужного им результата здесь, а не у своего прямого начальства.
Долгоруков переслал это письмо Анненкову, и уже 17 марта Анненков отправил Долгорукову второе «антиукраинофильское» послание. Из него ясно видно, что киевский генерал-губернатор если и не был инициатором анонимного письма «защитников церкви и отечества», то во всяком случае был с ним вполне согласен: по сравнению с февральским письмом критические акценты резко смещены, и вопрос о переводе Евангелия выходит на первый план. Анненков отмечает, что «польская и малорусская партии, расходящиеся в окончательной цели своих стремлений (т. е. Анненков признавал украинофильство самостоятельным движением и не склонен был видеть в украинофилах сознательных польских агентов.– А. М.), сходятся в средствах, ибо и поляки стали в воззваниях своих к простому народу тоже напоминать им о прежней независимости Украины, о козачестве» [271]271
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 56.
[Закрыть]. Затем Анненков обратился к языковому вопросу, сравнив украинский язык с «особыми наречиями жителей некоторых великорусских губерний». В этой связи планировавшееся издание украинского перевода Священного Писания Анненков охарактеризовал как «предприятие скорее политического характера». Вывод его был таков: «До сих пор в литературе идет спор о том, составляет ли малороссийское наречие только особенность русского языка или это язык самостоятельный. Добившись же перевода на малороссийское наречие Священного Писания, сторонники малороссийской партии достигнут, так сказать, признания самостоятельности малороссийского языка, и тогда, конечно, на этом не остановятся и, опираясь на отдельность языка, станут заявлять притязания на автономию Малороссии» [272]272
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 56 об. Уже «вдогонку», в апреле Анненков перешлет Долгорукову и письмо директора училищ Закавказского края Кулжинского, где тот, обеспокоенный объявлениями о сборе средств на издание украинских книг для народа, вопрошал: «Неужели нельзя удержать беспокойного Костомарова от его сепаративных затей?» (См.: Герцен А. И. ПСС / Под ред. М. К. Лемке. Т. XVI. С. 301.)
[Закрыть].
Сам Н. Анненков, похоже, многое понял под влиянием своих занятий проблемой украинофильства и стал формулировать русификаторские идеи более четко. Вскоре после вступления в должность новый генерал-губернатор писал Д. Милютину, что главную задачу видит в принятии «мер к усилению русской народности», имея в виду лишь борьбу с польским влиянием [273]273
ОР РГБ ф. 169 к. 14, ед. хр. 3. Л. 58 об.
[Закрыть]. В мае же в письме другому своему |101покровителю, министру иностранных дел А. М. Горчакову Анненков уже говорит о задаче «утвердить окончательно за жизнью всей Западной Руси совершенное тождество коренных общественных начал с жизнью Руси Восточной и, следовательно, полноту Русского народного единства» [274]274
АВПРИ, ф. 133, оп. 469, 1863 г., ед. хр. 83. Л. 4 об. Письмо Н. Анненкова А. Горчакову от 24.05.1863. В 1864 г. Анненков старался также заручиться поддержкой Горчакова при решении вопроса о проведении железной дороги из Одессы в Москву через Киев, а не Харьков, оперируя не только экономическими, но и ассимиляторскими аргументами (АВПРИ, ф. 133, оп. 469, 1864 г., ед. хр. 73. Л. 8. Письмо от 24.10.1864).
[Закрыть].
Две пометки Долгорукова на полях письма Анненкова от 17 марта говорят о том, что оно сыграло в развитии дела очень важную роль: «Доложено Его Величеству 27 марта», «Высочайше разрешено войти с кем следует по данному предмету (перевод Евангелия.– А. М.) в сношение. 27 марта» [275]275
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 55, 56 об.
[Закрыть].
Таким образом, Святейший Синод не был, как считают некоторые исследователи, инициатором запретительных мер, и сам вопрос о целесообразности издания Священного Писания по-украински отнюдь не был первоначальным поводом для репрессий против украинского языка [276]276
См.: Dmytryshyn В. Introduction // Ф. Савченко. Заборона укранства 1876 р. München, 1970.
[Закрыть].
Здесь необходим комментарий. Первая попытка опубликовать перевод Священного Писания с церковнославянского на русский была предпринята в начале 1820-х гг. Российским библейским обществом с разрешения Александра I. Противодействие церковных иерархов не позволило довести дело до конца. Несколько сотен тысяч уже отпечатанных по-русски экземпляров Библии были сожжены. В последующие годы митрополит Московский Филарет несколько раз пытался сломить сопротивление своих более консервативных коллег, но безуспешно. Его «Катехизис» синодальная цензура долго не пропускала из-за того, что три молитвы, включая «Отче наш», были приведены на русском [277]277
Smolitsch I. «Geschichte der russischen Kirche», teil 2 // Forschungen zur osteuropaischen Geschichte. Band 45 (1991). S. 19; Batalden S. K. Printing the Bible in the Reign of Alexander I: Toward a Reinterpretation of the Imperial Russian Bible Society // Geoffrey A. Hosking (ed.). Macmillan Academic and Professional LTD. London, 1991. P. 67; Филарет под цензурою // Русский архив. 1904. № 2. С. 311. См. также: Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. СПб., 1911; Пыпин А. Н. Российское библейское общество // Вестник Европы. 1868. № 8—12.
[Закрыть]. Главный противник Филарета архимандрит Фотий еще |102долго поминал ему попытку «перевода Нового Завета на простое наречие русское» [278]278
Автобиография юрьевского архимандрита Фотия // Русская старина. 1894. № 7. С. 218.
[Закрыть].
Эта фраза Фотия еще раз напоминает нам, что русский к тому времени еще далеко не вполне утвердился в своей роли развитого языка. Не только дворянство, в том числе и Пушкин, осваивало французский раньше русского. Церковная иерархия в свою очередь лишала это «простое русское наречие» права быть языком Священного Писания, тем самым отнимая у него то огромное преимущество, которое западноевропейские языки уже давно имели перед теми менее «везучими» наречиями, которые пытались эмансипироваться из-под их доминации на волне национализма в XIX в. [279]279
Ошибочно поэтому мнение Б. Андерсона, считавшего издание в конце XVIII в. академического шеститомного словаря свидетельством триумфа русского языка над церковнославянским. См.: Anderson В. Imagined Communities… P. 73.
[Закрыть]
Только в 1859 г. по настоянию Александра II Синод, наконец, разрешил полный русский перевод Священного Писания. Новый Завет был опубликован в 1862 г., а полный текст Священного Писания в 1876 г., годом позже, чем русский перевод «Капитала». После того как русский перевод был, наконец, разрешен, Синод, насколько можно судить, склонялся к проведению такой же политики в отношении малорусского языка. В 1862 г. он разрешил печатание на украинском «Священной истории» отца Степана Опатовича и рассматривал малорусский перевод Евангелия, подготовленный Ф. С. Морачевским. Таким образом, вопрос о переводе Священного Писания на украинский был в начале 1860-х гг. частью более общего вопроса о доступности Священного Писания для паствы и о статусе современных восточнославянских языков по отношению к церковнославянскому. Разгоревшаяся в это время в прессе дискуссия об украинском языке или малороссийском наречии, о его роли в преподавании и литературе сделала очевидным, что вопрос перевода Священного Писания касается и статуса восточнославянских языков по отношению друг к другу. О популярности русского перевода Евангелия среди крестьян, а значит, и о его потенциальной ассимиляторской роли, можно судить по тому, что только с 1863 по 1865 г. разошлось более 1 миллиона 250 тысяч экземпляров [280]280
См.: Hosking J. Russia: People and Empire, 1552—1917. London, 1997. P. 233—234.
[Закрыть].
Во исполнение резолюции царя от 27 марта Долгоруков письмом от 2 апреля проинформировал Валуева о деле украинофилов, приложив второе письмо Анненкова и анонимное письмо из Киева [281]281
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 58.
[Закрыть]. 14 апреля Валуев отправил обер-прокурору Синода генерал-майору |103А. П. Ахматову запрос об украинском переводе Евангелия, приложив письмо Анненкова. Ответ Ахматова от 19 апреля был весьма сдержанным: сообщив, что перевод находится на отзыве у калужского епископа, обер-прокурор обещал, что по возвращении рукописи мнение Анненкова будет «принято в соображение Святейшим Синодом», о решении которого Валуев будет извещен [282]282
РГИА, ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 166.
[Закрыть]. Своего отношения к письму Анненкова и позиции по этому вопросу Ахматов никак не определял. Даже в мае, в ответ на очередной запрос Долгорукова, Ахматов счел нужным просить дополнительных разъяснений по поводу других книг религиозного содержания, ссылаясь на публикуемые в прессе объявления о сборе средств для «издания книг для народа по-малороссийски» [283]283
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 66. Письмо Долгорукову от 22 мая 1863 г.
[Закрыть]. Окончательно разобравшись, куда ветер дует, обер-прокурор приказал калужскому епископу Иакову (Миткевичу), у которого перевод Морачевского был на отзыве, вернуть текст без всякого отзыва, очевидно не желая поставить епископа в неловкую ситуацию, буде тот даст положительное заключение [284]284
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 78. Авторы Доклада Комиссии Академии наук по вопросу об «отмене стеснений малорусского печатного слова» упоминают, правда, без указания источника, что епископ «склонялся к одобрению труда Морачевского». Об отмене стеснений малорусского печатного слова. СПб., 1910. С. 17.
[Закрыть]. Раз Ахматов допускал такую возможность, следовательно, никаких предварительных инструкций отрицательного толка по поводу перевода епископ не получал.
Таким образом, почти за три месяца с момента, когда Александр II поручил Долгорукову обсудить вопрос об издании украинского перевода Евангелия с другими высокопоставленными чиновниками, о деле были проинформированы только Валуев и Ахматов. От министра просвещения А. В. Головнина на этом этапе дело держали в секрете. Только 17 июня Валуев написал Долгорукову, что «совершенно разделяет мнение» киевского генерал-губернатора [285]285
ГАРФ, ф. 109, оп. 37, ед. хр. 230, ч. 38. Л. 68.
[Закрыть]. В этом промежутке между началом апреля и серединой июня противники украинофильства постарались придать делу уже публичный резонанс.
Неизвестно, то ли Долгоруков ознакомил Каткова с планом Н. Анненкова об организации в прессе провокации против украинофилов, то ли сам Анненков связывался с Катковым. Возможны оба варианта, не исключено, что оба и имели место в действительности. Во всяком случае, Каткова не нужно было долго уговаривать. Первой попыткой реализовать план, предложенный киевским генерал-губернатором, стала публикация в майском номере «Русского вестника» за 1863 г. статьи А. Иванова «О малорусском языке и об обучении на нем». Эта |104работа стала самым последовательным и аргументированным изложением антиукраинофильской позиции в русской печати. Иванов с 1858 г. был студентом Киевского университета и, весьма вероятно, писал свою статью по прямому указанию киевского генерал-губернатора. Во всяком случае, в своей статье он неоднократно призывает украинофилов к полемике.
Иванов, в отличие от всей антиукраинофильской русской публицистики, не оспаривает возможности превращения «малорусского наречия» в развитый самостоятельный язык [286]286
Катков к 1863 г. уже не допускает такой возможности.
[Закрыть], а нападает на украинофильство с позиций идейного сторонника ассимиляции. Ссылаясь на немецкий и французский опыт, Иванов говорит о роли языка и культуры как объединяющего фактора. Он призывает к подобному объединению и славян на основе тех четырех славянских языков, которые он считает на данный момент литературно развитыми – русского, польского, чешского, сербского [287]287
Русский вестник. 1863. Май. С. 253.
[Закрыть]. Для него вопрос состоит не в том, возможен ли украинский язык, но в том, возможно ли обойтись без него, сделав русский общим языком велико– и малороссов. Ответ, разумеется, утвердительный, а значит, «украйнофилы-сепаратисты стремятся разрушить и уничтожить то, что уже в значительной степени осуществилось, что давно уже идет к полному осуществлению, стремятся уничтожить самые драгоценные плоды нашей истории» [288]288
Там же. С. 254.
[Закрыть].
Не оспаривает Иванов и главного «официального» аргумента украинофилов в пользу преподавания на украинском – ускорение обучения грамоте. Но выигрыш на первых порах обернется, по его мнению, проигрышем в дальнейшем, ведь массив культуры, доступный грамотному по-украински, заметно меньше, чем тот, который доступен грамотному по-русски. Далее он делает не лишенное резона замечание, которое ставит языковой вопрос и проблему русификации вообще в социальный контекст: «Очень может быть, что в настоящее время в деревнях преподавание на малорусском наречии идет значительно успешнее, чем на русском языке. Но причина лежит в другом обстоятельстве. По-малорусски преподают теперь только приверженцы сепаративных устремлений; а таким стремлениям предаются только люди, получившие образование хотя поверхностное, но все-таки гораздо лучшее, чем прочие сельские преподаватели, состоящие из писарей и дьячков… Причина здесь не в языке, а в преподавателях» [289]289
Там же. С. 260.
[Закрыть]. (А в Петербурге именно в это время хоронили проект передачи начального преподавания светским учителям!) [290]290
Подробно см. главу 7.
[Закрыть]
Очевидно, что в Киеве опасения по поводу распространения украинского языка в преподавании возникли и усилились раньше, чем в |105Петербурге. Уже в 1862 г. Комитет для рассмотрения уставов под председательством профессора Киевского университета И. Я. Нейкирха единогласно постановил заменить в уставах низших и средних учебных заведений слова «отечественный язык» на «русский язык» [291]291
Русский вестник. 1863. Май. С. 258; Университетские известия. 1862. № 4. С. 19, 25, 35.
[Закрыть]. В 1863 г. профессор Киевского университета С. Гогоцкий и учитель Нежинской гимназии И. Кулжинский (оба – малороссы) публикуют специальные брошюры против применения украинского языка в преподавании [292]292
См.: Гогоцкий С. На каком языке следует обучать в сельских школах Юго-Западной России? Киев, 1863; Кулжинский И. О зарождающейся так называемой малороссийской литературе. Киев, 1863.
[Закрыть].








