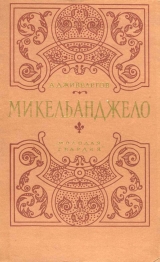
Текст книги "Микельанджело (др.изд.)"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
«Случайно тогда Пьеро Содерини взглянул вверх, статуя ему очень понравилась, но когда он ее с разных сторон осмотрел, то сказал: «Нос у него, кажется мне, великоват». Приметив, что гонфалоньер стоит внизу гиганта и что зрение не позволяет ему увидать по-настоящему, Микельанджело поднялся на мостки, устроенные на высоте плеч статуи, и, быстро схватив в левую руку резец и щепотку мраморной пыли, рассыпанной на досках мостков, стал, легонько взмахивая резцом, понемногу сбрасывать пыль, оставив нос в прежнем виде. Потом, взглянув вниз на гонфалоньера, стоявшего и глядевшего, сказал: «Посмотрите-ка теперь». – «Теперь мне больше нравится, – ответил гонфалоньер, – вы придали больше жизни». Тогда Микельанджело спустился и про себя посмеялся над тем, как он удовлетворил желание правителя, сожалея о людях, которые, корча из себя знатоков, сами не знают, о чем говорят».
«Давид» простоял на площади Синьории больше трех с половиной веков. В 1527 году, во время народных волнений, у него была отбита камнем левая рука, но куски мрамора были благоговейно подобраны до последней крошки и позднее приставлены на место. В 1873 году его перевезли в музей Академии художеств, где он и находится сейчас среди других произведений Микельанджело, собранных после войны в этом музее из общественных хранилищ Флоренции. На старом месте недавно поставили мраморную копию статуи. У церкви Сан Миниато, на площадке, носящей имя художника, откуда он в 1529-1530 годах защищал свой родной город в качестве главного инженера по фортификации, стоит бронзовая копия «Давида».
Недаром Микельанджело работал над «Давидом» так долго и так тщательно. Статуя, восторженно говорит тот же Вазари, «отняла славу у всех статуй, современных и античных, греческих и римских». Даже если признать, что не «у всех», то, во всяком случае, она заняла среди скульптурных шедевров одно из самых выдающихся мест. У нее, конечно, есть и недостатки, много раз отмечавшиеся. Главный из них тот, что торс недостаточно мощен для такой головы и таких могучих рук и ног. Но все недостатки забываются перед общим впечатлением, которое производит эта колоссальная (5,5 метра) статуя.
Юный воин весь отдался одной мысли: поразить врага, – от этого зависит все. Художник фиксирует мгновение. Брови юноши грозно нахмурены, ноздри расширены, глаза горят. Правой рукой он сжимает конец пращи, которая висит во всю длину у него на спине, левая судорожно нащупывает зажатый в праще камень. Ноги словно вросли в землю – так напряжены в них мышцы. Как и в лондонском «Купидоне», изображен миг перед решительным усилием. Сейчас левая рука выпустит камень, правая рванет пращу, закружит ее в воздухе, и нехитрый снаряд полетит, чтобы поразить в лоб насмерть высокомерного супостата.
Нет нужды, что тип лица у «Давида» навеян донателловым «Георгием». Микельанджело придал ему свой отпечаток, такой, который станет как бы его художнической маркой и получит свое наименование – la terribilità. Это не столько «устрашающая сила», в буквальном смысле этого слова, сколько такое действие статуи или картины, которое способно вывести зрителя из спокойного состояния и заставить его с какой-то большой внутренней тревогой переживать свое впечатление. В «Pietà» этого еще не было. В дальнейшем это свойство будет постоянно сопутствовать творчеству Микельанджело. Стремление к такому именно действию своих произведений стало непобедимой внутренней потребностью художника, развившейся в процессе разнообразных его переживаний. Каких – об этом будет речь в своем месте.
Дальнейшие работы во Флоренции
Мраморный «Давид» – не единственное, чем, был занят в эти годы Микельанджело. Еще 12 августа 1502 года он получил первые десять флоринов за другого, бронзового, «Давида», исполняемого по заказу французского маршала Пьера Рогана. Уже в это время, по-видимому, было достигнуто соглашение о новом характере статуи. «Давид» работался не как предполагавшаяся вначале копия донателлова Давида, стоявшего в то время во дворе Дворца Синьории, а как вполне самостоятельная бронзовая статуя в человеческий рост. Синьория не хотела отказывать очень влиятельному советнику Людовика ХII, в дружбе которого, ввиду осложнений с Пизою и угроз со стороны Борджа, она была очень заинтересована.
Роган беспрестанно торопил Микельанджело с высылкою статуи. Но так как у Микельанджело дел было много, то статуя подвигалась медленно, а в конце 1503 года Роган впал в немилость у Людовика XII и потерял поэтому всякий интерес для Синьории. На его напоминание от 1 апреля 1504 года уже не обратили никакого внимания и стали подготовлять с помощью статуи другую политическую спекуляцию. Бронзового «Давида» решено было предложить Флоримону Робертэ, финансовому советнику французского короля, который и получил статую, хотя и с большим опозданием, в конце 1508 года. Она была поставлена сначала в его замке Бюри, около Блуа, потом перенесена в другой замок и оттуда бесследно исчезла. Микельанджело так и не удосужился заняться ее окончательной отделкой. Отливка и шлифовка были произведены специалистом по бронзовой скульптуре – Бенедетто да Ровеццано.
Для суждения о том, что представлял собою бронзовый «Давид», материалов у нас немного. Есть гравюра Дюсерсо, изображающая замок Бюри и во дворе его статую. Есть набросок Микельанджело (в Лувре), не совпадающий с изображением на гравюре. Нужно думать, что в окончательном виде статуя получилась иною, чем первоначально думал художник. На гравюре Давид держит в вытянутой руке голову Голиафа – поза, повторенная Бенвенуто Челлини в «Персее». На рисунке голый Давид попирает правой ногою голову; корпус его откинут назад, а в левой руке что-то вроде пращи. Тут же известная загадочная надпись, над которой бесплодно ломали голову все биографы:
Давид с пращею,
Я же с луком
Микельаньоло.
Несколько ниже строка из Петрарки:
Повержена высокая колонна.
Мы еще вернемся к этим таинственным четырем строчкам.
Кроме двух «Давидов», Микельанджело создал за четыре года своего пребывания во Флоренции много других скульптурных произведений. 3
Микельанджело и Леонардо. «Мадонна Дони»
Но как ни был увлечен Микельанджело скульптурными работами в эти годы, он не забрасывал и живопись. Это обусловливалось двумя причинами. Приходилось делать много набросков, особенно для скульптурных мадонн. А кроме того, ему, очевидно, мучительно хотелось усвоить все новое, что давало искусство Леонардо, и вместе с тем сохранить все то, что составляло основу его собственного, микельанджеловского искусства. Он не мог не признавать великого гения Леонардо, не мог не видеть, как богато оплодотворена была живопись его новшествами. Но он ощущал этот факт как нечто, задевающее лично его. Микельанджело страстно любил искусство и ревновал к нему тем больше, чем более достойным казался ему предмет его ревности. Лично Леонардо никогда ничем не обидел его. Но для Микельанджело это не имело значения. Его раздражало в Леонардо все, что было в нем великого. Он относился к нему настороженно и всегда готов был наговорить ему грубостей. Он не прощал ему даже того, за что нисколько не был в претензии на других.
Одна сценка, когда Микельанджело дал волю своему раздражению против Леонардо, рассказана нам современниками. Перед церковью Санта Тринита несколько человек, и в том числе Леонардо, обсуждали какое-то неясное место у Данте. Мимо проходил Микельанджело. Леонардо сказал спокойно и без всякой иронии: «Вот Микельанджело. Он объяснит нам». А тому показалось, что старший собрат смеется над ним. И он резко ответил: «Объясняй сам, раз ты сделал модель «Коня», чтобы отлить его из бронзы, ничего не сумел закончить и в таком положении позорно бросил работу». «Сказав это, – прибавляет рассказчик, – он повернулся и ушел, а Леонардо остался стоять, весь красный от его слов».
Ответ был бессмысленный, ибо между цитатой из «Божественной комедии» и миланской моделью конного памятника Франческо Сфорцы не было ничего общего. Кроме того, ответ был груб и нарочито наносил удар Леонардо в самое чувствительное место. Леонардо нисколько не был виноват, что Лодовико Моро не дал ему денег на отливку «Коня». К тому же, всем было известно, что не так давно самая модель потехи ради была расстреляна в Милане гасконскими арбалетчиками и что это причинило великое горе Леонардо. Мы не знаем, как объяснили себе Леонардо и другие эту дикую выходку. Но несомненно, что Микельанджело ревновал к искусству Леонардо, ибо как раз в эти годы он вполне оценил его величие. Себя Микельанджело не хотел признавать ниже. И быть может, есть правда в недавно высказанном предположении, что загадочные слова на наброске к бронзовому Давиду: «Давид с пращею, а я с луком… Повержена высокая колонна» – отголосок представления о борьбе, которая шла в это время в мире искусства между Микельанджело и Леонардо. В этой борьбе Микельанджело победителем считал себя, а Леонардо оценивал, как поверженную высокую – все-таки высокую– колонну.
Картон св. Анны, сделанный Леонардо, произвел на Микельанджело огромное впечатление, как он этому ни сопротивлялся. Сохранились два его рисунка, которыми он старается как бы освободиться от гипноза леонардова мастерства и заставить его служить своему искусству. На одном рисунке (в Оксфорде) Мария сидит лицом к зрителю, на правом колене сидящей и повернувшейся влево Анны. На другом (в Париже) – обе женщины сидят в профиль. У Анны резкие, сивилловские черты лица. Мария нагнулась, чтобы дать грудь лежащему на руках у нее младенцу. А рядом многозначительные слова: «Кто бы мог сказать, что это сделано моей рукою?» При свете этих рисунков становится понятным все леонардовское, что так ярко бросается в глаза в «Pietà» и в других скульптурных произведениях Микельанджело того периода. Быть может, усиленное занятие Микельанджело в эти годы живописью преследовало одну цель: через живопись скорее отделаться от влияния Леонардо. И Микельанджело действительно добился этого: именно через живопись он нашел свой тип мадонны. 4
Это «Мадонна Дони», которую нужно отнести, по-видимому, уже к 1505 году. (Картина хранится в Трибуне Флорентийской галереи Уффици.) Здесь, после многих исканий, преодоление Леонардо завершилось. Вазари подробно рассказывает историю этой мадонны: «Окончив картину, он дал слуге отнести ее в дом Аньоло вместе со счетом, в котором он требовал себе вознаграждения в семьдесят дукатов. Странным показалось Аньоло, человеку расчетливому, тратить такие деньги на живопись; хотя он и знал, что картина большего стоит, сказал он посланнику, что достаточно и сорока, столько и уплатил ему. Тогда Микельанджело отослал ему деньги обратно, послав ему сказать, чтобы уплатил сто дукатов или вернул картину. На что Аньоло, которому нравилось произведение, сказал: «дам ему 70»; а тот не удовлетворился и за малое доверие к себе потребовал у Аньоло вдвойне против того, сколько запросил сначала; таким образом, чтобы получить картину, Аньоло был принужден послать ему 140 скуди».
В этой картине Микельанджело умышленно избрал своим образцом того художника, который по манере, сухой и резкой, является полной противоположностью Леонардо, – Луку Синьорелли. Здесь он решительно подчеркнул отказ от чисто живописных эффектов. Краски скупы до последней степени. Все сосредоточено на линиях и на рельефе. Еще больше, чем в других произведениях того времени, скульптурный стиль и скульптурные задачи вытесняют живописные. Центральная группа – мадонна, младенец и Иосиф, в необычайно трудной, надуманной, но безукоризненно сделанной позе, – словно срисована со скульптуры. И в то же время все подано чрезвычайно реалистично. Божественные атрибуты отброшены. Бедный младенец Иоанн уведен в сторонку, традиционная книга, закрытая, никого не интересующая, заброшена между складками платья мадонны. Лица ни в какой мере не идеализированные, очень человечные, совсем не божественные. На заднем фоне – едва намеченный пейзаж и пять обнаженных и полуобнаженных юношей, ни в чем не похожих на ангелов.
Это была огромная победа. Микельанджело вернул себе свободу, которую боялся потерять под действием леонардовых чар. Он пришел к определенному сознанию, что он не живописец, а скульптор, и решил окончательно преодолеть все то, что делало его еще живописцем. А какой путь мог привести к этому лучше, чем путь через обратный эксперимент: насильственное пропитывание живописи приемами скульптуры? Так надеялся он забыть и плоды уроков Гирландайо, и усердную копировочную работу в капелле Бранкаччи, и – главное – все чары Леонардо.
Художественные натуры великих мастеров Леонардо и Микельанджело были диаметрально противоположны. Каждый из них имел индивидуальный творческий идеал. У Леонардо преобладал рассудок над чувством; Микельанджело был весь страсть, весь порыв. Микельанджело привлекала бурная, мятущаяся сила в человеке, и он создавал титанические образы, героические как в своем страдании, так и в радостях; Леонардо да Винчи более глубоко и тонко раскрывал психологический и духовный облик человека. Безоблачное спокойствие Леонардо позволяло ему смотреть дальше своей современности и оставаться безучастным к событиям; Микельанджело глубоко переживал судьбы своего народа, своей страны.
Микельанджело преодолел Леонардо так же, как раньше преодолел Донателло, хотя и с большим трудом, с бо́льшим надрывом. Он нашел себя, и в дальнейшем его собственная манера должна была утверждаться в его искусстве все больше и больше. Но это, конечно, не значит, что он перерос стиль Ренессанса и пришел к чему-то, что стало отрицанием стиля Ренессанса. Искусство Микельанджело – такое же искусство Ренессанса, как искусство Донателло, как искусство Леонардо, только на другом этапе. Все гуманистическое содержание искусства Ренессанса целиком сохранится у Микельанджело до конца его дней, и у потомков его имя будет таким же символом культуры Ренессанса, как и имя Леонардо.
Это станет совсем ясно, когда мы познакомимся с более зрелыми его произведениями.
«Битва при Кашине». Переезд в Рим
Леонардо вернулся во Флоренцию в марте 1503 года. Содерини, который уже был в течение нескольких месяцев пожизненным гонфалоньером, сейчас же предложил ему работу: сделать сначала картон для фрески, изображающей счастливую для флорентийцев битву при Ангиари 29 июля 1440 года. Фреска должна была украсить одну из стен нового зала Дворца Синьории, предназначенного для заседаний Большого совета. Леонардо был великий медлитель. Он согласился, но его все время отвлекали какие-то дела, и только в конце октября он переехал в монастырь Санта Мариа Новелла, где ему для работы были отведены мастерская и комната для жилья. В феврале 1504 года он начал работать, и через год картон был готов.
В новом зале Дворца были две сплошные стены. Одну должен был расписать Леонардо, другая была свободна. В августе 1504 года Содерини предложил Микельанджело сделать картон для второй фрески, изображающей тоже очень удачную для флорентийцев битву при Кашине 28 июля 1564 года. У простодушно-тщеславного гонфалоньера закружилась голова. Какая перспектива! В одном зале, друг против друга, картины двух великанов искусства. И нужно сказать, человечество вполне разделяло бы ликование Содерини, если бы его мысль осуществилась.
Микельанджело, хотя и был поглощен скульптурными работами, не отказался. Еще бы! Явилась возможность дать бой Леонардо оружием, в котором тот не знал соперников. Микельанджело не только не испугался такого соревнования, но был уверен, что не ударит лицом в грязь. Он сейчас же взялся за работу. В госпитале красильщиков при церкви Сант Онофрио он нашел себе помещение, устроил там все, что было нужно для большого картона, – помост, лестницы и прочее – и приказал никого не пускать. 31 октября 1504 года был куплен картон, 31 декабря было уплачено за его подклейку в один огромный кусок. 28 февраля 1505 года он получил аванс в 280 лир и… 5 марта, едва начав работу над картоном, отправился в Рим, вызванный туда папой Юлием II.
Микельанджело было тридцать лет. Он находился в полном расцвете сил. Он окончательно нашел себя как художник. Его дорога в искусстве была теперь ясна для него. Он скульптор, а не живописец. Побеждены все сторонние влияния. У него своя манера, не имеющая ничего общего ни с какой другой, способная служить образцом всякой другой. Но он продолжает работать над собою упорно и безостановочно. Кондиви говорит об этих именно годах – «в молодости», – что он изучал так прилежно все, что имело связь с искусством, что «на время почти совсем отказался от общения с людьми и виделся только с очень немногими». «За это, – прибавляет Кондиви, – иные считали его гордецом, иные – капризным и полным причуд, хотя он не страдал ни тем, ни другим недостатком. Но, как это случалось с людьми необыкновенными, любовь к добродетели и постоянное занятие благородными искусствами заставляли его искать уединения и в уединении находить и радость и удовлетворение. Тем более, что общение с людьми не только не приносило ему никакого удовольствия, но часто было ему тягостно, как все, что мешало его размышлениям. Ибо никогда не был он, как говорил великий Сципион, менее одинок, чем когда был один».
Однако к одиночеству Микельанджело стремился лишь тогда, когда к нему приходило вдохновение и он весь целиком отдавался творчеству. А когда работа не ладилась и ему хотелось отдохнуть, он, по свидетельству того же Кондиви, искал общения с немногими друзьями и с великими писателями родной страны. «Подобно тому, как он находил удовлетворение в беседах с учеными людьми, точно так же он любил читать произведения писателей, стихи и прозу. Среди них особенно почитал он Данте, чудесный гений которого увлекал его так, что он почти всего его знал наизусть. Не меньше ценил он Петрарку. И не только черпал он наслаждение, читая их. Иногда он и сам писал стихи, как можно видеть по многим его сонетам, которые свидетельствуют о богатстве его воображения и о большом уме».
В рассказах Кондиви, Вазари и даже Челлини о Микельанджело образ его приобретает черты настоящего полубога, у которого не только нет никаких пороков, не только не бывает никаких грехопадений, но которому чужды даже самые обыкновенные человеческие недостатки. Однако у нас имеются и поправки к славословиям этих верных его апостолов. И поправки неопровержимые, заключающиеся в письмах. Есть много писем к нему, в том числе писанные бесцеремонным пером Аретино; есть много писем к разным лицам, написанных им самим. В них Микельанджело-человек встает во весь рост, во всем величии гениального артиста и благородного гражданина, но в то же время с очень многими мелкими и крупными недостатками.
Когда Микельанджело нашел себя в «Давиде», «Мадонне Дони» и прочих произведениях тех лет, когда почести и материальные блага стали сыпаться на, него с величайшей расточительностью, когда он сделался выдающимся человеком во Флоренции и стал главою и щедрым кормильцем очень требовательной семьи, – он, подобно Данте, биографию которого, конечно, хорошо знал и который светил ему своим примером, начал относиться к людям с некоторым высокомерием. Были среди его знакомых и такие, которые ему импонировали, – и первый из них Леонардо. Были такие, от которых Микельанджело зависел. Но он способен был взбунтоваться против любого, кто задевал его чем-либо: способностью с ним равняться, невниманием, пренебрежением. И бунт его, как и у Данте, всегда был не столько во имя обиженного личного самолюбия, сколько во имя того искусства, жрецом которого он себя считал и которое было для него «святая святых». Но в жизни, в повседневной ее сутолоке эти особенности его характера воспринимались как заносчивость и нелюдимость, как капризы и злые причуды. Во Флоренции, впрочем, к нему привыкли. Он был славою родного города. И ему прощали многое.
Как сложатся его отношения с людьми в, новом Вавилоне, при папском дворе?
НА СЛУЖБЕ У ГРОЗНОГО ПАПЫ
Юлий II и проект его надгробья
Ночью 19 августа 1503 года скорбная мраморная мадонна Микельанджело, сидящая с телом сына на коленях в капелле матери божьей, защитницы от лихорадки, в старом соборе св. Петра в Риме, была немой свидетельницей такой сцены. Шесть носильщиков и шесть плотников втащили в капеллу гроб, в котором лежало в пышных украшениях огромное, раздувшееся, страшное на вид тело с черным лицом и широко раскрывшимся ртом, из которого вываливался вспухший язык. Несшие шутили и дурачились, и так как разбухшее тело упорно вылезало из тесного гроба, труп бесцеремонно впихивали туда ударами кулаков, срывая с него украшения. То были останки папы Александра VI, умершего накануне.
За несколько дней перед этим он, вместе с сыном Цезарем, назвался в гости к кардиналу Адриану да Корнето. Они отправились к нему с едою и напитками, как было в этих случаях принято, и с заветной бутылкой отравленного вина. Но не то слуги оказались недостаточно понятливыми, не то кардинал – чересчур сообразительным, только вино вместо того, чтобы попасть в бокал кардинала, попало в бокалы папы и его сына. Цезарь Борджа, который на случай смерти отца предусмотрел все, не предусмотрел, как он сказал позднее Никколо Макиавелли, только одного: что он сам будет лежать в этот момент при последнем издыхании.
Конклав, собравшийся с опозданием, избрал папой больного старика, кардинала Пикколомини, контрагента Микельанджело по сиенскому заказу, который принял имя Пия III и умер через двадцать шесть дней: с тем его и выбирали. А 1 ноября новый конклав провозгласил папой кардинала Джулиано делла Ровере, принявшего имя Юлия II.
Этот крепкий шестидесятичетырехлетний старик, умный, энергичный и суровый, быстро освоился с обстановкой, в течение нескольких дней вверг в ничтожество авторитет Цезаря Борджа, который больше всех помог ему стать папой, сговорился с Францией, с Венецией, с Флоренцией и крепко взял в руки бразды правления. У него была определенная политическая программа. Дела духовные мало занимали Юлия II, но очень привлекали мирские интересы папского государства и престиж церкви как политического организма. Он решил воспользоваться плодами завоеваний Цезаря Борджа в Романье и продолжать округление церковной территории путем истребления и вытеснения мелких и крупных тиранов из этой области. Его идеалом было возвеличение церкви, но средствами не духовными, а светскими, методами не Григория VII и не Иннокентия III, а кардинала Альборноса. Этой цели Юлий II достиг. Правда, частично, так как более широкие планы – изгнание чужестранцев из Италии и создание крепкой итальянской державы под гегемонией церкви – сорвались. Когда после первых успехов Юлий почувствовал под собою политически вполне твердую почву, он занялся делами культурными. Никто не ожидал, что этот воинственный старик, который был способен в жестокую стужу, под снегом ворваться вместе со своими войсками через брешь во вражескую крепость, сумеет проявить такое понимание искусства и такой вкус. Едва ли какой-нибудь другой папа так содействовал украшению города Рима, как этот непреклонный воин. Крупнейшие художники Италии были привлечены им и дали лучшее, на что были способны: Сан Галло, Перуцци, Перуджино, Синьорелли, Содома, Браманте, Рафаэль, Микельанджело. Крупнейшая доля в этом вкладе вместе с Рафаэлем принадлежит Микельанджело.
Мы не знаем, что заставило Микельанджело бросить две очень крупные работы во Флоренции: картон для залы Большого совета и мраморных апостолов для собора. Не знаем также, что думал предложить ему папа, приглашая его в Рим. Известно лишь одно, что инициатива вызова Микельанджело принадлежала его давнему приятелю, архитектору Джулиано да Сан Галло, который при первой вести об избрании кардинала делла Ровере поспешил в Рим. Он давно был знаком с Ровере, много для него работал и пользовался у него некоторым влиянием. Но и у Сан Галло, подсказавшему папе имя Микельанджело, не было определенного плана для будущих работ молодого художника. Недаром ведь, приехав в Рим, Микельанджело много недель не знал, для чего его вызвали, бездействовал и жалел о брошенных во Флоренции работах.
Но Сан Галло не дремал. Вскоре Микельанджело был приглашен в Ватикан, и папа начал обсуждать с ним идею собственного своего надгробия. Совещания эти едва ли были очень спокойны. И папа, и художник, похожие в этом отношении друг на друга, не отличались большим терпением и умели крепко отстаивать свое мнение. У папы это коренилось в высоком представлении о своем сане, у художника – в высоком представлении о своем искусстве и в нежелании поступаться своими взглядами. Папа хорошо знал целый ряд превосходно сделанных гробниц обычного типа, прислоненных к стене или помещенных в большие стенные ниши, идею которых завещала Ренессансу готика. Микельанджело сразу предложил совсем новый тип: открытое со всех четырех сторон, свободно стоящее надгробие, богато украшенное наставленное статуями, нечто неизмеримо более свободное и грандиозное, а главное, более новое, чем болонская гробница св. Доминика, для которой он, совсем зеленым юношей, дал три фигуры. И мы знаем, где черпала вдохновение фантазия Микельанджело: в античных памятниках и прежде всего в Замке св. Ангела, но не того, который стоял в его время на берегу Тибра, весь обросший застройками, как архитектурным мохом, а того, который дивил древний Рим своими чистыми линиями, своими, пышными колоннами и целым лесом статуй, расставленных под пилястрами его стен, в нишах и на высокой круглой верхней платформе.
У нас имеются два рисунка, дающие некоторое представление о памятнике, и два описания его – Кондиви и Вазари, расходящиеся лишь в частностях. Вот как описывает памятник Вазари: «Чтобы гробница выглядела грандиознее, он хотел поставить ее обособленно, так, чтобы можно было видеть ее со всех четырех сторон, которые с одного края имели по двенадцать локтей в длину, с другого – по восемнадцать, сохраняя пропорцию в полтора квадрата. Извне вокруг нее шел ряд ниш, по бокам которых были, помещены гермы, одетые от пояса кверху: каждая из этих фигура головой поддерживала первый карниз и в то же время связывала пленника, стоящего на выступе постамента в позе необычайной и причудливой. В «Пленниках» изображены Провинции, покоренные этим папою и подчинившиеся апостольской церкви; в других статуях, также скованных, изображены Добродетели и свободные Искусства, своим видом являвшие, что не менее подвластны они смерти, чем глава церкви, окруживший их почетом. По углам первого карниза помещались четыре большие фигуры: Жизнь деятельная и Жизнь созерцательная, св. Павел и Моисей. Над карнизом сооружение поднималось ступенями, постепенно уменьшаясь, украшенное фризом с бронзовыми изображениями, а также фигурами, путтами и орнаментами, и завершалось поддерживающими гроб статуями Неба и Кибелы, богини земли; первое улыбалось тому, что душа папы достигла славы небесной, вторая плакала, ибо земля осиротела добродетелью вследствие его смерти. С обеих сторон архитектурного сооружения предполагалось сделать двери для входа и выхода».
Кондиви говорит, что всего на надгробии должно было быть больше сорока статуй, не считая бронзовых рельефов, изображающих деяния папы; связанные фигуры должны были представлять свободные искусства, которые со смертью папы стали пленниками смерти. Наверху памятника должна была помещаться гробница, поддерживаемая двумя ангелами.
Папа пришел в полный восторг от проекта и немедленно послал Микельанджело в Каррару, чтобы он привез оттуда необходимое количество мрамора. Художник жил в горах восемь месяцев в обществе двух слуг, питаясь одним только хлебом, и, когда мрамора было наготовлено достаточно, вернулся в Рим, задержавшись на короткое время во Флоренции.
Эти восемь месяцев, проведенные в Карраре, невдалеке от моря, в горах, сложенных из благороднейшего, мягкого, покорного резцу белоснежного мрамора, были временем, когда у Микельанджело непрерывной чередою зрели в воображении творческие замыслы. Именно тут, при всем своем недоверии к судьбе, он начинал надеяться, что его артистический путь может наладиться по-настоящему. Природа опьяняла его своей грандиозностью. Близкое море, то грозное, то чарующее своим спокойствием, горы, уступами спускающиеся к морю и образующие тут и там одинокие вершины, дикий хаос мраморных ломок среди них. И он, почти одинокий в этом первозданном мире. Один со своими думами и со своими творческими мечтами.
То, что накоплялось в его воображении с юношеских лет и не успело еще получить осуществления, что устремлялось во след поэтических фантазий Полициано, гуманистических идей Лоренцо, идеалистических экстазов Марсилио, то, что было откликом на изучение Данте и на чтение Петрарки, что загоралось под впечатлением пророческого пафоса Савонаролы, воскрешавшего перед ним библейские видения, – все начинало облекаться в какие-то еще смутные пластические формы именно здесь, где он был один, лицом к лицу с матерью-природой.
В грозных валах потемневшего в диком шторме моря, в тиши горных ущелий, в звездном небе, в неясных ночных звуках видел и слышал он и великого Демиурга – созидательную силу, заряженную любовью к человечеству, – несущего ему царство гармонии, как учили древние, и того бога, справедливого, но сурового и беспощадного, о котором, потрясая ветхозаветными скрижалями, неустанно напоминал Савонарола. Эти думы не просто начинали облекаться в плоть и кровь, проситься под кисть или под резец, – они, доводили его до безудержных порывов творческого экстаза, когда ему казалось, что нет в мире такой задачи, которая была бы ему не по силам. В один из таких припадков опьяняющего артистического подъема он увидел высокую гору, сложенную целиком из мрамора, и его вдруг обуяла фантазия – высечь из цельной горы Колосса, гигантскую фигуру, которая была бы видна издалека, с моря и с суши, и возглашала славу своему ваятелю перед лицом всего человечества во веки веков. Его учитель Доменико Гирландайо, в таком же экстазе, порожденном избытком артистической энергии и переполнившем его уверенностью в своих силах, предлагал своим согражданам покрыть фресками все стены Флоренции. Только у артистов Ренессанса не кружилась голова, когда их обуревали такие мечты.
Микельанджело вернулся из каррарского отшельничества, успев перебрать в своем неистощимом воображении и гуманистические идеалы, и двойной мир мифологии языческой – больше всего в платоновском истолковании – и христианской, в интерпретации Данте и Савонаролы. И едва ли он сумел бы сказать, что эти два мира строго разграничиваются в его артистическом восприятии. Во всяком случае, оба они должны были найти себе место в том произведении, для которого он восемь месяцев ломал мрамор в Карраре, – в надгробии папы Юлия. На широких платформах его верхнего яруса должны были одновременно воздвигнуться, воплощая его думы и мысли, Уран – бог Неба, Кибела – мать богов, Моисей – герой ветхозаветной мифологии, апостол Павел – проповедник христианства, не вполне оторвавшегося еще от доктрины александрийских философов, рыцарь незагрязненной церковной догматикой евангельской идеи, теснее всего приближавшейся к платоновским концепциям Фичино.








