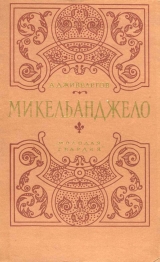
Текст книги "Микельанджело (др.изд.)"
Автор книги: Алексей Дживелегов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
С другой стороны, в Риме, в церкви Сан Пьетро ин Винколи, уже в августе 1533 года были подготовлены для памятника Юлию стена, фундамент и свод. Подручные мастера и тут уже трудились над обрамлением и второстепенными статуями, и сам он с апреля по октябрь того же года ни над чем, кроме фигур этого памятника, не работал. Теперь захватили его именно фигуры, и только они возбуждали в нем творческий экстаз. В октябре все того же года папа повел с Микельанджело разговор о том, чтобы тот взялся написать на алтарной стене Сикстинской капеллы фреску Страшного суда. Микельанджело – что ему было делать? – согласился и очень скоро стал уверять папу, что уже делает эскизы, хотя на самом деле не отрывался от фигур для юлиева памятника.
Все складывалось, словом, так, что во Флоренции дел у него становилось все меньше, в Риме – все больше. Связи в Риме делались прочнее, во Флоренции – рвались последние. Во Флоренции герцог Алессандро относился к нему враждебно, в Риме Климент, по словам Кондиви, «почитал его, как святыню (come cosa santa), и беседовал с ним и о серьезных вещах, и о пустяках, как с очень близким человеком и как с равным себе».
А когда, через два дня после приезда Микельанджело в Рим, папа Климент умер, Микельанджело окончательно решил, что он во Флоренцию больше не вернется. Он великолепно помнил, что папа, «почитавший его, как святыню», подозрительно долго не хотел вспомнить в 1530 году, что среди голов, которые, по его приказанию, рубил тогда во Флоренции Баччо Валори, могла оказаться и голова этой «святыни» и что спасла Микельанджело лишь тщеславная мечта мстительного старика оставить память о себе, изваянную руками гениальнейшего художника его времени. Правда, Климент всячески старался вытравить из памяти Микельанджело роковые дни белого террора во Флоренции и сурово смирял Алессандро каждый раз, когда тот покушался причинить художнику неприятность. Но теперь, когда Климента не стало, когда только случайность избавила Микельанджело от перспективы оказаться беззащитным и без ореола «святыни» в руках буйного тирана, – ехать во Флоренцию значило бы без нужды испытывать судьбу.
Но не это еще было самым главным. Микельанджело в 1530 году остался во Флоренции работать в капелле Медичи поневоле: это был его выкуп. За то, что папа дал ему амнистию за его революционную деятельность, он должен был увековечить память его родичей. Как художник он был увлечен работой, но как гражданин работал, стиснув зубы. Он, Микельанджело, боец республики, защитник ее независимости, растоптанной медичейским папой на потребу медичейских отпрысков, должен был славить своим гениальным резцом медичейских покойников, законных и незаконных! Он мог делать это только под занесенным над его головой топором палача.
Теперь, когда Климента не было, все обязательства Микельанджело кончились. Во Флоренцию, поруганную, изнывающую в рабстве под медичейской пятой, он, создавший несокрушимый пояс ее укреплений, ее оплот против Медичи, больше не вернется. Никогда. Никто не сохранил нам сведений об этой аннибаловой клятве великого художника и гражданина. Но если бы она не была произнесена, неужели Микельанджело не потянуло бы, хоть после смерти Алессандро (1537), съездить во Флоренцию и дать последнюю шлифовку фигурам капеллы? И неужели устоял бы он против льстивых, почтительных просьб преемника Алессандро, герцога Козимо, умолявшего его вернуться в родной город? Но Микельанджело хотел свободной Флоренции, никакой другой.
Вот почему Рим сделался его родиной на весь остаток его жизни. 23 сентября 1534 года он приехал туда с новым слугою Франческо, по прозванию Урбино.
Он едва ли знал, что за полгода перед этим уехал из Рима во Францию после первого путешествия в Италию и двухмесячного пребывания в Вечном городе человек, по гению столь ему родственный и в то же время столь на него не похожий Франсуа Раблэ, величайший из представителей французского Ренессанса. Близость обоих гигантов великолепно сказывалась в том, что тот и другой в своих творениях то и дело прибегали к своего рода «крупному плану». Ибо титанизм Микельанджело и титанизм Раблэ в основном были стремлением к крупному плану и вызывались сознанием необходимости его в борьбе с отжившими идеалами и с мусором, засорявшим гуманистическую культуру схоластикой, фанатизмом, невежеством, мелочами, эгоизмом, шкурничеством. Титанические порывы были выражены с одинаковой силой в образах пророков и сивилл у Микельанджело и в романе о великанах Раблэ. Различие между ними заключалось в том, что титанизм Микельанджело был патетический, героический, а титанизм Раблэ, наоборот, гротескный, что орудием у одного была terribilità, а у другого – богатырский, оглушительный смех. Метод был единый, и был методом борьбы Ренессанса за гуманистическую культуру. Его подхватят потом Марло в Англии и Сервантес в Испании. И ни у кого из них он не будет затемнять яркого реализма в творчестве.
Когда Микельанджело окончательно поселился в Риме, ему было уже пятьдесят девять лет.
А во Флоренции осталась капелла Медичи, и в ней осиротелые – мадонна, герцоги, «День» и «Ночь», «Утро» и «Вечер».
Капелла Медичи
Никто толком не знал, что представляют собой фигуры капеллы. Климент их не видел, потому что после реставрации во Флоренции не был. Герцога Алессандро Микельанджело в капеллу не пускал. Только один раз побывал он в ней – художник был тогда в Риме, – когда Флоренцию посетил вице-король неаполитанский, просивший показать ему капеллу. Они влезли тогда через окно, тайком, как мальчишки лезут в чужой сад воровать яблоки, забыв об испанском чопорном этикете и приличествующем их важным особам достоинстве.
Когда Микельанджело вышел из капеллы в последний раз и запер ее, она представляла зрелище довольно хаотическое. Все было более или менее готово: стены, ниши, внутреннее архитектурное убранство. Но статуи не были поставлены по местам, алтарь не был устроен. Лишь в 1545 году все стало на место, был убран строительный мусор, все вымыто и вычищено.
Теперь капелла одно из величайших святилищ искусства. Она невелика, и первое впечатление входящего в нее – удивительная игра света на мраморе ее пилястров, капителей, ниш, карнизов, дверных консолей, фриза. Мрамор темно-серый, – от яркого освещения он воспринимается как черный и белый. Белое и черное. Свет. Три стены с фигурами и алтарь. Фигур всего девять, две чужие, семь Микельанджело. Из них четыре – два герцога, «Ночь» и «Утро» – закончены. Мадонна, «День» и «Вечер» – не вполне.
Раз попав в капеллу, из нее трудно уйти, и, уйдя, хочется возвращаться еще и еще. Так притягивает магия микельанджелова мастерства.
Капелла Медичи – единственное произведение Микельанджело, созданное им целиком: здание и украшение, архитектура и скульптура. В нем он мог рассчитать эффект, еще только приступая к работе, ибо пространство, свет, стены – все могло быть дано в той художественной гармонии, которая представляется воображению мастера с самого начала и которой он редко может добиться, если не сам делает все. Ни надгробие Юлия, даже по первоначальному проекту – оно должно было стоять в имеющемся уже храме, – ни фасад Сан Лоренцо этой возможности Микельанджело не предоставляли. Капелла Медичи потому и действует так мощно, что в ней все принадлежит ему. Он рассчитал и пространство, и свет, и все пропорции. И нигде он не творил так свободно, нигде не осмеливался шагать так решительно через все общепринятые эстетические каноны.
Оба саркофага поставлены впереди стены, а статуи сидят в тесных нишах. Декоративные фигуры расположены у ног статуй, и головы их перерезывают линии карнизов. Саркофаги коротки, и ноги всех четырех фигур свисают далеко через концы, не поддерживаемые никакими волютами. Контрапосты во всех семи фигурах, можно сказать, свирепствуют, не стесненные ничем. Чего стоит одна мадонна! Она сидит, заложив ногу на ногу. Торс наклонен вперед, плечи на разном уровне, правая рука отведена назад – в этом, кажется, сказалась нехватка мрамора, – голова повернута в сторону. Младенец ведет себя чрезвычайно беспокойно. Он сидит верхом на перекинутой ноге матери, причем левое его колено выше правого. Тельце его обращено вперед, но он резким движением обратился назад и ухватил обеими руками материнскую грудь. И все-таки статуя производит спокойное впечатление, как и остальные, ибо контрапосты уравновешены какой-то высшей гармонией.
Все статуи больше натуральной величины. У двух, у Лоренцо и у «Ночи», лица погружены в темноту. У «Ночи», кроме того, упрятана почти до полной невидимости одна рука. У «Дня» едва намечено лицо, и мы не знаем, умышленно это или нет. У «Вечера» лицо не отшлифовано. И все это воспринимается, благодаря чарам микельанджелова искусства, как моменты, усиливающие впечатление реальности фигур. Они все прекрасны. Мы не можем проникнуть в тайну значения каждой из них, но через все непонятности, которых немало, – ларчик под левой рукою Лоренцо, цветы в ногах у «Ночи», маска под ее рукою, сова, забравшаяся к ней под колено, – через темную символику, великая реальность изображенного действует с силою подавляющей.
Сначала о символике. Кондиви, который мог слышать собственные объяснения художника, – его толкование, кстати сказать, совпадает в главном с сохранившимся наброском самого Микельанджело, листком из Casa Buonarroti, озаглавленным дважды «Небо и земля» и относимым с некоторой вероятностью к 1523 году, – говорит: «Эти четыре статуи поставлены. в сакристии, нарочно для них построенной и находящейся в левой стороне церкви, прогни старой сакристии. Несмотря на то, что они имеют одинаковую величину и служат как бы одной идее, они все разные и различны по движениям и позам. Гробницы поставлены перед боковыми стенами капеллы; на крышках их положены по две фигуры выше человеческого роста, изображающие мужчину и женщину. Одна из них олицетворяет День, другая – Ночь, а все вместе – Время. Для большей ясности Микельанджело прибавил к фигуре, изображающей Ночь и представленной в виде женщины необычайной красоты, сову и другие эмблемы ночи, а к фигуре, олицетворяющей День, он присоединил эмблемы дня. Микельанджело имел намерение (оно осталось невыполненным, потому что его оторвали от дела) для изображения Ночи вырубить из мрамора мышь и для этой цели оставил на одной из гробниц небольшое мраморное возвышение. Он находил, что мышь так же все грызет и портит, как всеразрушающее время».
Что идея неустойчивости всего земного господствует в капелле, по-видимому, нужно считать бесспорным. Здесь, как и в Сикстинской капелле, образы служат для выражения скрытой тенденции, которая, будь она явной, могла сильно поссорить художника с заказчиком. Но этой тенденцией, опять, как и в Систине, художник дорожил превыше всего, и, чтобы выразить ее скрытно, он должен был прибегнуть к символике. Она была та же, что и проводившаяся в образах пророков, сивилл и христовых предков Ватикана, только в ином применении. Бедствия Италии, с точки зрения Микельанджело, ни при Льве, ни тем более при Клименте не уменьшились и не смягчились, но теперь, особенно с точки зрения флорентийского патриота, обозначились четко виновники этих бедствий – Медичи. А заказ был таков, что художник должен был возвеличить представителей дома Медичи. Следовательно, нужно было под видом возвеличения Медичи еще раз оплакать беды Италии и сделать при этом понятной вину Медичи.
Вот они сидят в своих нишах, два последних законных отпрыска семьи флорентийских тиранов. 30Микельанджело меньше всего думал о портретном сходстве, когда лепил их статуи. Оба Медичи были очень некрасивы: лица заросли бородами, черты лица неправильные, лишенные отсвета благородства – украшения всякой незаурядной натуры. Микельанджело решил просто считать действительную их внешность как бы несуществующей и дал каждому из них такую, какая должна была бы быть, если бы человек был тем, чей образ он лепил. Джулиано в жизни никому не сделал зла и пользовался всеобщим расположением за свой приветливый характер. Но по способностям он был человеком заурядным. Лоренцо отличался от него тем, что не был ни добр, ни приветлив. Оба считались полководцами, поэтому Микельанджело украсил их полководческими атрибутами. Нет нужды, что боевые подвиги Джулиано были исчерпаны тем, что в 1515 году он стоял во главе папской армии, следившей за передвижениями французов, а когда это ему надоело, уехал во Флоренцию. Лоренцо повоевал несколько больше: во главе той же папской армии он пошел оккупировать Урбино, отнятый для него у герцога любвеобильным дядей Львом X. Так как ему предшествовали папские перуны, а у герцога Урбинского армии не было, то грабительский поход кончился победоносно. В жизни Лоренцо никогда ни о чем не думал: за него думали другие. А у Микельанджело он представлен глубоко задумавшимся, il Pensieroso, в позе пророка Иеремии, но с молодым, красивым, энергичным лицом, в боевом шлеме. И Джулиано сидит в боевых доспехах, с полководческим жезлом в удивительно сделанных руках, юный и тоже красивый; у него находят, правда, фальшивым взгляд. Его поза повторяет позу Моисея. Бороды, висячие носы, уродливые медичейские рты – все это исчезло. Одна фигура олицетворяет мысль, другая – волю и энергию, то, чем были так богаты Козимо и Лоренцо, истинные кузнецы медичейского величия, и чего так недоставало медичейским последышам. Но им повезло. Памятники им сделал Микельанджело, а Макиавелли хотел посвятить Джулиано и после его смерти посвятил Лоренцо своего «Князя». Он связывал с Лоренцо мечты об объединенной Италии.
У ног Лоренцо две статуи: «Вечер» – усталый, с ослабевшими мышцами мужчина бессильно опирается на локоть и смотрит в пространство равнодушным взглядом, и «Утро» – молодая, прекрасная женщина с чудесными упругими формами пробуждается, словно нехотя, для безрадостного, не сулящего ничего хорошего дня; она потягивается, и из полуоткрытого рта вылетает какая-то жалоба. Перед Джулиано тоже две статуи: «День» – мужчина, лица которого не видно; тело его мускулистое и сильное; он лежит спиной к зрителю, беспокойно, и трудно понять, собирается он перевернуться на другой бок, или встать, или улечься получше; правая нога его во что-то упирается, левая поднята и закинута на правую, левая рука за спиною; все вместе – целый вихрь контрапостов, создающих любимое положение Микельанджело: фигура в момент подготовки к неопределившемуся вполне резкому движению. Вторая фигура – «Ночь». Это немолодая женщина, погруженная в глубокий, тяжелый сон; голова ее увенчана луной и звездой и поражает своей красотой. Женщина лежит в чрезвычайно неудобной позе: левая нога упирается в связку каких-то цветов, правая рука поддерживает низко склоненную голову; левая рука невидна: она закинута за маску, к которой женщина прислонилась спиной; под коленом женщины сидит сова.
Надгробия, подобные двум микельанджеловым, обычно было принято украшать аллегорическими фигурами добродетелей. Микельанджело отступил от этого обычая. Формальный смысл его фигур остался бы неразгаданным, если бы в архиве Casa Buonarroti не нашлась упоминавшаяся уже запись 1523 года, в которой при всей ее туманности первая фраза вполне ясна. Она гласит: «День и Ночь говорят и вещают: нашим быстрым течением мы привели к смерти герцога Джулиано». 31Следовательно, обе фигуры перед статуей Джулиано и изображали День и Ночь, причем Ночью, как показывают атрибуты, могла быть только женщина. А раз аллегориями служат времена дня, то две фигуры перед статуей Лоренцо могли быть только Утром и Вечером, причем распределение ролей тоже не представляло никаких затруднений. 32
Мастерство Микельанджело как скульптора в фигурах капеллы Медичи достигает вершины. После того как были созданы «Моисей» и парижские «Пленники», гений Микельанджело в последний раз вспыхнул с потрясающей силой, и плодом этой вспышки стали семь статуй Медичейской капеллы. Микельанджело словно хотел показать, до какого совершенства может дойти мастерство линии в пластике и какие эффекты способно дать искусство контрапоста. Он это показал вполне. Но грань была достигнута. В капелле Медичи контрапост как художественный прием исчерпал себя до конца. Его дальнейшее усиление и даже просто его не столь мастерское применение должно было стать признаком упадка.
Однако, как ни прекрасны фигуры капеллы, их значение выходит далеко за рамки чистого искусства. Любуясь ими, насыщая глаз, упиваясь зрелищем триумфа пластики, мы ищем ответа на другой вопрос. Что хотел сказать своими фигурами Микельанджело? И тогда, пристальнее всматриваясь, вспоминая образы Сикстинского плафона, представляя себе обстановку, в какой были зачаты и начали переходить в мрамор эти образы, мы находим им объяснение. Оно заключается в том, что здесь Микельанджело тоже – не только художник, но и гражданин, да к тому же гражданин, побежденный в бою за самое дорогое, что у него было, не остывший от боевого распала, в буквальном смысле пахнущий еще порохом.
Есть хоть одна бодрая нота во всей этой мраморной симфонии? Никакой. Тут усталость, обессиленность, безнадежность, разочарованность, болезненное беспокойство, сон – подобие смерти, – словом, все, что мы видели в Систине, но выраженное не кистью, а резцом, и еще более обостренное. Художник, покидая родину навсегда, оставил ей на память о себе эту поэму пессимизма, в которой славословие. Медичи превращается либо в горькую насмешку над ними, либо в прямое им проклятие. Вместо портретных статуй – вымышленные фигуры, олицетворяющие какой-то собственный замысел художника, а аллегории, их окружающие, вместо того чтобы говорит!, об их добродетелях, говорят о горе, позоре и разорении, виновником которых был род Медичи, а жертвою – Италия, и в особенности Флоренция.
Кто был виноват в разгроме Прато в 1512 году? Медичи. Кто затеял преступное завоевание Урбино? Медичи. Кто начал несчастную войну Коньякской лиги? Медичи. Кто был виною разгрома Рима в 1527 году? Медичи. Кто осаждал Флоренцию и сокрушал ее республику в 1530 году? Медичи. Кто разнуздал белый террор после капитуляции города? Медичи. А самый ничтожный из этих фактов нес гибель, разорение, позор и бездну несчастья тысячам людей. Обо всем этом Микельанджело хотел бы кричать на весь мир. Если бы была его воля, он бы построил не капеллу во славу Медичи, а позорный столб и нагромоздил бы у его подножия такие аллегории, чтобы слепому стали очевидны преступления флорентийских тиранов.
В капелле Медичи он мог говорить только эзоповым языком, но и он оказался настолько красноречивым, что поняли все, хотя большинство, и в том числе сами Медичи, сделали вид, что ничего не понимают. Ведь покажи они малейшую долю возмущения, и нужно бы немедленно разрушить и статуи так называемых Джулиано и Лоренцо и все каменные аллегории, лежащие у ног их таким убедительным, так гениально задуманным и сделанным укором.
Что это действительно так, подтверждается прямым заявлением самого художника. Из всех фигур капеллы больше всего восхвалялась, как известно, «Ночь», и Вазари объясняет мотивы всеобщих восторгов: «Что могу я сказать о «Ночи», статуе не то что редкой, а единственной? Кто видал в каком бы то ни было веке скульптурные произведения, древние или современные, сделанные с таким искусством? Чувствуется не только покой спящего, но также скорбь и печаль человека, теряющего нечто чтимое им и великое. И думается также, что эта «Ночь» затемняет всех, кто в какую бы то ни было эпоху статуей или картиной пытался, не говорю превзойти, а хотя бы сравняться с ней. Сон передан так, точно перед нами в действительности уснувший человек».
Восторги изливались чаще всего в стихах. Один из таких мадригалов, автором которого был поэт Джованбаттиста Строцци, известен. Он гласит:
Ночь, что так сладко пред тобою спит,
То – ангелом одушевленный камень:
Он недвижим, но в нем есть жизни пламень,
Лишь разбуди – и он заговорит.
Мы знаем, что Микельанджело давно уже был в Риме, когда капелла была открыта для публики. Познакомившись с этим четверостишием, он написал сейчас же в ответ свое, от имени «Ночи»:
Отрадно спать, отрадней камнем быть.
О, в этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать – удел завидный.
Прошу, молчи, не смей меня будить. 33
Средние две строки буквально гласят: «Пока царят разорение и позор, не видеть и не слышать – для меня великое счастье». Разорение и позор, то, от чего страдала Италия, то, от чего погибла старая славная Флоренция и к чему в числе других приложили руку разные Медичи, законные и незаконные, – вот об этом именно и хотел кричать великий артист, и не от имени своей «Ночи», а от своего собственного.
И это было его последним «прости» родине, в которой ему стало нестерпимо мучительно жить.








