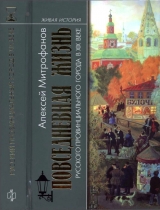
Текст книги "Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке. Пореформенный период"
Автор книги: Алексей Митрофанов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Самым же необычным из судов, когда-либо курсировавших вблизи города Саратова, был пароход под названием «Святитель Николай Чудотворец». Дело в том, что на Волге было немало рыбачьих поселков, находящихся в отдалении от городов и крупных сел. Естественно, что жители этих миниатюрных населенных пунктов испытывали трудности не только с медицинской помощью и всяческими промтоварами, но и с отправлением религиозных обрядов.
Некий астраханский мещанин H. Е. Янков в 1907 году подал архиепископу Георгию проект устройства плавающей церкви. Энтузиаст писал: «Эта церковь в течение одной навигации может проплыть все берега низовья Волги с притоками, посетив все острова Каспийского моря, останавливаясь во всех местах, заселенных иногородцами… для совершения богослужения». Отец Георгий проект одобрил. Кирилло-Мефодиевская община приобрела с аукциона пароход «Пират», переименовала его в «Святителя Николая Чудотворца» и соответствующим образом переоборудовала. Это была настоящая плавучая церковь – со звонницей над штурвальной рубкой, алтарем вместо матросского кубрика, кельями иеромонахов вместо кают и большим пятикупольным храмом в носовой части судна.
Светскими были там лишь капитан и механик. Весь остальной экипаж состоял из монахов. Когда «Святитель Николай Чудотворец» проплывал по реке, то все в окрестностях слышали звон его колоколов. А причаливая у какой-нибудь очередной рыбацкой деревушки, пароход десантировал туда монахов, проводивших водосвятия, молебны и прочие религиозные ритуалы. В 1911 году «Астраханские епархиальные ведомости» сообщали: «И какая была радость, когда этот храм прошлой Пасхой прибыл на рейд и совершал пасхальные службы. О тех восторгах, о религиозном подъеме, какой испытывали приморские жители, слыша на морских волнах благостный призыв к молитве и видя приближающийся к ним дорогой сердцу русского человека дом Божий».
С еще большей тщательностью был спланирован колесный пароход, предназначенный для путешествия по дельте Волги высокопоставленных чиновников: «Корпус будет построен из лучшей мартеновской стали… Помещения распределяются следующим образом, начиная с носу: в носовом помещении кабельгат и цепной ящик, потом каюта для помощника командира и машиниста. Позади этой каюты салон с двумя диванами. Сзади салона, на правой стороне, каюта чиновника, на левой стороне – уборная, клозет и буфет. По середине корпуса машинное и котельное отделение. Позади его, на правой стороне, каюта командира, на левой стороне – для машиниста, потом помещение для 9 человек матросов, кочегаров и стражников. В самой корме – помещение для инвентаря. Каюта чиновника и салон будут отделаны клеенкой и полированными штабчиками из ясеня или другого твердого дерева. На полу настлан линолеум. Диван из трини или из другого подходящего материала. Все каюты администрации имеют нужную мебель и инвентарь. Остальные каюты под окраску».
Самым же популярным оставался обычный пассажирский флот. Пароходов было много, и «перевозчики» всеми доступными им способами боролись за клиента. Подчас победа достигалась самыми элементарными приемами. Были в Ростове, например, два жестоко конкурировавших судовых владельца – Кошкин и Парамонов. Суда у них примерно одинаковые, цены – тоже. Но в какой-то момент Парамонов придумал выдавать пассажирам бесплатно стаканчик горячего чая и бутерброд с очень даже дешевой по тем временам лососевой икрой. «Коммерческий люд» свой выбор сделал, и Кошкин разорился.
В том же Ростове-на-Дону, кстати, однажды на потеху публики было опробован новый вид «транспорта» – водные лыжи. И в газете «Приазовский край» за 1897 год появилась весьма занятная заметка: «В прошлое воскресенье… некто Бессонов производил на Темернике, недалеко от моста, опыты с изобретенными им водяными лыжами. Последние своей конструкцией походят на обыкновенные лыжи, служащие для движения по снегу, но большей ширины, и прикрепляются к ногам посредством ремней. При тихой погоде на них, по уверению изобретателя, можно пробежать в час до 6 верст». Впрочем, как сообщает далее газета, «пробное испытание лыж не увенчалось успехом, и Бессонов чуть было не захлебнулся в грязных водах Темерника». Однако подвиг испытателя от этого никоим образом не стал менее значительным.
В разных регионах, разумеется, была своя специфика. Архангельская акватория, к примеру, «славилась» отсутствием нормальных световых ориентиров. Неудивительно – край северный, малозаселенный. Один из современников писал в 1911 году: «Главное затруднение в более правильном совершении пароходных рейсов – неосвещение входными маяками и створами пунктов, которые посещаются пароходами, несвоевременная постановка вех и бакенов, а также наблюдение за ними. Архангельский порт, к которому приход иностранных судов увеличился уже до 500, в осеннее темное время бывает закрыт для входа вследствие неосвещения. Все суда, идущие в Архангельск, должны останавливаться на баре реки Двины и ожидать рассвета, а также и почтово-пассажирские пароходы.
Для более правильного сообщения по Белому морю необходимо осветить все пункты, которые посещают почтово-пассажирские пароходы, и тем дать возможность беспрепятственного входа и выхода во всякое время дня и ночи…
По западному берегу Онежского залива царит полный мрак, пароходы совершенно лишены возможности выполнять их срочное расписание, в Кандалакшском заливе то же самое, в глубине Мезенского залива также нет никакого освещения.
Чтобы дать возможность развиваться торговле по Белому морю и более правильному почтово-пассажирскому сообщению, необходимо немедля осветить недорого стоящими автоматическими маячками те пункты, к которым подходят пароходы; в некоторых местах достаточно только одних освещенных створов».
Там, на Северной Двине, совершались настоящие подвиги. Борис Шергин писал: «Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвести в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: «Федосья Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море заместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно…» – сказал да и удрал с корабля.
Всю ночь я не спал, – рассказывает Люлин. – Сижу в «Золотом якоре» да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка: время штормовое. Утром вылез из гостиницы – и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу – пусто! Ушли корабли! Увела! Через двое суток телеграмма: «Поставила суда в Порт-Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья»».
В Сочи, на заре создания курорта, были свои сложности: «Пароход подходит к Сочи. Вся публика на палубе. Многие волнуются, ожидая посадки на фелюги и высадки на берег. Беспокоятся за свой багаж, который надо погрузить в фелюгу, и не знают – как это можно сделать, так как самим не под силу, а носильщиков нет. Вообще поводов к беспокойству всегда находится много…
С парохода сбросили якорь. Подплывают фелюги. В первой – агент пароходного общества и чины таможенного ведомства. Они первые пристают к борту парохода и поднимаются по трапу. Фелюга отходит в сторону. За ней идет другая, третья… переполненные публикой и ручным багажом.
На палубе начинается сутолока. Прибывающая публика спешит занять на пароходе места, отыскивает свой багаж, который турки-гребцы поднимают на палубу, спешат где-нибудь сложить и получить «на чай». Багаж перепутан, турки кричат, публика нервничает.
Приехавшая на пароходе публика тоже спешит поскорее спуститься по трапу на фелюгу и не знает, как отправить туда свой ручной багаж Носильщиков нет, турок-гребцов только четыре человека, а приехавших масса. Толкотня усиливается. Около трапа столпились пассажиры всех трех классов. Фелюга быстро наполняется и, загруженная чуть не до самого борта, отчаливает. Сидят по бортам, на багаже, просто стоят, так как сесть решительно негде. За ней подходит вторая, третья… И так нагружаются все фелюги, пока не перевезут на пристань всю приехавшую публику».
Впрочем, на пристани путников поджидали новые сюрпризы. Книгоиздатель М. Сабашников писал: «Нас доставили на берег в шлюпках. Высадившихся пассажиров окружили стоявшие на берегу лодочники турки, предлагая отнести багаж их в духан, находившийся тут же поблизости. Но из духана этого неслись пьяные песни и матросская ругань; нам не захотелось искать в нем прибежища. Спрошенный нами полицейский урядник объяснил, что это единственная гостиница в городе, но что нам лучше остановиться у обывателей».
В Кронштадте было сообщение с одним лишь городом – Санкт-Петербургом. Старожилы Д. Засосов и В. Пызин о том вспоминали: «Город был небольшой, все знали друг друга, развернуться было нельзя, поэтому при первой возможности и моряки, и обыватели отправлялись в Петербург. Веселые лица были у пассажиров и совсем другие, мрачные, при возвращении: деньги пропиты и прожиты, на ближайшее время предстоит жизнь в скучном и строгом городе. Кронштадтский пароход с запоздавшими гуляками последним рейсом возвращается в бурную темную осеннюю ночь. Ветер свищет, пассажиров, находящихся на палубе, обдает холодными брызгами, настроение плохое, побаливает голова, пусто в кармане, наконец и Кронштадт с мокрой пристанью. У кого остались деньги, бегут к извозчикам. Такса была единственная, 20 копеек, куда бы ни поехал. Некоторых выводят с парохода под руки: они добавляли в пароходном буфете. Бывали и другие настроения: «Когда приезжаешь в Кронштадт, тебя сразу обдает свежим морским воздухом, бьет волна, кричат чайки, пахнет смолой, встречаются настоящие «соленые» моряки, «марсофлоты», все как-то бодрит человека, и он рад, что покинул суетный Петербург».
Те же авторы писали об особенностях сообщения в межсезонье: «Весной и осенью бывает такое время, когда и пароходы не могут ходить из-за подвижки льда, подводы и извозчики тоже не могут ездить. Тогда почта и «срочные» пассажиры перевозились в Ораниенбаум на так называемых каюках. Каюк – это широкая лодка, достаточно объемистая, на легких полозьях. Отчаянные кронштадтские «пасачи» брались перевозить на каюках почту и спешащих пассажиров, рискуя иногда жизнью.
Человека четыре «пасачей» с пешнями в руках, с веревочными лямками от каюка бегут по льду где он еще держит. Вот встретилась майна, они с ходу спускают каюк в воду, сами бросаются в него и переплывают чистую воду. Иногда валятся в нее по горло, но это их не смущает: в Ораниенбауме они выпьют водки, обсушатся и двинутся обратно».
Разумеется, популярность водного транспорта влияла на само устройство города. Часто неофициальным центром городской жизни становились набережные, особенно в больших торговых городах. Одну из таких набережных восхвалял «Саратовский дневник»: «Торговля Саратова на пристани вообще так значительна, что городской берег Волги, который растянулся на 6 верст, бывает иногда не в состоянии вместить в себя всего количества скопляющихся у Саратова судов. Навигационная пора – это целый лес мачт, между которыми мелькают там и сям дымящиеся пароходные трубы, а на берегу – толпы рабочих, занятых погрузкой и разгрузкой судов».
В свою очередь, «Саратовский листок» в 1898 году описывал пристань таким образом: «Берег Волги. Полдень. Солнце палит немилосердно. В воздухе висит сухой туман, заволакивающий Заволжье почти непроницаемой пеленой. По набережной от езды, точно от движения каких-нибудь полчищ, носятся целые тучи мелкой, едкой пыли. На реке – мертвая гладь. С разгружаемых судов от времени до времени доносится ожесточенная брань, возникающая на почве отношения «труда к капиталу» и наоборот».
Словом, картина впечатляющая. Впечатляющая, но притом не сказать, чтобы слишком уютная. А тут еще и маленький штришок в путеводителе по Волге, написанном братьями Боголюбскими (и, кстати, внуками другого путешественника, А. Радищева): «Наружный вид набережной непривлекателен, берег ее необделан и покрыт ближе к реке сыпучими песками, а выше состоит из глинистого грунта, до того вязкого, что весною и осенью по нем нет проезда».
И вторящий тому путеводителю уже упоминавшийся «Саратовский дневник»: «Набережные во всякое время – это нечто невозможное; незамощенные, заваленные беспорядочно бревнами, досками, полно ям. Спускаясь к какой-либо из пароходных пристаней, рискуешь искалечить себя».
Власти Саратова, конечно, пытались исправить, что могли. Например, в I860 году губернатор обратился ни много ни мало в Министерство внутренних дел с тем, чтобы создать, наконец, в знаменитой поволжской столице достойную пристань. Смета составила 18 700 рублей. Что-то из них было выделено, однако приличных причалов и насыпей так и не вышло.
Проблема осложнялась тем, что берег Волги потихонечку смещался, и создавать что-либо капитальное было, вообще говоря, нерационально. Один из очевидцев в 1913 году писал: «Злобу дня для Саратова составляет постепенное обмеление Волги или, вернее, постепенное отступление ее от города, очутившегося теперь от нее уже в двух верстах. Саратовцы стараются по мере сил и возможности бороться с этим злом; они устраивают плотины, направляют силу воды в сторону саратовского берега, роют каналы с этой же целью, но все эти меры пока еще не приносят существенной пользы, и Волга продолжает себе отступать да отступать по новому, полюбившемуся ей направлению». Для борьбы с этой напастью создавались разные машины и приспособления, например землечерпательная машина инженера Линдена Бетси (более в свое время известная как «землесос Бетси»). Но, несмотря на тысячи кубометров грунта, вынутых со дна реки, все это были только полумеры.
Тем не менее для жителей города пристань была чем-то радостным, светлым, счастливым. Пароходы навевали мысли о романтике далеких странствий. Сама же Волга в жаркие летние полдни давала столь желанную прохладу и успокоение. Понятно, что пристань и набережная, несмотря ни на что, были одним из излюбленных мест досуга саратовцев. Здесь даже проходили ярмарки. Не на причале – прямо на судах. Литератор В. Золотарев писал об одном из таких предприятий: «Спустившись к Волге, мы подошли к трем баржам, на которых размещалась вся ярмарка. Сначала по мосткам взошли на одну из баржей с щепным товаром – ложками, мисками, салазками, скалками, рубелями, различными игрушками, сделанными из дерева. Мне понравилась игрушка – кузнецы: на двух жердочках помещались два кузнеца с молотами в руках, которые бьют по наковальне в середине, когда ту или другую жердочки тянешь в разные стороны… Бабушка купила мне эту игрушку, а для дома купила несколько деревянных ложек и рубель для катания белья. На другой барже были гончарные изделия, и здесь бабушка купила мне глиняного петушка-свистульку. Обратно мы пошли пешком и долго шли до Верхнего базара; я рассматривал большие дома и все время свистел в своего петушка».
Зимой здесь катались на салазках и тройках, устраивали крещенские купели. А в 1876 году в «Саратовском справочном листке» появилась такая заметка: «Сообщаем известие, которое, вероятно, заинтересует многих из жителей Саратова. В городе предполагается устроить яхт-клуб. Почин по этому делу принадлежит Сергею Васильевичу Алфимову, стараниями которого сделаны все подготовительные работы, т. е. составлен проект устава… Клуб учреждает гонки судов, устраивает беседы по предметам, относящимся к плаванию на судах, выписывает суда или модели». Яхт-клуб и вправду открылся, его председателем стал тот самый Алфимов, а вошло в новую организацию около 150 человек. Яхты и в XIX веке были весьма дорогим увлечением, и только лишь годовой взнос составлял три сотни рублей.
Впрочем, удовольствие от нового общества могли получать не одни богачи – при яхт-клубе действовали гимнастическое общество, каток, а состязания яхтсменов собирали на берегу Волги несметное число зевак.
Но главным развлечением городской пристани был так называемый «вокзал Барыкина». Журналист Иван Горизонтов так описывал это увеселительное место: «При входе тебя встретит полицейский наряд, состоящий из двух околоточных надзирателей и двоих-троих нижних чинов, скрывающихся во мраке нижних галерей: усиленный состав полиции держится на всякий случай, ибо, хотя и редко, а скандалы… бывают… Сначала пойдем с тобой направо на наружную галерею, на которой устроен «ради сырости» небольшой фонтан с водоемом, а в этом последнем плавают полууснувшие рыбы и безобразные черепахи… Вид с галереи открывается на Волгу великолепный… Перед глазами зрителя во всем величии необъятного простора (в особенности весной) и шири разлеглась река, несущая на хребте своем массу судов различных наименований, массу пароходов и бездну лодок… При лунном освещении картина эта еще лучше… пейзаж, утопая в серебристом свете луны, дает глазу чудное зрелище, полное поэтической прелести. Может быть, под влиянием этой картины развернулось чувством не одно сердце; возможно, что под кротким светом луны, отражающимся в таинственной глубине Волги, дрогнула симпатией не одна душа, нашедшая себе подругу в жизни».
Впрочем, не одним лишь видом Волги завлекал купец Барыкин в свое заведение саратовцев: «Кроме фокусников и акробатов, у Барыкина поет хор русских песенников. Поют эти молодцы неважно: раз волжский бурлак с баржи перетащен на эстраду – уж он певец плохой: не та обстановка, не тот коленкор, как говорят купцы. Зато пляшут эти певцы лихо: бьют ногами дробь не хуже солдатского барабана. В самой зрительной зале есть маленькая сцена, а на ней поют хоры девиц, выступают квартеты, куплетисты, выходят различные уродцы и феномены».
Кроме общего зала в вокзале Барыкина были и отдельные «вагончики», в которых уединялись любители дружеских кутежей: «В былое время (а может быть, и теперь) в этих отдельных кабинетах выпивалась масса вина и в заключение лился рекою так называемый монахорум – изобретение католических патеров и сногсшибательный напиток».
Однако наступало утро, и барыкинский «вокзал» пустел. Жизнь же саратовской пристани не прекращалась и ночью, а утром ее ритм лишь усиливался. Подходили и отчаливали пароходы, опустошались и вновь наполнялись их трюмы, уставших рабочих сменяли другие. Словом, не прерываясь ни на миг, происходило то движение, благодаря которому Саратов сделался одним из самых преуспевающих российских городов, можно сказать, столицей Поволжья.
Впрочем, от саратовской пристани не отставала и самарская.
Один из путешественников восхищался: «Что в Самаре хорошо, интересно в художественном отношении – это Волга, а главное – пристань… Какая масса судов, и страшно разнообразных! – и носовые, которые мне нравятся более других, беляны, баржы, барки, дощанки, кладушки, рыбницы, просто лодки, завозки и т. д. – все это крайне живописно, а также люди, какие типы, какие костюмы, какие фигуры! Везде жизнь, движение, суета… Крик, шум, завывание торговок и торговцев, свист пароходов, музыка, песни, весь этот невообразимый хаос поражает».
Впрочем, и тут не все обстояло гладко: «Самара первая на Волге и вообще в России хлебная пристань. Здесь пароходы пристают близ самого города. Вы увидите очень много гостиниц на берегу, но среди них нет ни одной порядочной… Около самой пристани стоит «пароходный вокзал», в котором во время прихода парохода играет музыка. Этот «вокзал» не что иное, как самая грязная харчевня, в которой отвратительно кормят, еще хуже поят и за все берут бессовестно дорого».
Славились особые волжские пикники. Один из декабристов, отбывавший в этих местах ссылку, вспоминал: «В Самаре часто составлялись веселые пикники. Для этого нанимали волжскую лодку с гребцами, брали с собой вкусные яства: пироги, шоколад, чай, кофе, отправлялись на какой-нибудь остров и располагались где-нибудь в живописной местности у пчельника. Пока старшие готовили все для еды, охотники удили рыбу на берегу с удочками, а все остальное общество, состоящее из сонма молодых и, надо прибавить, прелестных девиц и молодых людей, уходило гулять по лесу. В этих лесных прогулках часто встречались большие препятствия в крутых оврагах или в поваленных деревьях, и тут наступало для молодых людей самое приятное наслаждение вести, поддерживать и вообще оказывать различные услуги, даже с риском сломать себе шею, милым спутницам. Прелестные эти спутницы с пылающими от волнения, усталости, опасных переходов лицами были еще прелестнее. Как приятны были эти прогулки!»
Здесь обычным грузчиком пришлось трудиться самому Шаляпину. Знаменитый певец вспоминал: «В Самаре я попросил крючников принять меня работать с ними.
– Что ж, работай.
Грузили муку. В первый же день пятипудовые мешки умаяли меня почти до потери сознания. К вечеру у меня мучительно ныла шея, болела поясница, ломило ноги, точно меня оглоблями избили. Крючники получали по четыре рубля с тысячи пудов, а мне платили двугривенный за день, хотя за день я переносил не меньше шестидесяти – восьмидесяти мешков. На другой день работы я едва ходил, а крючники посмеивались надо мной:
– Привыкай, шарлатан, кости ломать, привыкай!
Хорошо, что хоть издевались они ласково и безобидно».
Спустя годы Шаляпин опять оказался на пристани. Теперь его воспоминания были совсем другими: «Странствуя с концертами, я приехал однажды в Самару, где публика еще на пароходе, еще, так сказать, авансом встретила меня весьма благожелательно и даже с трогательным радушием».
Таскать мешки более не было необходимости. Впрочем, не обошлось и без конфуза. Пробравшийся на торжество корреспондент «Волжского слова» задал, казалось бы, вполне естественный вопрос о гонарарах. На что Шаляпин разразился отповедью:
– Говорят, я много получаю. Да, много! Но кому какое до этого дело? Это чисто русская замашка считать в чужом кармане… Когда меня постигает какая-либо неудача или потеря голоса, я встречаю всюду какое-то злорадство. И не у своих только коллег, что было бы объяснимо, но и среди образованных лиц, ничего общего не имеющих с искусством… И оскорбительно не то, что про меня говорят и клевещут, а то, что такие пустяки и мелочи могут занимать культурные слои общества.
Радость встречающих, естественно, была омрачена подобной речью.
Славилась и пристань города Ростова-на-Дону. Главным делом порта, разумеется, была торговля. Вот одно из описаний конца XIX века: «По набережной… являющейся самым оживленным в навигационное время пунктом города, где от зари до ночи, а нередко и ночью, кишмя кишит многотысячный муравейник грузовых рабочих, тянутся громадные каменные корпуса хлебных амбаров, в которых хранятся миллионы пудов отсылаемого за границу зерна. Тут же находятся обширные склады железа и скобяного товара, каменного угля, лесные биржи, торговля рыбой и пр., проходит товарная ветвь Юго-Восточной железной дороги, представляющая собой то чрезвычайно важное удобство, что дает возможность производить погрузку непосредственно из вагонов в амбары или суда и обратно, и сосредоточены все пароходные пристани пассажирского и грузового движения».
Естественно, шумный и оживленный порт Ростова был одним из самых популярных в городе рабочих мест. Здесь, например, еще неизвестным бродягой трудился на разгрузке и погрузке Максим Пешков – будущий Горький. Уже впоследствии, когда он прославился и, больше того, сделался главным официальным писателем, начали собирать воспоминания таких же бывших оборванцев, некогда работавших бок о бок с основателем соцреализма. Один из них, к примеру, вспоминал: «В порту кого только не перевидишь. Одни уходят, другие приходят. А. Пешкова я запомнил. Он мне в душу запал. Парень он был необычайный, заметный, с большим понятием. Как с работы придет, так и за газету, бумажки какие-то читает».
Другой же описывал общий характер работы: «Грузили пшеницу, ячмень, рожь, да и многое другое. Гавани не было. Подойдет баржа, ты по досчатому мосту и прешь с грузом. А он гнется и трещит, вот-вот в воду свалишься… Работали по двенадцать – четырнадцать часов, а то и просто от солнца и до солнца».
Увы, мемуарист, скорее всего, не преувеличивал. Портовые работы ни приятностью, ни легкостью отнюдь не отличались.
Кстати, именно на пристани Ростова-на-Дону в 1901 году изобретатель Александр Степанович Попов смонтировал первую в нашей стране радиостанцию.
Предшествовало этому любезное письмо, направленное господину А. Попову Комитетом донских гирл (то есть водных рукавов): «Комитет для содержания и исправности донских гирл… при обсуждении проекта углубления судоходного канала гирл, а следовательно, и его углубления обратил внимание на то обстоятельство, что оптическая сигнализация с плавучего маяка, стоящего у выхода из канала в Азовское море на лоцмейстерский пост, находящийся на берегу, на острове Перебойном становится все затруднительнее и ведет иногда к нежелательным ошибкам, а поэтому комитет решил заменить эту сигнализацию более совершенной системой беспроволочного телеграфа, отдав при этом предпочтение системе русского изобретателя, т. е. Вашей».
Попов предложение принял, и вскоре жизнь донских гирловиков стала намного проще.
Неудивительно, что набережная Ростова-на-Дону стала одним из самых романтических мест в городе. Здесь, например, Евгений Шварц сделал весьма своеобразное предложение руки и сердца молодой актрисе Гаянэ Халаджиевой. Корней Чуковский об этом писал: «Однажды, в конце ноября, поздно вечером шли они в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что по первому слову выполнит любое ее желание.
– А если я скажу: прыгни в Дон? – спросила она.
Он немедленно перескочил через парапет и прыгнул с набережной в Дон, как был – в пальто, в шапке, в калошах. Она подняла крик, и его вытащили. Этот прыжок убедил ее – она вышла за него замуж».
А вот известный физиолог Иван Павлов понимал романтику иначе. Его невеста Серафима Крачевская вспоминала о том: «Стояли лунные вечера. Внизу серебристой лентой блестел Дон. Цветущие акации наполняли воздух своим ароматом. Свет луны придавал всему таинственное освещение. Речи же Ивана Петровича, красочные, яркие, возвышенные, уносили меня далеко от земных дел и забот. Он говорил о том, что мы вечно и дружно будем служить высшим интересам человеческого духа, что наши отношения прежде всего и во всем будут правдивы… Наше поколение было увлечено идеей служения народу. Мы считали себя должниками перед ним, и это возбуждало наш энтузиазм».
Рисковать своим здоровьем Павлову не требовалось – было достаточно речей.
* * *
Во второй половине позапрошлого века водный транспорт все больше и больше терял актуальность. Причина простая – развитие железных дорог. На «машине» (как в то время называли паровоз) выходило гораздо быстрее.
Первое время этот транспорт был, конечно, непривычным. Особенно сложно было приспособиться к нему простым мещанам и крестьянам, «не из образованных сословий». Дежурный по вокзалу, например, звонил в свой колокол и громко объявлял:
– Господа, первый звонок к поезду Самара – Москва! Пожалуйте на посадку!
Услышав это приглашение, крестьяне лишь протягивали:
– Вишь, это не нам пока что. Это – господам.
Затем дежурный объявлял:
– Господа, второй звонок к поезду Самара-Москва! Занимайте свои места!
Крестьяне вновь стояли неподвижно.
В конце концов дежурный не выдерживал и обращался к ним совсем не по уставу:
– Черти! Олухи! Поезд отходит! Садитесь быстрее!
– Вот, это уже нам, – смекали землепашцы и на ходу заскакивали на подножку.
Сложности случались самые непредсказуемые. Однажды, например, через Самару в город Томск ехали господа из Бузулука. Им нужно было по делам остановиться в городе всего лишь на день, однако же в самарском железнодорожном управлении им отказали – дескать, в подобном случае билет теряет силу.
– Как же быть? – сокрушались несчастные. – Надо остаться в Самаре, а если билеты пропадут, то на новые у нас не хватит денег.
На что служители дали проезжим вполне дельный совет:
– Вы садитесь в вагон и начинайте слегка так скандалить. Явятся жандармы и удалят вас с поезда. А когда удалят, то по железнодорожным правилам вам всем должны вернуть деньги на проезд от Самары до Томска. Вы обделаете здесь свои дела и спокойно поедете дальше.
Впрочем, иногда «скандалили» и служащие. Как-то раз один из пассажиров отлучился в соседний вагон – там ему показалось прохладнее. К нему подошел кондуктор и потребовал билет.
– Извините, – сказал пассажир, – мой билет у жены, а она в следующем вагоне. Давайте я с вами туда пройду.
Реакция кондуктора была довольно неожиданной.
– Врешь, хулиган! – закричал на пассажира чиновник и со всей силы ударил его. На шум прибежал охранник и, не разобравшись, начал помогать коллеге. В результате жертва прибыла в Самару с окровавленным до безобразия лицом.
Со временем, однако же, традиции «устаканились».
Поэт Афанасий Фет писал в своих воспоминаниях: «В условный день мы съехались с Борисовым в Орле и по Витебской дороге отправились к Брянску с самыми розовыми мечтами, в надежде на моего Гектора. За несколько станций до Брянска поезд что-то надолго остановился, и, не находя места от полдневного зноя, остановился и я в каком-то оцепенении посреди залы 1-го класса. Несмотря на возвышенную температуру всего тела, я почувствовал какое-то необыкновенно мягкое тепло, охватившее средний палец руки. Опустивши глаза книзу, я увидал, что небольшой, желтый, как пшеничная солома, медвежонок, усевшись на задние ноги, смотрит вверх своими сероватыми глазками и с самозабвением сосет мой палец, принимая меня, вероятно, за свою мать. Раздался звонок, и я должен был покинуть моего бедного гостя».
Медвежонок, вышедший из леса и расположившийся на отдых в станционном павильоне, – явление для того времени вполне естественное.
Новому виду транспорта не слишком доверяли. Алексей Константинович Толстой писал губернатору Брянска незадолго до начала там железнодорожного движения, в 1868 году: «Кого же ты посадишь в свой пробный вагон? Если ты еще не решился, то советую тебе посадить со знаменем в мундире твоего чиновника особых поручений Ланского. Пусть он летит в Брянск и обратно и если вернется цел, тогда ты и сам можешь ехать; если же окажется увечье – значит, дорога не годится». Правда, когда дорогу, наконец, открыли, она искренне восхитила обывателей. Василий Немирович-Данченко (брат режиссера, известный в свое время журналист. – А. М.)писал о первом путешествии маршрутом Орел – Брянск: «Я не знаю местности более бедной и менее производительной для рельсового пути, и в то же время я не встречал дороги, роскошнее устроенной: зеркальные вагоны с сидениями, крытыми узорчатым бархатом, с потолками и дверями из цельного палисандра, со всевозможными удобствами, под конец даже несколько надоедающими».








