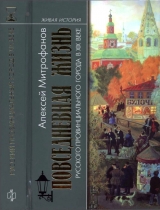
Текст книги "Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке. Пореформенный период"
Автор книги: Алексей Митрофанов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
При этом гимназическое общество как бы не ощущало всех этих различий. Полонский вспоминал: «Что касается до нас, учеников, то между нами не было никакого сословного антагонизма. Дворяне сходились с мещанскими и купеческими детьми, иногда дружились, и так как мальчики низших сословий, в особенности самые бедные, нередко отличались своею памятью и прилежанием, случалось, что беднейшие из них брали на время учебные книжки у дворянских сынков, а дворянские сынки ездили к ним в их домишки готовить уроки или готовиться к экзаменам. Товарищество, вообще, было недурное, хотя жалобу на товарища никто не считал чем-то вопиющим или достойным порицания. Помню, один из учеников зажилил у другого старинные серебряные часы. Как тот ни добивался от него возврата этих часов, ничего не добился и пожаловался инспектору Ляликову. На другой день часы были возвращены».
Словом, в гимназии существовал какой-то идеальный мир, состоящий из граждан демократичных, готовых оказывать друг другу поддержку, и при этом законопослушных. То есть во время конфликта не учиняющих несправедливый самосуд, а обращающихся к силе справедливого закона (к инспектору Ляликову, например). Однако же не все здесь было безмятежно. Тот же Галахов вспоминал: «Это пестрое общество, говоря правду, не могло похвалиться приличным держанием. До прихода учителя в классе стоял стон стоном от шума, возни и драк. Слова, не допускаемые в печати, так и сыпались со всех сторон. Нередко младший класс гуртом бился на кулачки со старшим. Бой происходил на площадке, разделяющей классы, и оканчивался, разумеется, побиением первоклассников. Однажды, я помню, какой-то бойкий школьник второго класса вызвался один поколотить всех учеников первого. Но он потерпел сильное поражение: толпа одолела самохвала, наградив его синяками под глаза».
Учителя и инспекторы старались бороться с подобными шалостями. Хотя так называемые телесные наказания (то есть порка) вскоре после основания гимназии были запрещены, старшее поколение не останавливалось перед подзатыльниками и трепанием за волосы. Но чаще ограничивались более гуманными репрессиями – стоянием, к примеру, на коленях или же лишением обеда.
Сам же характер тогдашнего гимназического образования, что называется, оставлял желать лучшего. Философ В. В. Розанов писал:
«У нас нет совсем мечты своей родины.
У греков она есть. Была у римлян. У евреев есть. У французов – «прекрасная Франция», у англичан – «старая Англия», у немцев – «наш старый Фриц».
Только у прошедшего русскую гимназию и университет – «проклятая Россия».
Как же не удивляться, что всякий русский с 16 лет пристает к партии «ниспровержения государственного строя»…
У нас слово «отечество» узнается одновременно со словом «проклятие»…
Я учился в костромской гимназии, и в 1 – м классе мы учили: «Я человек, хотя и маленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра». Потом – позвонки.
Только доучившись до VI-го класса, я бы узнал, что «был Сусанин», какие-то стихи о котором мы (дома и на улице) распевали еще до поступления в гимназию:
…не видно ни зги!
…вскричали враги.
Но до VI-го класса (т. е. в Костроме) я не доучился. И очень многие гимназисты до VI-го класса не доходят: все они знают, что у человека «32 позвонка», и не знают, как Сусанин спас царскую семью.
Потом Симбирская гимназия (II и III классы) – и я не знал ничего о Симбирске, о Волге (только учили – «3600 верст», да и это в IV классе). Не знал, куда и как протекает прелестная местная речка, любимица горожан – Свияга.
Потом Нижегородская гимназия. Там мне ставили двойки по латыни, и я увлекался Боклем: Бокль был подобен «по гордости и славе» с Вавилоном, а те, свои князья, – скучные мещане «нашего закоулка».
Я до тошноты ненавидел «Минина и Пожарского» – и, собственно, за то, что они не написали ни одной великой книги вроде «Истории цивилизации в Англии».
Потом университет. «У них была реформация, а у нас нечесаный поп Аввакум». Там – римляне, у русских же – Чичиковы.
Как не взять бомбу; как не примкнуть к партии «ниспровержения существующего строя»?
В основе просто: учась в Симбирске – ничего о Свияге, о городе, о родных (тамошних) поэтах – Аксаковых, Карамзине, Языкове; о Волге – там уже прекрасной и великой.
Учась в Костроме – не знал, что это имя – еще имя языческой богини; ничего – об Ипатьевском монастыре. О чудотворном образе (местной) Федоровской Божией Матери – ничего.
Учась в Нижнем – ничего о «Новгороде низовые земли», о «Макарии, откуда ярмарка», об Унже (река) и ее староверах.
С 10 лет, как какое-то Небо и Вера, и Религия:
«Я человек, хотя и маленький, но у меня 24 ребра и 32 зуба» или наоборот, черт бы их брал…
Представьте, как если бы годовалому ребенку вместо материнской груди давали, «для скорейшего ознакомления с географией», – кокосового молока, а девочке десяти лет надевали бы французские фижмы, тоже для ознакомления с французской промышленностью и художеством. «Моим детям нет еще одиннадцати лет, но они уже знают историю и географию».
И в 15 лет эти дети – мертвые старички».
А после Розанов сам сделался преподавателем – в городе Брянске. И сокрушался – в городе ну совершенно не читают Пушкина, более того, его нигде не продают! Розанов обратился в Москву, но из Первопрестольной ответили, что Александр Сергеевич не продается и там «за полным отсутствием спроса». Розанов в этом винил модных в то время литераторов, которые якобы сговорились, чтобы весьма своеобразным способом одержать верх над великим поэтом: «Как же сделать? Встретить его тупым рылом. Захрюкать. Царя слова нельзя победить словом, но хрюканьем можно…
Так «судьба» и вывела против него Писарева. Писарева, Добролюбова и Чернышевского. Три рыла поднялись к нему и захрюкали.
Не для житейского волненья,
Ни для того, ни для сего.
– Хрю! Хрю!
– Хрю.
– Еще хрю.
И пусть у гробового входа.
– Хрю.
– Хрю! Хрю!
И Пушкин угас».
Да, Розанову, прошедшему сквозь костромское ученичество, самому учительствовать было далеко не сладко.
* * *
И все-таки гимназии разнились. В первую очередь это зависело, конечно, от директора. Именно он набирал коллектив и задавал общий настрой. Упомянутый уже Миловский, в частности, описывал директора владимирской гимназии: «Директором гимназии был Калайдович – человек старых времен, обленившийся к интересам. При мне он не долго был, его уволили без всякого со стороны его прошения… На место Калайдовича поступил Озеров – гордый барич, ночи проводил в клубе за картами, а дни спал, в гимназию заглядывал один раз в неделю».
И вот результат: «Гимназия ничего не дает. Она только учит, предоставляя каждому употребить свое знание по своему усмотрению. Поэтому большая часть воспитанников, проучившись до 5-го класса, спешит занять место писца в какой-нибудь канцелярии или приняться за аршин в отцовской лавке. А как всегда и везде людей, желающих приобрести прочное образование без отношения к выгодам жизни, а действительно по любви к науке, мало, то до 7-го класса доходило очень мало воспитанников. Строгости касательно учителей в гимназии больше, чем в семинарии. Там иногда по получасу, а иногда и более мы прохаживались за Богородской церковью или в класс приходили поздно. Здесь этого сделать нельзя, а также пропускать классы. Инспектор непрестанно ходит по коридору и посматривает в классы через стекольчатые двери – не задремал ли какой-нибудь наставник; но касательно учеников строгости меньше. Им дано больше свободы, чем в семинарии, оттого они развязаннее, смелее в обращении даже со своими учителями, которых они вовсе не боятся. Нельзя сказать, чтобы к ним и уважения не имели; ежели и оказывали неуважение, то разве тем, которые не умели внушать его, как мой почтенный предшественник. Он, узнавши, что я хочу занять его место, покачал головой и предрек мне много неприятностей от сорванцов-гимназистов. Действительно, они много досаждали бедному старцу, не слушались его, подтрунивали над ним, только что верхом не ездили. Сначала и я заметил некоторые проделки, но, благодарение Богу, очень скоро поставил ребят в должные границы, не прибегая к пособию начальства; иных твердостью, иных ласкою, а больше старанием, чтобы уроки имели занимательность».

Псков. Рыбный торг у стен кремля

Архангельск
ГОРОДА РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ НА СТАРЫХ ОТКРЫТКАХ

Вологд

Иваново-Вознесенск

Воронеж

Рыбинск. Картина В. Максимова. 1886 г.

Торжок. Вид на Спасо-Преображенский собор

Таганрогский проспект в Ростове-на-Дону

Глебучев овраг в Саратове

Памятник Ломоносову в Архангельске

Памятник Карамзину в Симбирске

Памятник Петру I в Воронеже

Памятник царю Михаилу Федоровичу и Ивану Сусанину в Костроме

Открытие памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. Картина Б. Виллевальде. 1864 г.
ТИПЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА.
Фотографии 1890-х гг.

Птицелов

Жестянщик

Стекольщик

Молочница

Торговец баранками

Фонарщик

Прачка

Коробейник

Точильщик

Муромские купцы. Фото Н. Сажина. 1894 г.

Земское собрание в провинции. Картина К. Трутовского. 1868 г.

Орловский губернатор П. Трубецкой по прозвищу Петух

Городской дом в Ростове-на-Дону

Пожарная команда города Вытегра. Фото С. Прокудина-Горского

Пожарник

Извозчик

Золотари – сборщики нечистот

Нижегородские полицейские с приставом А. Пуаре, прославленным в очерке М. Горького «Палач». 1902 г.

Городовой

Чиновничья карьера в рисунках А. Лебедева
Напомним: господин Миловский был во Владимире преподавателем Закона Божия.
Яркой в своем роде личностью был директор симбирской гимназии, некто Вишневский, прозванный за жиденькую седоватую бородку Сивым. Этот деятель даже попал в поэму Д. Минаева «Губернская фотография», в которой автор «представлял» самых характерных жителей города:
А вот Вишневский, точно старый
Педагогический нарост,
И всею проклятый Самарой
Бюрократический прохвост.
Занятна и череда директоров рязанской гимназии. Первым директором автоматически сделался Андрей Иванович Толстой, ранее возглавлявший народное училище. Затем директора менялись, притом довольно шустро. Промелькнул, например, некто Воскресенский. О нем остались следующие воспоминания: «Директор гимназии редко бывал в трезвом состоянии, почему мы и зрели его лик раза два в год, не больше: перед началом учения, в августе, и по окончании его, в конце июня. В оба раза он являлся как важная особа, давал нам строгие наставления, после которых, не знаю для чего, грозил нам пальцем. Редко видя его, мы не могли к нему присмотреться, как лисица ко льву, и потому очень боялись его».
Боялись конечно же зря. Ведь Воскресенский, очевидно, очень мало интересовался жизнью гимназистов, а значит, не представлял вреда ни для учеников, ни для учителей. При таком руководителе в гимназии вполне могла начаться этакая демократическая вольница. Она еще больше усилилась при следующем шефе, полковнике в отставке Иване Михайловиче Татаринове. Сам он был масон, а супруга его, знаменитая в свое время Екатерина Филипповна, жила в Петербурге, где возглавляла секту «русских квакеров». Квакеры собирались в Михайловском замке (им негласно покровительствовал император Александр), пели псалмы, исполняли свои ритуальные танцы, входили в мистический транс, не гнушались пророчествовать.
Понятно, что директора Татаринова трудно было упрекнуть в консерватизме. К тому же и руководителем он был довольно дельным. А. Д. Галахов вспоминал: «Директорство Татаринова принесло много пользы. Он сразу поднял гимназию во мнении рязанского общества, потому что принялся за дело с охотой и любовью. Гимназисты, для которых прежний директор был своего рода мифом, ежедневно видели нового в классе выслушивающим уроки учителей и ответы учеников… Много значило и то обстоятельство, что Татаринов по своему состоянию, чину, образованию и петербургским связям стоял наряду с губернской знатью… Дворянство не боялось уже отдавать своих детей в гимназию и относилось уважительнее к образованию, в ней получаемому. Сообразуясь с потребностью времени, Татаринов ввел частные уроки танцев для желающих, с платою по 25 рублей в год, пригласив отличного учителя, итальянца Коломбо».
В 1927 году Татаринова заменил другой военнослужащий, гвардии штабс-капитан Николай Николаевич Семенов, лично знакомый с Николаем I. Кстати, сам император, когда, будучи проездом в городе, зашел в гимназию, чрезвычайно удивился новому поприщу Николая Николаевича.
– Ба! – воскликнул царь. – И ты, Семенов, попал в ученые!
Семенов также отличался некоторым вольнодумством. Говорили, что ратное поприще он оставил вследствие событий декабря 1825 года – вроде бы Николай Николаевич как-то был связан с восставшими, однако не настолько сильно, чтобы отправиться на Нерчинские рудники.
Затем был Федор Шиллинг, сильно отличавшийся от своих более демократических предшественников. Именно при нем в российских гимназиях отменили телесные наказания, что очень огорчило Федора Ивановича. Он выступил перед гимназистами со скорбной речью:
– До сих пор вас секли за ваши вины из-за вашей же пользы, чтобы сделать из вас прилежных и знающих людей, но теперь начальству угодно, написали мне из Петербурга, чтобы телесное наказание, т. е. сечение, больше не применялось. Но не думайте, что ваши вины останутся ненаказанными: виновные в дурном поведении и учении, как и прежде, будут заключаться в карцеры и лишаться обедов и отпусков.
Зато при Шиллинге значительно усовершенствовалась хозяйственная часть гимназической жизни.
Чем не «История одного города» г-на Щедрина, только в гимназических рамках?
Директором тверской гимназии был некоторое время писатель Иван Лажечников, автор исторических романов «Ледяной дом» и «Последний новик». Впрочем, горожане его знали в первую очередь не как писателя, а как светского человека. Вот одно из воспоминаний: «Зимой мы поехали погостить к отцу в Тверь. Однажды на бале в благородном собрании я заметила в толпе человека невысокого роста, с игривыми чертами лица, выражавшими детское простосердечие и яркий юмор. Небольшие глаза его, смотревшие наблюдательно, как бы улыбались шутливо: над высоким лбом был приподнят вверх целый лес волос с проседью…
– Кто это такой? – спросила я одну даму, указывая на него.
– Иван Иванович Лажечников, – отвечала она, – директор гимназии».
Впоследствии Лажечников «пошел на повышение» и вступил в должность вице-губернатора Твери.
Самым же колоритным из директоров гимназий был, видимо, Федор Керенский, отец будущего председателя Временного правительства. В 1879 году «Симбирские губернские ведомости» сообщали: «В Симбирск прибыл 4 июня новый директор классической гимназии Федор Михайлович Керенский, известный начальству Казанского учебного округа как отличный педагог. С приездом нового директора можно надеяться, что для Симбирской гимназии настанет новая жизнь и лучшая педагогическая деятельность, а вместе с этим изменится незавидная репутация в учебном деле, которой гимназия пользовалась в Министерстве народного просвещения».
Керенский сменил всем надоевшего г-на Вишневского и сразу произвел на окружающих преблагоприятнейшее впечатление. Один из современников писал: «В 1879 году директором гимназии был назначен, сменив дореформенного одряхлевшего «генерала» Вишневского, Федор Михайлович… Наш молодой директор внес первую освежающую струю в затхлую атмосферу симбирского рассадника «классического» просвещения. Это была, действительно, «новая метла» и притом – метла, вознамерившаяся «чисто мести»… Весь этот человек – олицетворенная энергия, ходячий труд, негаснущая лампада перед иконою взятого им на свои могучие плечи ответственного дела».
Другой же современник вспоминал: «Федор Михайлович благодаря своей исключительной энергии быстро стал все улучшать и подтягивать. Он был директором активным, во все вникавшим, за всем лично наблюдавшим… Образованный и умный, он являлся вместе с тем исключительным по своим способностям педагогом. Прекрасно владел русской речью, любил родную литературу, причем система преподавания его была совершенно необычная. Свои уроки по словесности он превращал в исключительно интересные часы, во время которых мы с захватывающим вниманием заслушивались своим лектором… Благодаря подобному способу живого преподавания мы сами настолько заинтересовались предметом русской словесности, что многие из нас не ограничивались гимназическими учебниками, а в свободное время дополнительно читали по рекомендации того же Федора Михайловича все, относящееся к русской словесности. Девизом его во всем было – «Меньше слов, больше мысли»».
А третий писал: «Года за 2–3 до моего окончания курса был переведен из Вятской гимназии в Симбирскую новый директор Ф. М. Керенский. Высокого роста, немного полный, с открытым симпатичным лицом, сразу произвел приятное впечатление на воспитанников. Преподавал он русскую словесность. Быстро познакомил нас как с древней, так и новой литературой. Особенное внимание обращал Федор Михайлович на исполнение домашних сочинений; обязательно требовал при исполнении заданных тем пользоваться литературными источниками, что очень важно было для развития учеников. Как чтец Ф. М. Керенский был замечательный; до сих пор осталось в памяти его выразительное, отчетливое чтение, особенно из древней русской литературы, как например былин».
Сам же Керенский излагал свою «методику» довольно просто: «Словом и примером наставники и воспитатели стараются развить в воспитанниках благородные стремления, в силу коих в их будущей деятельности выразились бы – беззаветная любовь к Государю и Отечеству, почтение к начальствующим и старшим, трудолюбие, правдивость, вежливость, скромность, благопристойность, добрые отношения к товарищам, уважение к чужой собственности и другие похвальные качества».
Впрочем, были у него и настоящие «ноу-хау». Он, к примеру, разъяснял учителям: «Домашние письменные работы назначать посильные для учеников менее даровитых и менее успевающих, чтобы они, не затрудняясь самостоятельным исполнением задач, достигали лучших успехов, при этом не назначать ученикам одного класса для подачи в назначенный день более одного домашнего упражнения; для лучшего уравновешивания домашних и классных занятий не иметь в один день в одном и том же классе более одного письменного классного упражнения; обращать, как было и прежде, особое внимание на учеников менее даровитых и менее прилежных и частым спрашиванием доводить их до усвоения уроков».
Кстати, Керенский не был склонен к завышению оценок Наоборот, получить у него «отлично» было делом очень даже непростым.
Помимо всего прочего, Федор Михайлович заботился о бытовых условиях воспитанников. Даже гимназическое здание при нем расширилось – стараниями нового директора удалось «сделать такой же пристрой, как и сама гимназия, к зданию с восточной стороны и переделать старое помещение, дабы придать постройке солидность и удобство».
Человеческие качества Керенского также вызывали уважение. В общении он был весьма приятен, и его коллега И. Я. Яковлев свидетельствовал: «Вот какую характеристику могу сделать Керенскому, отцу, которого я знал близко. Способный. Образованный. Отлично знающий русскую литературу. Хороший рассказчик, обладавший даром слова».
В 1881 году у Федора Михайловича возникло прибавление в семействе – появился на свет его сын Александр. Именно благодаря его воспоминаниям можно себе представить, как жила семья директора Керенского (а его казенная квартира располагалась в том же здании гимназии): «Длинный коридор делил наш дом надвое – на мир взрослых и мир детей. Воспитанием двух старших сестер, которые посещали среднюю школу, занималась гувернантка-француженка. Младшие же дети были отданы на попечение няни, Екатерины Сергеевны Сучковой. В детстве она была крепостной и не научилась грамоте. Обязанности ее были такими же, как и у всякой няни: она будила нас утром, одевала, кормила, водила на прогулку, играла с нами… Перед сном она рассказывала нам какую-нибудь сказку, а когда мы подросли, вспоминала порой дни своего крепостного детства. Она и жила с нами в нашей просторной детской. Ее угол был любовно украшен иконами, и поздними вечерами слабый свет лампадки, которую она всегда зажигала, отражался на аскетических ликах особенно почитаемых ею святых».
Отец практически все время посвящал работе, мать же занималась воспитанием детей: «После утренней прогулки с няней мама часто звала нас в свою комнату. Повторять приглашение дважды никогда не требовалось. Мы знали, что мама будет читать нам или рассказывать разные истории, а мы будем слушать, уютно примостившись у ее колен. Она читала не только сказки, но и стихи, былины, а также книги по русской истории. Эти утренние чтения приучили нас не только слушать, но и читать. Не помню, когда мать начала читать нам «Евангелие». Да и чтения эти не носили характера религиозного воспитания, поскольку мать никогда не стремилась вбивать в наши головы религиозные догмы. Она просто читала и рассказывала нам о жизни и заповедях Иисуса Христа».
В 1889 году Керенский получил новое назначение. Он, что называется, пошел на повышение – назначен был главным инспектором училищ Туркестанского края. Его сын Александр об этом писал: «Утром в день отъезда нас посетили самые близкие друзья, чтобы попрощаться, как это водится на Руси, вместе посидеть и помолиться перед дорогой. Затем все поднялись, перекрестились, обнялись и отправились на речной причал. У всех стояли в глазах слезы, и мы, дети, взволнованные до глубины души, чувствовали, что происходит что-то необратимое. На причале нас поджидала толпа знакомых. Наконец прозвучал пронзительный гудок парохода, сказаны последние отчаянные слова прощания, подняты на борт сходни. Застучали по воде колеса, и люди на берегу закричали и замахали белыми носовыми платками. Еще один гудок, и Симбирск, где я провел счастливейшие годы своей жизни, начал постепенно удаляться, становясь частью далекого прошлого».
Так закончился симбирский период жизни семьи Керенских. И блестящее десятилетие жизни симбирской гимназии тоже закончилось.
* * *
Разумеется, директор не имел возможности подобрать для себя идеальный коллектив. В гимназии оказывались самые разнообразные преподаватели. Оно и к лучшему – ведь в результате сложился уникальный тип российского провинциального учителя, который даже типом-то не назовешь – настолько он был разнообразен.
К примеру, протоиерей рыбинского собора Иосиф Ширяев преподавал по совместительству Закон Божий в гимназии. Один из его воспитанников вспоминал: «Это был очень умный и очень сердечный человек. Гимназисты его любили, вероятно, потому, что он сам очень любил детей. Я хорошо помню, как все мы, малыши, жались к нему, когда он выходил из класса, и хором кричали: «Отец протоиерей (в гимназии уже была принята эта новая форма – протоиерей вместо протопопа), благословите!» Высокий и красивый, с размашистыми быстрыми движениями, он легко касался наших голов школьным журналом, приводя всех и каждого в умиление. Его выражения: «Жужелица!», «Шалите, да потихоньку» – запали нам всем в сердце и, конечно, формировали в добрую положительную сторону наше юное создание. Отец Иосиф принципиально не ставил ни четверок, ни тем более троек по Закону Божьему. В его представлении низкий балл по Закону Божиему был предосудителен в нравственном смысле и для учеников, и для преподавателя. Пять с двумя минусами – вот крайняя грань, до которой спускался этот незабвенный наш учитель, праведник русской земли, на которых она держалась стойко и нерушимо».
Еще один яркий законник служил в таганрогской гимназии – отец Федор Покровский. Его уроки далеко не ограничивались дисциплинами духовными. Он имел смелость обсуждать с учениками Пушкина, Шекспира, Гёте. Именно господин Покровский и придумал для Антона Павловича псевдоним «Антоша Чехонте». Правда, он не ведал, что придумывает псевдоним – просто, вызывая гимназиста Чехова к доске, он шутки ради провозглашал по слогам и отчетливо:
– Че-хон-те!
Отец Федор мало походил на батюшку. Впрочем, не без объективных причин – в молодости он был полковым священником, притом служившим на передовой.
– Как поживает поп Покровский? – спрашивал впоследствии писатель Чехов. – Еще не поступил в гусары?
Один из преподавателей астраханской гимназии увлекался музыкой и изобрел довольно необычный музыкальный инструмент – бумажную трубу. По утверждению автора, подобная труба была способна заменить четыре медные. Изобретение направили в Санкт-Петербург, в Министерство народного просвещения, откуда в скором времени пришло такое заключение: «По испытании доставленных в Министерство 12 бумажных труб, изобретенных учителем музыки Добровольским, оказалось, что трубы сии, употребляемы в роговой музыке с большим уменьшением людей, но при этом имеют то неудобство, что при игре на них оне от воздуха отсыревают, а потому и верного тона сохранить не могут. Награды заслуживает, а как семь лет учит бесплатно, то поощрить его жалованьем, и он не оставит продолжать усердно свою службу и печатание литографическим способом музыкального журнала, которое принести может пользу».
Увы, спустя четыре года Добровольский вместо жалованья получил отставку – «как чиновник, вовсе для гимназии не нужный».
Выдающимися личностями были и преподаватели гимназии симбирской. Взять, к примеру, латиниста Берниковского. Тайный советник Л. Лебедев (выпускник той же гимназии) о нем вспоминал: «Питомец некогда знаменитого Виленского университета, поляк и католик, за патриотически-польские юношеские увлечения в числе других был выслан из Западного края, попал в Казань, где преподавал в университете всеобщую историю, а потом, после польского восстания из Казани был отправлен в Вятку. О Берниковском в «Былом и думах» упоминает Герцен как об ученом-ориенталисте, друге Мицкевича и Ковалевского. Из Вятки Берниковский перешел в Симбирскую гимназию, где был последовательно и долго учителем латинского языка, инспектором и директором. Берниковский умел, сохраняя импонирующее значение как по отношению к ученикам, так и к учителям, быть постоянно в живом общении с ними и пользовался уважением в обществе. Он был разнообразно образованный человек, что видно уже из того, что он мог быть и ориенталистом, и учителем французского и немецкого языков и даже преподавал в университете всеобщую историю».
Тот же чиновник вспоминал и о другом преподавателе – о Николае Гончарове, брате знаменитого писателя: «Николай Александрович получил прекрасное образование, знал отлично французский, немецкий и английский языки. В то же время это был человек с широким добрым сердцем и гуманный… Гимназисты невольно усваивали от него благородство чувствований и мягкость отношений ко всем и ко всему».
Порой не меньшей популярностью пользовались технари. Другой выпускник, И. Цветков, восторгался: «В. Н. Панов пользовался всеобщим уважением и учителей, и учеников. Это был человек выдающегося ума и образования. При отсутствии физических инструментов он ухитрялся прекрасно преподавать экспериментальную физику и сделать ее интересной для своих учеников. Но, кажется, самым выдающимся педагогом того времени следует признать Н. В. Гине, преподававшего алгебру, геометрию и тригонометрию. Он излагал математические истины необыкновенно просто, ясно, понятно даже для самого ленивого ума; говорил не торопясь, редко и необыкновенно изящно, словом, это был артист в своем роде».
Впрочем, для того чтобы понравиться учащимся, вовсе не нужно было отличаться выдающимся преподавательским даром. В частности, преподаватель латыни С. М. Чугунов снискал популярность совсем за другое – за свою глухоту.
– Какой падеж? – строго спрашивал строгий учитель.
– И-и-ительный, – отвечал ученик.
– Да, точно. Винительный, – соглашался учитель. И ставил вполне положительный балл.
В саратовской гимназии на протяжении двух лет учительствовал молодой Н. Чернышевский. Воспоминания современников говорят отнюдь не в пользу Николая Гавриловича: «Его бледное лицо, тихий пискливый голос, близорукость, сильно белокурые волосы, сутуловатость, большие шаги и неловкие манеры, – вообще вся его наружность показалась ученикам очень смешною, почему они стали между собою посмеиваться над ним».
Однако Чернышевский подкупил своих учеников манерой поведения. Он, во-первых, говорил им «вы».
Во-вторых, сидел не за учительским столом, на возвышении, а прямо перед передними партами. В-третьих, пренебрегал традиционными учебниками, а вместо этого читал стихи Жуковского и Пушкина, и вообще старался держать атмосферу доверительную, неформальную.
– Какую свободу допускает у меня Чернышевский! – возмущался директор гимназии. – Он говорит ученикам о вреде крепостного права. Это вольнодумство и вольтерьянство! В Камчатку упекут меня за него!
Однако Мейера никто в Камчатку не упек – упекли самого Николая Гавриловича, хотя и гораздо позже.
По неписаному правилу крепче и надежнее запоминались не хорошие преподаватели, а монстры, например преподаватель таганрожской гимназии Иван Урбан. О нем повествовал краевед П. Филерский: «Преподавателем хорошим И. О. Урбан быть не мог уже хотя бы потому что по-русски говорил очень уж плохо, дополнял слова ужимками, подмигиванием, делающими его речь подчас довольно смешной, но предмет свой он знал и письменно русской речью владел прекрасно. Преподавая латинский и греческий языки, он как бы обязанностью своей поставил отыскивать молодых людей политически неблагонадежных и так как он обладал даром понимать ученика, то почти всегда угадывал и преследовал уже беспощадно. Результатом таких отношений был взрыв его квартиры. Взрывом была повреждена парадная дверь, и зонтик над нею был сброшен. Грохот от взрыва был слышен кварталов за десять и более. Смятение в городе произошло огромное. Потерпевший дал телеграмму нескольким министрам о том, что анархисты хотят его убить, и просил судьбу его детей повернуть к стопам Государя. Началось следствие. Гимназия со своей стороны старалась узнать, не учащиеся ли это. Все розыски окончились ничем, по-видимому гимназисты не участвовали, так на этом и решили, начальство успокоилось».
Трагической фигурой был владимирский преподаватель, господин Небаба. «Законник» Миловский о нем вспоминал: «Один из учителей был малоросс Небаба-Охриновский. Раз он поздно идет мимо гауптвахты, часовой окликает: «Кто идет?» и слышит в ответ: «Небаба!» «Да я вижу, что ты не баба, говори толком, кто вдет?» Ответ тот же: «Небаба». Солдат поднял тревогу, выскочил караул, схватили мнимого озорника и на гауптвахту. Там офицер тотчас узнал арестанта. Наутро весь город смеялся над этим курьезным недоразумением. Этот бедный Небаба любил заниматься ботаникой, был довольно странен в обращении, женился и через год после свадьбы впал в меланхолию и кончил жизнь самоубийством. В чистый понедельник во время заутрени, шагах в тридцати от Вознесенской церкви… он выпалил себе в рот ружейный заряд. Проходивший от заутрени мещанин, запыхавшись, прибежал ко мне сказать, что какой-то барин лежит в переулке убитый. Я тотчас узнал своего товарища. Картина страшная, и теперь она будто перед моими глазами: человек молодой, с которым я вчера виделся и говорил, лежит с раздробленной челюстью, из которой струится кровь. В лице, обрызганном кровью, заметно какое-то судорожное движение. Я это принял за признак жизни и думал пособить несчастному с помощью мещанина, поднял на ноги лекаря, полицию, инспектора гимназии, но было уже поздно».








