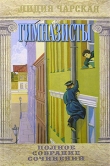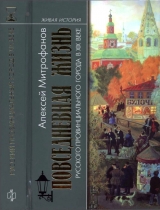
Текст книги "Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке. Пореформенный период"
Автор книги: Алексей Митрофанов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Дух протеста проявлял себя также и в трапезной: «Во время обеда и ужина очередной студент читал житие дневного святого. Чтения никто решительно не слушал, а иные из проказников приносили с собой смешные рукописные сказания о том, как один монах, исшед из обители, узрел диавола, едущего на свинье, или как Михаил Архангел был пострижен в монахи. Все хохотали, вот и назидание! Начальство, конечно, не знало этих проделок, да и знать не могло, потому что служители были все за нас и никогда на нас не доносили, а о студентах и говорить нечего».
А развлечения студентов были самые что ни на есть невинные: «Пели песни, устраивали театр… ходили за монастырь смотреть на посадские хороводы. При нашем приближении непременно запевали:
Чернечик ты мой,
Горюн молодой».
В остальное же время «академики» слушали лекции и самостоятельно упражнялись в науках. Лекции, увы, по большей части оставляли желать лучшего. Историк Е. Е. Голубинский вспоминал: «Лектором Сергий (академический инспектор отец Сергий Ляпидевский. – A. M.)был неважным, читал он нравственное богословие и зачем-то почти на каждой лекции употреблял сравнение церкви с лодкой и кораблем. Студент, собираясь заснуть на его лекциях, говорил соседу: «разбуди, когда проедет лодка» или «когда проедет корабль». Лекции, которые Сергий выдавал к экзамену, были невозможны для заучивания, и студенты на его экзамене отвечали очень плохо, путали, потому что была путаница и в самих лекциях. А о лекциях по словесности магистра Е. В. Амфитеатрова митрополит Московский Филарет так и сказал, что он согласен пойти скорее на каторгу, чем заучивать их. Преподаватель русской гражданской истории С. К. Смирнов лекции сводил к историческим занимательным анекдотам».
Самостоятельные же занятия были скорее колоритны и даже курьезны, нежели полезны. Вот, например, темы, на которые писали сочинения студенты академии: «О воздыхании твари», «О признаках времени скончания века», «О бесноватых, упоминаемых в св. Писании», «О сновидениях», «О связи греха с болезнями и смертью», «О нравственном достоинстве жизни юродивых», «О состоянии душ по смерти до всеобщего воскресения», а также «Было ли известно Платону и неоплатоникам о таинстве св. Троицы».
Темы диспутов были и вовсе потешными – например, «О тритонах в монастырских прудах». Так что слегка шаловливый характер студентов имел под собой основания вполне объективные.
Издатель Дмитрий Тихомиров, обучавшийся в Костромском духовном училище, писал: «Во сне иной раз увидишь себя школьником. Ранним утром идешь в училище, по пути в собор заходишь и на коленях перед чудотворной иконой, на холодной плите храма проливаешь горячие слезы в жаркой молитве, чтобы учитель не вызвал к ответу (хотя ответ и был с полным старанием приготовлен), хотя бы на этот день, только на этот день… Но не дошли, видно, детские слезы, не оправдалась горячая молитва. Вот пришел в класс, вот звонок, вот отворяется дверь, тревожно бьется детское сердце.
И кровью обливалось оно – меня вызвали к ответу на середку класса. Страхом скована память, нейдут в голову слова твердо заученного урока». То же, что и в гимназиях, и в училищах светских. Разве что в предметах основной упор делался на дисциплины богословские.
А на особо впечатлительных натур подобные учреждения производили впечатление и вовсе дикое. К таким принадлежал Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Его и брата Николая отец Наркис Матвеевич привез на выучку в Екатеринбургское духовное училище. Брату Николаю в тот момент уже исполнилось четырнадцать, а самому Дмитрию – двенадцать лет.
Судя по воспоминаниям Павла Бажова, это училище было довольно странным: «На следующем углу стояло заметное каменное здание в три этажа.
– Вроде скворечника, – определил отец.
Действительно, дом был какой-то необычный. Как видно, здесь сказывалось несоответствие между высотой и площадью пола. Чтобы представить себе это здание, надо иметь в виду, что в среднем этаже было только четыре классных комнаты, каждая не более как на сорок человек. Узкие окна усиливали эту общую неслаженность здания. На одном из углов надпись: «Екатеринбургское духовное училище»».
Училище обескуражило наивных братьев Маминых. Они вдруг оказались в резервации для малолетних хулиганов. Один из исследователей писал об этом: «Первые учебные дни, первое знакомство с бурсацкими порядками, товарищами потрясли Митю. Все было как в книгах и рассказах о бурсе. Но одно дело услышать веселые рассказы дьякона отца Николая или прочитать, а другое – увидеть своими глазами, испытать на своей спине. Старшие шестнадцатилетние верзилы сразу устроили новичкам свои «экзамены». Дергали за уши, за волосы, за нос. Грубость и сила – вот что было самым главным в отношении к младшим. Жестокость одних рождала ответную у других. Жестокость бессмысленную, ничем не оправданную. Просто из желания увидеть на лице жертвы выражение страха, ужаса, насладиться минутой своей власти и силы».
Увы, все было именно так.
Митя пытался разжалобить своих родителей: «Я лег с отцом. Я рассказал ему все подробно, но он меня слушал. Я ему говорил, что не могу понять учителей, что мне трудно вечерами готовить уроки, что у меня болит голова, и в заключение заплакал. Отец внимательно слушал и потом заговорил. Он много говорил, но я не помню всего. Он говорил мне, что ему меня жаль, потому что я такой «худяка», что мне трудно учиться здесь, но что он все-таки должен отдать меня сюда».
Увы, но Мите Мамину пришлось смириться.
* * *
Следующая ступень духовного образования – семинария. При слове «семинария» или же «бурса» (бурсой чаще называли общежитие при духовном образовательном учреждении, но иногда и само это учреждение) обычно представляется какое-то подобие монастыря, но только для детей. Жизнь, с детства подчиненная церковному уставу – ни пошалить, ни попрыгать, ни песенку спеть.
Действительность была иная. В частности, в Вологде именно семинария слыла одним из самых «продвинутых» учебных заведений.
В «Исторических и топографических известиях», составленных неким А. А. Засецким еще в 1782 году, в разделе «О публичных увеселениях» значатся всего-навсего три развлечения:
«1) Летом бывают езды по реке на шлюбках и лотках больших, в верьх до Прилуцкаго монастыря, а в низ до села Турундаева и далее.
2) Зимою при городе по реке ж санями на бегунах взапуски.
3) Меж тем от Семинарии по вечерам бывают иногда театральные моралистические представления».
Таким образом, семинария была замечена в лицедействе – занятии с духовной точки зрения сомнительном.
К началу XX века исполнительская слава городских семинаристов лишь усилилась. Особой популярностью при этом пользовались музыкальные концерты на воде. Семинаристы рассаживались по трем лодкам (в одной – духовой оркестр, а в двух других – вокалисты) и отправлялись в плавание по речке Вологде. В основном они радовали своих слушателей классическим репертуаром – вальсами, маршами, фрагментами патриотических опер («Жизнь за царя», например). Однако иной раз, под настроение, могли разразиться чем-нибудь вроде «Как вышел из ковчега Ной и видит Бога пред собой».
Впрочем, семинарские досуги вообще отличались явственным налетом светской жизни. Один бурсак, некто Евгений Грязнов, вспоминал: «Свободные часы… ученик посвящал доступным развлечениям в сообществе сверстников своих, устраивая импровизированные игры где-нибудь около квартиры; в летнее время играли в бабки, в лапту, где находилось свободное место для беганья, а школьники постарше возрастом ходили своими партиями за город, где свободнее было разбежаться».
Еще более старшие семинаристы позволяли себе поведение, совсем далекое от благочинных идеалов. По свидетельству того же автора, «франтоватые семинаристы старших классов во время летних прогулок щеголяли с тросточками… Немногие щеголи старшего класса в парадных случаях появлялись даже в цилиндрах… Между семинаристами, моими сверстниками, куренье было-таки довольно распространено… Другой нашей забавой, правда, не частой и случайной, бывали посещения трактирных заведений… Нельзя замолчать и того, что в исключительно редких случаях появлялась и водка на столе в товарищеской домашней нашей компании».
Не говоря уж о таких невинных развлечениях, как танцы, хороводы, посещение театра и т. д.
Толерантность семинарской профессуры с удивлением отметил Михаил Погодин: «Был в семинарии… Взглянул мимоходом на лавки, на коих ученики вырезали церкви, херувимов, стихи и проч. Провожатый профессор заметил: «Это ребятишки воплощают свои идеи». Неудивительно, что среди выпускников этого заведения попадались личности, преуспевшие на поприщах, весьма далеких от Закона Божия, к примеру знаменитый доктор Матвей Яковлевич Мудров, вошедший не только в историю, но даже в литературу (он лечил в «Войне и мире» Наташу Ростову).
Одна из самых популярных семинарий находилась в Суздале. Открылась она в 1800 году и расположилась в известнейшем архитектурном шедевре – Архиерейских палатах. К тому времени палаты, к сожалению, пришли в негодность. Протокол доносил: «Крестовая церковь, палаты его Преосвященства, 4 палаты, архиерейская и соборная ризницы, консистория с архивами, братские и служилые покои с кухнею и кладовые с выходами; над оным корпусом крышка, сделанная с обломом, совсем обветшала… всего в 21 да и в прочих местах сквозь самые своды проходит велика теча». Возможно, отчасти поэтому столь престижное здание отдано было простым и нетребовательным бурсакам.
Поначалу они только занимались в суздальских палатах, проживали же в обычных съемных городских квартирах. Эти квартиры оставляли желать лучшего – вот, к примеру, один из ревизских отчетов: «Из осмотренных… 13… квартир, в которых помещаются ученики от 3 до 20 человек, только 2–3 квартиры удовлетворительны, остальные или грязны, или сыры, или тесноваты, или душны, или находятся далеко от училища… обувь и одежда детей грязны, белье требует смены, дети спят на полу, по два и более человек на одном войлоке, войлок и подушка грязны… отсутствие обуви у детей ведет к пропуску уроков».
Впрочем, досталось и учебным помещениям: «Классные комнаты не отличаются чистотой. В октябре было в классах холодно. Вода для питья в ведрах с одним ковшом. Больницы при училище нет».
Последующие проверки обнадеживающими также не были: «Квартиры похожи на логовища и конуры… дети не слыхали слова «простыня»… сыпь, чахотка, паразиты… пища – пустые щи и каша… на квартире одного священника посылали детей за водкой».
Дело, впрочем, кончилось благополучно – в 1882 году было освящено новое общежитие при Суздальском училище.
Несмотря на бытовые трудности, семинария была престижной. Суздальское духовное образование, что называется, котировалось. Многие выпускники делали яркие карьеры – к примеру, Михаил Михайлович Сперанский. Да и обучение само не было столь обременительным. Дети читали латинские книжки, особенно интеллектуальных бесед не вели, развлекали себя всяческими невинными каламбурами – что-нибудь вроде nos sumus boursaci, edemus semper bouraci(дескать, мы бурсаки и все время едим бураки, то есть свеклу). В сравнении с учащимися прочих суздальских учебных учреждений, эти boursaciбыли в гораздо лучшем положении. Они, например, могли рассчитывать на более-менее гарантированное трудоустройство при обилии в городе монастырей и храмов.
А калужские семинаристы так и вовсе отличились – устроили бунт. Правда, не политический, а узкосеминарский – выступали против проведения переводных экзаменов. Семинаристы предлагали вместо этого подсчитывать оценки, выставленные каждому за «отчетный период» – и исходя из них либо переводить на следующий год, либо не переводить. Но главное другое – как они это предлагали. Держали руки поверх ряс в карманах брюк – а это запрещалось самым строгим образом. Садились в парке рядом с барышнями на скамейки! Катались в городском парке на карусли! На занятиях мычали хором! Запирались в классах и пускали там шутихи! Невиданное якобинство!
Впрочем, от подобных милых шалостей довольно быстро перешли к делам серьезным – спели «Марсельезу» и швырнули в голову городового камень. Тогда лишь руководство семинарии отреагировало и отчислило организаторов бесчинств. После чего бунт сам собой завершился.
Кстати, правила в калужской семинарии были довольно строгие. На сей счет существовал особый документ: «Лаврентьевскому архимандриту Никодиму иметь смотрение над Калужской семинарией в том,
1. чтобы учение происходило по утвержденному порядку.
2. надзирать за учителями, дабы в должности своей были рачительны и в школе, когда должно, а также и в церкви, в назначенные часы не отменно были.
3. чтобы отпуск семинаристов в домы, также представления об исключении неспособных из семинарии были с рассмотрением его – архимандрита.
4. сумму семинарскую принимать и содержать правящую префектовскую должность на определенные расходы, а чтобы оная порядочно была употребляема, архимандриту своим рассмотрением в оное входить.
5. ему же, архимандриту, наблюдать, чтобы бурсаки пристойно назначенной суммой содержаны были.
6. вновь семинаристов набирать правящему префектовскую должность с ведома архимандрита.
7. ему же, архимандриту, каждую треть экзаменовать семинаристов и каким кто окажется посылать рапорты.
8. если бы по всему вышеписанному оказался бы в чем непорядок, то ему, архимандриту, все отвращать; иного подлежит увещанием исправлять, а если бы за всем тем, что оказалось, что он собою исправить не может, о том нам представлять».
Тут и не захочешь – забалуешь.
В симбирской семинарии бунт зашел гораздо дальше. Один из ее учащихся писал о событиях 1905 года: «Наша семинария также присоединилась к всеобщему протесту. Нами была подана петиция с экономическими и политическими требованиями, которая осталась без ответа. В виде протеста во время перемен семинаристы открывали окна на улицу и пели революционные песни: «Марсельезу», «Варшавянку» и др. Городовые врывались в классы, закрывали окна и требовали прекращения пения, но не успевали они удалиться, как в других классах еще громче и дружнее начиналось пение. Среди учащихся начали распространяться прокламации с революционными лозунгами «Долой царя!», «Да здравствует учредительное собрание!». Неведомо кем и когда закладывались в печки «адские машины», которые ночью взрывались. Среди семинаристов старших классов начались аресты. В виде протеста учащиеся объявили забастовку. Семинарию закрыли, учащихся распустили по домам, многих уволили. Семинаристами был организован тайный стачечный комитет, была организована касса взаимопомощи».
Даже не верилось, что всего лишь три года назад здесь проводили тихий-мирный праздник – пятидесятилетие со дня смерти Гоголя. Пресса сообщала: «Накануне 20 февраля был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер воспитанниками духовной семинарии. Вечер этот произвел едва ли не самое выгодное впечатление из всего празднества. Правда, он не был составлен исключительно из произведений Гоголя, хотя и был посвящен памяти великого писателя. Прекрасный хор пропел гимн Гоголю Случевского, затем было выполнено до 30 литературных и музыкальных номеров. Некоторые из чтецов выполнили свои номера артистически, в особенности воспит. Соколовский и Козьмодемьянский, другие обратили на себя внимание не столько умной дикцией, сколько содержательностью выбора. Музыкально-вокальное отделение было также умело составлено и превосходно выполнено. В симбирской гимназии таких вечеров не бывает, а жаль».
Как уже упоминалось, условия обучения не всегда были на уровне. Вот, например, как выглядела семинария Владимира в начале XIX века: «Вдоль стен стояли плоские и широкие столы, с обеих сторон обставленные скамьями, битком набитыми нашим братом. Человек двести, если не более, помещалось в этой комнате. Половина учеников смотрела на учителя, а другая – показывала ему спину… Когда нужно было спросить ученика, сидящего спиной к наставнику, он толкал его в спину, а ученик, почувствовавши толчок, тотчас вставал, делал пол-оборота и, в искривленном положении, рассказывал свой урок. Если знал его, садился на свое место, а ежели нет, то отправлялся к печке, на колена, ожидать общей расправы…
В класс мы всегда ходили рано. Зимой придем задолго до свету. Свеч нет, печки топили редко – значит, холодно. Привалит толпа ребятишек, прослушавши авдитору, что делать до учителя? Не сидеть же сложа руки смирно и тихо, не тот был возраст, золотое время не теряли напрасно: толкаемся, бегаем по полу, по столам, крик, гам, хоть уши заткни. Грязь по полу, грязь на столах. Нередко доводилось стирать грязь со стола шапкой, чтобы положить книжку или тетрадку. В класс ходили все летом в пестрядинных халатах, босиком, а зимой в тулупах и, конечно, в обуви; за поясом помещалась чернильница, за плечом кожаный мешочек для книг и тетрадей. Между третьим и четвертым классом были огромные сени. В них около окон всегда сидели две или три пирожницы с горячими пирожками с говядиной или маком, также два или три сбитенщика-ярославца. У кого были деньги, тот мог лакомиться сколько душе угодно. Эти сени в 1830 году по случаю разделения классов обращены были в залу для помещения в ней 3-го философского отделения, которого я определен был первым наставником».
Практиковались наказания телесные: «Ох, эта расправа! Человек двадцать – тридцать выпорют во время класса за незнание урока. И я не избежал проклятого сечения: один раз получил одну лозу, а в другой – четыре, очень горячих. Секаторами были из своего брата, артисты своего рода. Из учителей училища самый жестокий был Иван Михайлович Агриков, вдовый священник, с деревянной ногой. Он умер игуменом в Муромском монастыре. Бывало, одно появление его наводило на нас ужас, особенно ежели был трезв; когда же он был навеселе, то дело обходилось и без лоз. Как только он переставит свою деревянную ногу через порог, сейчас узнаем, чего нам ждать – радости или горя. Ежели «наша деревянная нога» улыбается, значит, навеселе и больно бояться нечего, а ежели смотрит в землю, исподлобья, быть беде неминучей. О других учителях грех сказать дурное. Секли и они, но с разбором, за настоящую вину, без этого зверского крика: «Дери его, хорошенько его!»».
Однако подобные порядки бытовали далеко не везде, и многие выпускники духовных училищ поминали их добрым словом. Философ же Николай Страхов, обучавшийся в костромской семинарии, признавался впоследствии: «Следует помянуть добром этот Богоявленский мон., где я прожил пять лет и где помещалась наша семинария. В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что она нас породила, и она нас питает, что мы готовимся ей служить и готовимся оказывать ей повиновение, и всякий страх, и всякую любовь».
Вне зависимости от того, как складывалась жизнь, судьба, карьера, какое поприще для деятельности избирал семинарист, годы обучения казались ему лучшими годами жизни. Можно сказать, что духовное начальное образование было самым качественным в провинциальных городах России.
Следующую ступень духовного образования – академию – мы не рассматриваем. Академий было крайне мало, расположены они были, как правило, в крупных столичных городах и на облик провинции никак не влияли. Что, впрочем, относилось к высшим учебным заведениям вообще.
Глава седьмая
Именем Божиим
Неудивительно, что именно духовному образованию уделялось в российской провинции так много внимания. Храмы в изобилии высились в русских городах, духовные праздники затмевали все прочие, да и вообще религия играла в жизни российской провинции роль довольно существенную. Гораздо более существенную, чем в столицах, у начитавшихся Ницше и Гегеля безбожников и срамников.
Главным центром религии и духовной жизни был кафедральный собор. Самый красивый, самый высокий, с самым толстым батюшкой и с самым пьющим отцом дьяконом. И находящийся, конечно, в самом центре города.
Тарас Шевченко, оказавшись в Астрахани, увидел кафедральный Успенский собор и спросил ключаря:
– Кто был архитектором этого прекрасного храма?
– Простой русский мужичок, – ответил ключарь не без гордости.
– Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка! – заключил путешественник.
Шевченко, впрочем, Тона недолюбливал особенно, а московский храм Христа Спасителя – самое крупное культовое произведение этого автора – сравнивал с толстой замоскворецкой купчихой в повойнике, красующейся напоказ посреди Белокаменной.
Другой современник, человек более беспристрастный, рассыпался в комплиментах: «Астраханский собор – украшение и венец Астрахани. Стройный и величественный, он виден со всех возвышенностей за 30 верст. Плывущие по Волге к Астрахани все без исключения любуются собором. Издали, когда самый город кажется еще в тумане, стройный силуэт собора обрисовывается ясно, купола и кресты как бы касаются облаков, и самый город с его церквами и строениями кажется подножием храму».
Значит, и вправду было чем полюбоваться.
Даже в маленьких уездных городах такой собор бывал не без изюминки. Герман Зотов, житель подмосковного Богородска, вспоминал о родном своем Богоявленском соборе: «Вспоминая посещения городского собора с родителями, мне особенно запомнилась роспись левой стены у самого входа, где был изображен ад. Особенно запомнился мне в этой росписи облик Л. Н. Толстого, который был отлучен от православной церкви. В коридоре между главным и боковыми приделами был изображен Илья Пророк, ехавший на колеснице и бросающий молнии на землю. На маленького человека эта икона производила сильное впечатление».
Кстати, иной раз собор был форпостом российской культуры и христианской религии – даже в недавнем, казалось бы, XIX веке. В первую очередь это, конечно, относилось к храмам, строящимся на недавно присоединенных территориях. Например, Михайловский собор города Сочи, заложенный в 1874 году в честь десятилетия окончания Кавказской войны. Строительство этого храма горячо приветствовал сам Достоевский. Он стращал: «Не то явятся, вместо церквей божиих, молитвенные сборища сектантов, хлыстовщины, а пожалуй и штундистов. Явятся, пожалуй, раньше священников и лютеранские пасторы из Берлина со знанием русского языка». Писатель лично организовал сбор средств «исключительно в пользу первой православной сочинской церкви». Но, невзирая на его старания и на материальную поддержку Саввы Мамонтова, храм удалось освятить только в 1891 году.
Местоположение его было весьма удачным. Сочинский краевед Доратовский писал: «На возвышенном морском берегу выделяется церковь, сверкая золочеными крестами. Темная зелень кипарисов эффектно оттеняет белизну колокольни и кольцом окружила все здание… Церковь в городе одна. Главным украшением ее служит смешанный хор, составленный главным образом из любителей. Голоса – мужские и женские – подобраны с большим старанием. Хоровое пение музыкально. Горожане гордятся своим храмом и любят его».
План удался. Хлысты и штундисты не взяли верх в городе Сочи.
К строительству в провинции нередко привлекались и столичные прославленные мастера. Чаще всего, конечно, по знакомству. В частности, архитектор Иван Чарушин, автор Михайловского кафедрального собора в городе Ижевске, отдавал распоряжение: «В нижние боковые приделы иконостасы пока не ставить, а стены будущего алтаря украсить хорошей живописью, для чего привлечь к пожертвованию работой нашего вятского художника Васнецова, который уже знает мои работы и, я уверен, получив экземпляр проекта Михайловского собора, не откажет внести посильную лепту для художественного сооружения в родной земле».
Художник Виктор Васнецов икон, увы, писать не стал, а ограничился несколькими полезными советами.
Жертвовать кафедральному собору почиталось за большую честь. Жертвовали кто чем мог, отнюдь не только деньгами. В истории того же ижевского Михайловского собора бывали такие дары:
«Причту и церковному старосте Ижевского Михайловского храма от ружейного фабриканта Николая Ильича Березина.
Заявление.
Желаю храму во имя архистратига Божия Михаила в Ижевском заводе дальнейшего благоустройства и полного благолепия, я, нижеподписавшийся, сим изъявляю согласие отпускать сему храму (в том случае, если будут изысканы средства на устройство и полное оборудование в нем электрического освещения), – в потребных случаях электрическую энергию бесплатно».
Разные и подчас уникальнейшие типажи попадались среди настоятелей кафедральных соборов. В частности, в Свято-Троицком соборе города Архангельска служил священник Михаил Сибирцев, по совместительству поэт.
В день светоносный Воскресения
Простим друг другу прегрешения,
– писал он в бесхитростном стихотворении с таким же незатейливым названием «Христос воскрес!».
А вот отрывок из произведения «Распятие Христа-спасителя»:
Окончен беззаконный суд.
Распять – положено решение.
И вот Того на казнь ведут,
Кто и не ведал преступленья.
Кроме того, батюшка обладал прекрасным голосом. «Отцу Михаилу надо бы в опере петь», – иронизировали архангелогородцы.
Кстати, в том же архангельском кафедральном соборе хранился подлинный штандарт Петра Великого, подаренный Архангельску самим царем. Хранился до поры до времени, пока в 1910 году штандартом не заинтересовался другой российский император – Николай II. Штандарт отправили в Санкт-Петербург «для представления Его Величеству», да так назад и не вернули.
Зато проводы штандарта были пышными: «В четверг, 6 сего мая, в кафедральном соборе Преосвященным Епископом Михеем была совершена божественная литургия, а после нее благодарственное Господу Богу молебствие по случаю дня тезоименитства Его Императорского Величества Государя Императора, по окончании какового, при произнесении многолетия Государю Императору, с судов, стоявших на рейде против собора, был произведен пушечный салют в 21 выстрел… По окончании молебствия флаг этот Преосвященным был окроплен св. водою, а затем торжественно вынесен из собора боцманом, в сопровождении двух флотских офицеров, на площадь к домику Петра Великого, где к этому времени были выстроены шпалерами войска местного гарнизона во главе с почетным караулом от флотского полуэкипажа.
При звуках петровского марша войска взяли на караул и затем в предшествии «флаг-штандарта» прошли церемониальным маршем на Соборную пристань к ожидавшему военному пароходу «Кузнечиха», на который, при звуках того же марша, и был установлен флаг. После сего «Кузнечиха» плавно отошла от пристани на вокзал, увозя с собой одну из наиболее драгоценных реликвий, связанных с памятью о посещении Императором Петром Великим г. Архангельска в 1693 году. Флаг сопровождали командир флотского полуэкипажа, капитан I ранга Ю. П. Пекарский с почетным караулом, а также капитан-лейтенант П. И. Белавенец, которому поручено доставить этот флаг в С. -Петербург.
На вышеописанном торжестве присутствовали, во главе с Его Превосходительством г. Начальником губернии, почти все гражданские чины и масса публики».
При этом жизнь собора удивительнейшим образом совмещала в себе пафос служения Всевышнему и кондовую провинциальную обывательщину. Протоиерей симбирского собора, отслужив, писал своим согражданам невинные записочки: «Усердно прошу вас, многолюбезная Серафима Петровна, побывать ко мне откушать кофе – он у нас готов уже, а потом мы составим партию в преферанс вкупе с Марфой Петровной Цветковой и с Мар. Тихоновой. С нетерпением ждем».
Прелестное многообразие жизни…
* * *
Собор в губернском городе был один, а храмов и не сосчитать. Собор – для праздников, для служб торжественных, а приходские храмы – для молитвы каждодневной, для причастия, для исповеди, для общения с соседями, для сплетен. Собор – центр религиозной жизни города, но один не может справиться. Городские храмы – ему в помощь.
Вот, например, одна из достопримечательностей подмосковного города Богородска – Тихвинский храм. В нем служил неоднократно уже упомянутый Ф. Куприянов. Службы были по-провинциальному и даже по-домашнему уютными, без чрезмерного пафоса. Куприянов писал: «Было мне не более восьми лет, когда я стал ходить в алтарь, чтобы, надев стихарь, прислуживать при богослужениях: подавать кадило или выходить со свечой перед Евангелием и Святыми Дарами, носить поминания священнику и дьякону во время заупокойного чтения и принимать просфоры для «вынимания» во время проскомидии.
В алтаре был большой порядок и дисциплина. Ходили тихо, говорили шепотом. В свободное время стояли по стенке на виду у батюшки, чтобы не баловались.
Особенно хорошо было в алтаре за всенощной в простую субботу. Тишина, полумрак, только поблескивают лампадочки в семисвечнике да перед запрестольными иконами. Где-то сзади поют, а дьякон произносит ектенью. Звуки уходят в купола и там плавают. Прислушаешься к окружающему и к своей внутренней молитвенной работе, а умишко всё впитывает; растешь.
Ранняя обедня начиналась в шесть часов утра. Чтобы поспеть вовремя в алтарь, надо было вставать часов в пять, а в шестом бежать в Церковь… В церкви полумрак, молящиеся тенями ходят перед образами и ставят свечки. Сторожа зажигают паникадила и лампадки. Глаза слипаются, но дела не ждут.
В алтаре уже трое-четверо ребят. Идем в шкаф за стихарями. Подбираемся одинаковыми по росту парами. Облекаемся и сразу становимся другими, смирными и степенными.
Начинается служба и тут же наши дела. Ведь какую массу надо было принести и отнести, и просфор, и поминаний, и записочек. Надо успеть раздуть кадило, приготовить свечи, а потом «Великий вход». Строимся по парам и чинно выходим из алтаря впереди священства. Подойдя к середине амвона, становимся по обе стороны Царских Врат и, когда священник войдет в алтарь через Царские Врата, снова становимся парами посредине, но уже с приспущенными свечами. После того, как дьякон покадит, мы дружно кланяемся и чинно расходимся в правые и левые дьяконские двери.
Перед чтением Евангелия опять выходим из боковых дверей вместе с дьяконом, подходим к аналою и становимся по обе его стороны».
Сокровенная жизнь Русской церкви, непарадная и заповедная. Антон Павлович Чехов отчитывался о визите в родной Таганрог дядюшке Митрофану Егоровичу: «Дома я застал о. Иоанна Якимовского – жирного, откормленного попа, который милостиво поинтересовался моей медициной и, к великому удивлению дяди, снисходительно выразился: «Приятно за родителей, что у них такие хорошие дети». Отец дьякон тоже поинтересовался мной и сказал, что их Михайловский хор (сбор голодных шакалов, предводительствуемый пьющим регентом) считается первым в городе. Я согласился, хотя и знал, что о. Иоанн и о. дьякон ни бельмеса не смыслят в пении. Дьячок сидел в почтительном отдалении и с вожделением косился на варенье и вино, коими услаждали себя поп и дьякон».