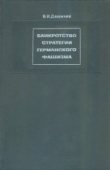Текст книги "Сталинъюгенд"
Автор книги: Алексей Кирпичников
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
* * *
Кирпичников считал, что Геня обладает такими умом и сметкой не в последнюю очередь благодаря иудейскому происхождению. При этом к еврейскому вопросу он подходил довольно своеобразно – женившись на семитке и беззаветно любя жену, к большинству остальных евреев Пётр Иванович относился с некоторым недоверием.
Такая двойственность толкования «еврейского вопроса» получила широкое распространение среди коммунистов из славян, чья молодость пришлась на годы революции и Гражданской войны. По‑видимому, в психологии этих людей и в их отношении к национальной проблеме столкнулись два взаимоисключающих фактора. С одной стороны, русские, украинцы, белорусы… с детства впитывали дух антисемитизма, являвшегося составной частью государственной политики царской России. С другой стороны, в годы революции и Гражданской войны они становились убеждёнными коммунистами, а коммунистическая идеология того времени, наоборот, боролась с антисемитизмом (чего только стоил один из первых декретов советской власти, объявлявший о преследовании антисемитов наравне с белогвардейцами). Более того, сразу после Октябрьского переворота иудеи создали и заняли большинство высших руководящих постов, а ведь власть всегда вызывала трепет у российских народов. И антисемитизм почти изжился в коммунистах‑славянах революционного призыва. Об этом свидетельствовали и их частые браки с еврейками, и абсолютная лояльность к евреям, обильно представленным на верхних ступенях советской пирамиды, и естественное восприятие евреек – жён больших начальников.
Не ухудшили их новое отношение к иудеям и наднациональные репрессии предвоенных годов. Хотя евреев в руководстве страной сильно поубавилось после сталинских чисток, они по‑прежнему обозначались рядом с Хозяином.
Несмотря на то что, добиваясь абсолютной власти, Иосиф Виссарионович перехитрил и перемог в смертельной схватке именно евреев – Троцкого, Зиновьева и Каменева, – он внешне отнюдь не связывал тогда борьбу со своими врагами с борьбой против еврейского народа. Собственную краплёную колоду холуев Сталин по‑прежнему разжижал Кагановичем и Мехлисом. Одновременно достаточно весомую роль продолжали играть и придворные иудеи: Ванников, Гинзбург, Лозовский, Литвинов… жены Молотова, Ворошилова, Андреева… немалая часть оборонного директорского корпуса и генералитета… масса первостепенных культуртрегеров советской власти.
Таким образом, отношение к евреям у большинства высокопоставленных функционеров с российскими корнями оставалось весьма лояльным. Однако совсем уничтожить в себе детско‑юношеские, генные, ощущения многие коммунисты из славян просто не могли физически. Отсюда и сохранялась их подозрительность к этой нации.
Так было и у Петра Ивановича.
* * *
Евгения Даниловна прервала тишину: – Знаешь, Петя, я и вчера не сомкнула глаз. Думала, думала… Что будет? Что можно сделать?… Конечно, всё ужасно. Сначала двое детей погибли, неизвестно из‑за чего… Всё‑таки Володя Шахурин был, наверное, не совсем нормальный, хотя я этого не замечала… А Ниночке Уманской почему такая доля?… Но мальчиков‑то… мальчиков, за что по этому делу потянули? Вот что я тебе скажу: нам сына надо пытаться спасать. Многое мы сами сделать не можем. Больше придётся уповать на обстоятельства. Если отвлечься от Фелинькиных поступков и рассуждать холодно, то и ему, и нам на руку состав компании. Я думаю – Анастас Иванович по этому вопросу к товарищу Сталину может обратиться. А уж что решит Иосиф Виссарионович, то и будет… Ну а мы, со своей стороны, тоже должны что‑то предпринять. Может, Лаврентия Павловича не надо беспокоить. А вот с Всеволодом Николаевичем ты мог бы и поговорить… по‑соседски. У вас ведь и кабинеты на одном этаже. Меркулов впрямую не поможет, но хоть расскажет, что же всё‑таки произошло.
Пётр Иванович внимательно слушал эти от растерянности неуклюже высказываемые вслух рассуждения жены и сам вслед за ними выстраивал цепочку мыслей. Он не сомневался – если следствие выявит вину ребят и их решат сурово наказать, то это отразится и на нем лично, и на всей семье.
– Понимаешь, через своих детей в деле оказались замешаны руководители разных рангов, – после недолгого молчания ответил он. – Накажут, скорее всего, либо всех детей сразу, либо никого. Также и родители, видимо, пострадают либо все вместе, либо никто. Можно сломать голову, но предугадать, как станут развиваться события, немыслимо… Ты права – моё дело попытаться выяснить у Меркулова подробности и узнать, каковы перспективы?
И они. замолчали, обдумывая переговоренное.
* * *
На следующий же день Пётр Иванович связался с наркомом госбезопасности по внутреннему телефону и попросил принять на несколько минут. Тот сразу же вежливо пригласил его к себе. Зайдя к Меркулову, Кирпичников грузно опустился на предложенный стул и, не пряча взгляда от собеседника, сказал:
– Всеволод, ты лучше меня знаешь, в какой переплёт попал мой сын Феликс. О других детях судить не берусь, но про своего скажу: ему нет оправдания. Он, хотя и мальчишка, но уже в том возрасте, когда надо соображать, что делаешь, и у всех подряд на поводу не ходить. Знаю, что будете разбираться по закону. Знаю, что это правильно. Но он мой сын. И ты понимаешь, как мне больно. Очень больно… В общем, в этой ситуации просить за него не считаю себя вправе, но хочу проинформировать, что и с себя ответственности не снимаю – упустил сопляка. И ещё, не как отец, а как взрослый человек хочу отметить – после убийства мы с женой видели, что он мучался и, кажется, действительно понял, до чего могут довести безответственные игры… У меня всё. Единственно, о чём считаю возможным спросить, до какой степени эта история серьёзна и чем она может грозить Феликсу?
– Знаешь, Пётр, успокаивать не буду. Твой сын оказался участником тайной организации школьников, восхвалявших гитлеровскую символику. Лидировал у них – Шахурин. К тому же всё это, как ты знаешь, усугублено убийством. Дело действительно не простое и можешь представить, до какой степени, раз восемь человек арестовано. Пока о результатах говорить рано – следствие только началось. Ещё не ясно, был ли в их действиях умысел. Судьба школьников может значительно облегчиться, если нам удастся установить, что их сбивал с пути кто‑то из взрослых. Я знаю – ты сутками здесь, на работе, но поговори с женой. Возможно, она что‑нибудь слышала на этот счёт?
– Обязательно. Сегодня же! Извини, что побеспокоил. Пойду‑ка я работать.
Кирпичников встал и повернулся к выходу. Меркулов степенно, но достаточно скоро остановил его:
– Постой, Пётр… рад, что ты так – по‑мужски. Мы не забываем, что вместе с тобой делаем одно дело. И ты далеко не последний среди тех, кто кует победу. И не только мы об это знаем… Сверху нам тоже напомнили, но сам понимаешь, решать не мне. Материалы следствие подготовит, уж не взыщи, какие получатся. А что сын раскаялся, как ты считаешь, – это хорошо… Но история и вправду неприятная – развоняется на всю округу. И ребят, наверное, придётся наказать. Я тебе одному из всех родителей это говорю – ты с нами вместе пот льёшь.
– Спасибо, Всеволод, – попрощался Кирпичников и, уже больше не оглядываясь, пошёл к себе.
Он был по‑своему благодарен наркому, что тот на словах проявил какое‑то участие, но и обнадёживающего ему не сказали ничего. Из разговора стало ясно одно – неприятности только начались.
Выйдя из приёмной, Пётр Иванович, по привычке немного переваливаясь и чётко фиксируя каждый шаг, пошёл по ковровой дорожке, протянутой вдоль длинного коридора в другое крыло здания, где находился его кабинет. Он вдруг снова отчётливо услышал слова Меркулова: «…мы вместе с тобой делаем одно дело… ты с нами вместе пот льёшь…»
Невольно всплыло в памяти, как в начале войны, в этом же коридоре, он увидел, что конвоир ведёт навстречу арестованного. Как будто снова послышался окрик охранника, обращённый к заключённому: «Встать!… Лицом к стене»!
«Лицом к стене» повернулся человек в генеральском мундире со споротыми нашивками. Наблюдательный Пётр Иванович с трудом признал в поникшем военном, с синим от побоев лицом и не закрывающимся беззубым ртом заслуженного боевого генерала Дмитрия Павлова – уже несколько дней шло следствие против руководства Западным военным округом, не сумевшим остановить стремительное продвижение немцев к Москве.
«Да уж, одно мы с тобой дело делаем, товарищ заплечных дел мастер… один пот вместе льём».
С запоздалым стыдом и внезапно пришедшим раскаянием Кирпичников вспомнил, как в январе 42‑го на оборонном заводе в Молотове[13] он, ни секунды не раздумывая, отдал под трибунал начальника цеха за задержку на одни сутки выпуска из ремонта пяти орудий. Отдал, как он тогда считал, ради Победы. Отдал, как пожертвовал пешку в шахматной партии.
* * *
День спустя Кирпичников снова позвонил к Меркулову:
– Приветствую, Всеволод…
– Доброго здоровья, Пётр. Что у тебя?
– Давеча я обещал поговорить с женой, не знает ли она кого‑то из старших, кто мог поучать Феликса и его друзей.
– Да‑да.
– Ничем я тебя, к сожалению, не обрадую. Она ничего не знает.
– Ну что ж, оставим это решать следствию.
– Будут ещё какие‑нибудь вопросы, постараемся с женой вам ответить.
– Учтём. Обязательно учтём. До свидания, Пётр.
– До свидания, Всеволод.
Вопросы о неведомом взрослом руководителе следователи задали родителям всех обвиняемых кроме Микоянов. За семью Анастаса Ивановича отдувался Василий Даранов. Но ни чекисты Зубалова, ни родные арестованных не смогли облегчить поиск несуществующего врага, охоту на которого объявили на площади Дзержинского.
* * *
В большом кабинете, за внушительным столом, сидел следователь с погонами генерал‑лейтенанта. Не шибко густые волосы с жидковатым чубом он укладывал набок, с пробором. Из‑за немного отвислого подбородка в чертах генеральского лица проглядывалось что‑то лошадиное. Серго, вызванный на допрос, уже не менее часа отсиживал зад, изредка поёрзывая на стуле. После того как он выполнил начальные формальности – рассказал свои данные – о нём напрочь «забыли». Не задавая арестанту вопросов, чекист занимался своими делами – что‑то записывал в толстую общую тетрадь, поскрипывая пером и бормоча под нос… разговаривал по телефону… покидал кабинет, предварительно спрятав документы в сейф, а возвратившись, снова извлекал бумаги на стол и, наконец, пил чай, втягивая в себя кипяток с тонким присвистом. Юный заключённый, с удивлением наблюдавший за этими манипуляциями, никак не мог отделаться от ощущения, что он здесь совершенно лишний. Между тем допроса подследственный очень ждал, втайне надеясь, что прояснится, когда же его отпустят домой.
Дверь в очередной раз открылась, и в комнату зашёл Влодзимирский. Он уселся на стоявший левее Серго кожаный диван, чуть отодвинув ногой закусочный столик. Генералы заговорили о своём, и мальчишка подумал, что до него очередь дойдёт, наверное, ещё не скоро. Постучали. Влодзимирский рыкнул:
– Да.
Возник младший лейтенант. Не опираясь на каблуки, он просеменил по коврам к секретарскому столику с пишущей машинкой и толстой кипой бланков сбоку от неё.
Снова тихонько предупреждающе постучали – это официантка принесла начальству дымящиеся фарфоровые чайники, сахарницы, тарелки с сушками и блюдечки с нарезанным лимоном. Обслужив генералов, она подала мальчишке пустой чай и неслышно удалилась.
Хозяин кабинета откашлялся и, не глядя на Серго, заблеял:
– Обвиняемый, меня зовут Николай Степанович Сазыкин. Я заместитель товарища Влодзимирского и тоже являюсь следователем по твоему делу. Сейчас я прочту обвинительное заключение:
– Гражданин Микоян, Серго Анастасович… предъявляется обвинение в соучастии в антисоветской террористической организации «Четвёртая Империя»… обвиняетесь по статье Уголовного Кодекса РСФСР 58‑10, через статью 19… обвинительное заключение подписано генеральным прокурором СССР товарищем Горшенинным… Поясню, за твою доказанную преступную антисоветскую деятельность, согласно статье 58‑10 УК РСФСР, предусмотрено наказание до 10 лег лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительно‑трудовых лагерях особого режима. Поскольку преступление совершено в группе, что предусмотрено статьей 19 УК как отягчающее вину обстоятельство, наказание может быть усилено вплоть до расстрела.
На секунду в комнате стихло.
– Тебе ясны предъявленные и доказанные обвинения? – монотонно протренькал следователь.
– Да, мне понятно, но у меня нечего конфисковывать и потом… я не согласен! – От волнения мальчишка побелел и стал заикаться больше обычного.
– А вот, давай‑ка, мы и разберёмся, с чем ты не согласен?
– Я ни в какой антисоветской организации не участвовал.
– Интересно, а что же тогда, по‑твоему, представляет собой тайная организация «Четвёртая Империя (Рейх)» с «рейхсфюрером» во главе? – продолжал давить тонкоголосый Сазыкин.
– Это была игра.
– И как вы в неё играли, в эту игру?
– Мы пять месяцев играли в «тайную организацию», но мы не присваивали никаких немецких названий и званий. У нас вообще не было никаких званий, кроме звания «лидера» у Володи Шахурина. И мы ничего плохого не делали. Мы просто соревновались, кто лучший в спорте, в вождении автомобиля, в стрельбе, в математике. Это уже потом произошло, о чём вы говорили. Шахурин предложил дать организации такое название… Когда мы встречались у него на квартире, всегда видели одно и то же – Володя ходит по комнате, читает нотации, глядя в потолок, и никому не дает слова сказать… В такие моменты он бывал будто не в себе – мне даже скучно становилось, и я потихоньку какую‑нибудь книжку брал и незаметно читал… Так и с этими «фюрерами». Пока говорил, мы слушали, а потом он выбрал название «Четвёртая Империя (Рейх)», но оно никому не понравилось, и мы отказались подписывать протокол.
– Значит, ты утверждаешь, что организация не имела фашистских планов? – насмешливо вступил в диалог мордатый начслед.
– Не имела!
– Ты же был пионером.
– Почему был? Я – пионер!
– Ты в тюрьме, – и уже никогда не наденешь пионерский галстук.
Подбородок мальчишки начал легонько подрагивать – такого удара он не ожидал. Увидев замешательство подследственного, комиссар продолжал нагнетать давление:
– Ты подумал, что слова «империя», «рейх», «фюрер»… несовместимы со званием пионера?
– Я же говорю, что мы эти звания не согласились утвердить.
– Хорошо, а почему никто из вас и, в первую очередь, ты сам не сигнализировал нам, учителям или родителям об антисоветских настроениях Шахурина? Да в свою пионерскую организацию, наконец?!
Серго на минуту растерялся. Он сразу понял, что очевидный для него ответ о невозможности предательства не удовлетворит следователей. Но надо было что‑то говорить, и делать это быстро. Вдруг сверкнуло:
– Гражданин следователь. И я, и другие ребята, наверное, рассказали бы взрослым о поведении Володи, но он выдвинул идею о «Четвёртой Империи» совсем незадолго до смерти, и мы… просто не успели.
– Складно врёшь! – громыхнул Влодзимирский. – Но между смертью Шахурина и твоим арестом прошло почти два месяца! И что‑то мы не заметили твоего добровольного рассказа. Мало того, следователь Шейнин задавал тебе прямые вопросы о поведении Шахурина перед самоубийством, а ты только вилял и уходил от ответов!
– …
– Чего замолк?
– О покойнике разве надо говорить плохо?
– Не передёргивай! Речь идёт о вашей организации! И здесь в твоих показаниях наметилась явная нестыковочка.
– Какая?
– Объясните ему, пожалуйста, товарищ Сазыкин.
– Сейчас объясню. Обвиняемый Микоян, именно вот это тебе пока рано знать. Ты должен сам, без подсказок, помочь следствию. Я только одно хочу сказать – твои однодельцы уже дали нам правдивые показания о вашей деятельности. Теперь они заслужили снисхождение. Лучше подумай, если хочешь облегчить участь и не остаться в одиночестве со своим враньём… Расскажи нам подробно, кто из взрослых поучал Шахурина и руководил организацией?
– Товарищ генерал… извините, гражданин генерал… я, честное слово, никого такого не знаю.
– Всех отпустят, а ты будешь сидеть. Станешь запираться – пойдёшь под суд вместе с предателем!
– Я, правда, никого не знаю. Я же не могу выдумывать?!
– Подумай, Серго. Очень хорошо подумай!
– Да мне не о чем думать! Не было никакого взрослого!… Честное слово! Честное пионерское!
– Как знаешь, гражданин бывший пионер Серго Анастасович. Думаю, ты ещё не раз пожалеешь… Что? Оформлять протокол и отправлять его в камеру? – Последние слова Сазыкин адресовал Влодзимирскому.
– Одну минуточку.
– Конечно, Лев Емельянович!
– Серго! Постараюсь всё‑таки объяснить. Антисоветский характер организации уже доказан на основании материалов, изъятых у Шахурина на обыске. Статья, по которой вы обвиняетесь, предусматривает наказание, начиная с двенадцатилетнего возраста. Так что здесь ссылки на юность не пройдут. Обманывать тебя не собираюсь… И скажу честно: выйти на свободу ты сможешь только в случае, если не будешь покрывать взрослых, научивших Шахурина его антигосударственным идеям.
– Лев Емельянович! Но я не знаю никакого взрослого.
– Я верю тебе. Но предпола…
Монолог начследа прервал протяжный непрерывный зуммер красного телефона на столе у Сазыкина.
– Не тро‑ожь!!! Я сам! – выпучив глаза, Влодзимирский подскочил, будто из‑под дивана ему между ягодиц с размаху всадили шило, и рванулся к следовательскому месту, сшибив по пути закусочный столик. Ударившись о паркет, жалобно звякнул подстаканник, и одновременно раздался треск разбившегося блюдца. Подлетев к телефону, Лев Емельянович схватил трубку прямой связи с Меркуловым, резко выпрямился, отклячив зад, сглотнул комок в горле и проникновенно выдохнул:
– Я вас слушаю, товарищ нарком… Да, это Влодзимирский. Да… я сейчас у Сазыкина… Так точно, Всеволод Николаевич! Да… Да… Он как раз здесь, на допросе… Будет исполнено, товарищ народный комиссар!… Есть!
Медленно, как медбрат на носилки тяжело раненного бойца, начслед опустил на место драгоценную трубку. Затем, вздохнув полной грудью и распрямив плечи, он неспешно вернулся к дивану, бросив на ходу стенографисту:
– Убери, – и показал глазами на разбитое блюдце.
Через минуту всё собрали и вытерли насухо. На журнальном столике, водворённом на прежнее место, опять дымился свежий чай.
– Тэ‑экс… на чём же мы остановились? А!… Так вот, гражданин Микоян… я предполагаю, что ты знаешь о таком человеке – просто мог не придавать значения его роли.
– Нет. Я такого не знаю.
– Не спеши, дослушай… Мы ведь тоже не спим. Мы уже близки к тому, чтобы доказать наличие такого человека. Причём кто‑то из вас мог его даже никогда не видеть и никогда о нём не слышать. «О нём» – я имею в виду подстрекателя. Этот человек очень серьёзно конспирировался от вас в своих связях с Шахуриным. Поэтому вы должны поверить органам, когда вам его покажут и вы услышите его признания. Ты понял меня, Серёжа?
– Да, гражданин следователь… Только отец учил меня говорить правду. И если услышу признание человека, которого не видел и о котором не слышал, я так и скажу, что считаю его подстрекателем, потому что он сознался… и потому, что я верю госбезопасности.
– На товарища Микояна не кивай – за себя отвечай. Ну а форму твоего подтверждения мы отработаем по ситуации. Ладно?
– А когда это будет?
– Ты же сам сказал, что поможешь, когда услышишь его признание. Над этим мы сейчас и трудимся. Придётся подождать, чтобы всё происходило по закону.
– Хорошо.
– Вот и молодец. Отправляйся сейчас назад в камеру. Режим мы тебе сделаем ещё более льготный – дадим вторую прогулку, улучшим питание.
Перед тем как его увели, мальчишка не удержался и попросил у следователя разрешения задать вопрос, не касавшийся дела.
– …Задавай, если такой любопытный.
– Гражданин генерал, скажите, пожалуйста… а что, Москву снова бомбили?
– С чего это ты взял?
– Вчера вечером так сильно громыхало!
– Пока вы преклоняетесь перед Гитлером, советские войска громят фашистов на Курской дуге и освобождают наши города – в честь этого в Москве впервые салютовали.
– Мы не преклонялись перед Гитлером.
– Тебе не надоело препираться?
«Старый букинист» шёл в камеру под конвоем вертухая и вспоминал только что закончившийся допрос. Он, конечно, заметил двуличность следователей, но последнее их предложение не показалось ему нечестным. До Серёжи не доходило, что, по мысли наркома Меркулова и следователя Влодзимирского, вербовщиком Владимира Шахурина вполне мог оказаться его отец – Анастас Микоян.
* * *
За день до ареста Лёньку Барабанова сильно продуло после купания на реке. Болеть во время каникул он не мог себе позволить, и сделал вид, что ничего не произошло. Однако от потрясения, вызванного вероломным арестом, Барабан расклеился, причём в одиночке ему становилось хуже и хуже: ломило тело, стало больно глотать, и ночами не спалось – болели даже глаза, но Ленька крепился и не жаловался. Когда его подняли из карантина в двухместную камеру, хворь ещё не прошла – нещадно саднило горло, и любое прикосновение было нестерпимым. На новом месте его встретил сосед – крепкий мужичок лет сорока пяти. Увидев, что новичок – мальчишка, да к тому же совсем больной, сокамерник робко попросил у надзирателя помощи. Минут через десять появился фельдшер, выглядевший уставшим, видимо, от сильного переутомления. Выслушав жалобы, эскулап с начальным медицинским образованием удалился, но вскоре в камеру вернулся тюремщик и принёс две таблетки, заставив Лёньку выпить их в своём присутствии. Проглотив пилюли, парень повалился на кровать и впал в беспокойный сон.
Утром ему стало значительно лучше – с каждым часом он чувствовал, как возвращаются силы. На пятый день жизни в тюрьме Барабан выздоровел. Однако за эти дни в его характере произошли большие изменения: непонятно куда делась непоседливость – он не мерил камеру шагами, а спокойно сидел на кровати, читая или беседуя с соседом.
Мужичка звали Евгений Луньков. Колхозник из‑под Тулы – светлорусый, голубоглазый и кряжистый – он был симпатичен бесхитростной русской простотой, и эту симпатичность даже не портил нос картофелиной. Когда началась война, его сразу мобилизовали на фронт, в артиллерию, где он быстро выучился на наводчика и принял бой под Оршей в составе дивизиона. Всю осень 1941‑го Евгений тяжело и безропотно воевал, обороняя Москву, пока в ноябре не получил осколочное ранение в ногу.
Латали его в Барвихе, где под госпиталь отвели крыло в цековском санатории с огромным лесопарком и большим прудом, облюбованном Феликсом Кирпичниковым для рыбалки. После госпиталя Лунькова бросили на Украину, где ему выпало стать одним из сотен тысяч советских солдат, пленённых летом 1942 года во время Харьковской катастрофы. В апреле 1943‑го он, по случаю, сбежал с полевых работ из‑под Брянска. Проскитавшись с месяц по лесам, Луньков оказался в районе линии фронта и сумел перебраться к своим. Там из него долго вытягивали жилы контрразведчики, не верившие в чудеса, тем более – свидетелей его правоты не было. Допросы закончились этапом в Москву, и вот уже больше двух месяцев Лубянка требовала от Евгения доказать советской власти, что Абвер не посылал его через линию фронта взрывать мосты с составами вооружений для Красной армии.
Рассказав свою, не такую уж редкую по тем временам историю, мужичок участливо отнёсся к Лёниной, но видно было, что ему непонятно, каким ветром занесло в камеру сытого мальчугана, да ещё больного ангиной. А Барабан сразу же проникся доверием к Лунькову – слишком уж бесхитростно вёл себя этот крестьянин и солдат, прошедший через столько испытаний.
Лёня скрыл от соседа только пост отца, фамилии «соучастников» и должности их родителей, а бывший колхозник и не лез в эти тонкости. Он понимал одно: у Лёнькиного одноклассника оказался в руках пистолет – от отца. А уж кто отец, из военных, партийных или каких других начальников… какая разница? Да и вообще показалось странным, если бы Евгений вдруг сумел оценить значимость Александра Владимировича Барабанова или родителей других ребят. Для таких, как этот солдат, мир делился только на простых и хозяев. Директор или генерал – отличие небольшое. Мальчишка в его глазах происходил «из генеральских». Так и получалось, что Луньков не перебивал и не озадачивал вопросами, а Барабану этого и требовалось – он не мог, да и не хотел больше нести думы в одиночку. Так, незаметно, в беседах и рассказах, шло время.
За неперспективностью простодушного Лунькова в тюрьме даже не вербовали, но, получив необходимую информацию о характере Барабанова и оценив предыдущее поведение Евгения, оперчасть точно рассчитала, что Лёньку надо подсадить в камеру именно к бывшему пленному. Ставку сделали на то, что оба арестованных – бесхитростные и наивные люди. Они не могли не сойтись, объединенные общей бедой. В дальнейшем следствие и собиралось использовать против заключенных информацию, подслушанную из бесед в камере.
Не высказывая этого вслух, Луньков давал понять своим отношением к мальчишке, что признаёт его превосходство уже только из‑за «цвета крови» – с завидным постоянством мужичок незаметно оттеснял парня от уборки камеры и всякий раз выписывал на себя книги, интересовавшие соседа. И слушал Евгений, не перебивая, сколько бы Барабан ни говорил.
Луньков был одним из десятков миллионов русских, в чью генную память, накопленную за тысячелетнюю историю насилия и унижений, воспринимавшихся этим народом Божьей данностью, бессрочно вселились покорность и безропотность. Вселились и въелись в их души так же нестираемо, как грязь в ладони этого крестьянина.
* * *
Для начала Влодзимирский вызывал Лёньку на короткую беседу. Он шумно пугал юного арестанта и увидел, что бесследно это не пройдёт – Барабанов нервничал. Перед серьёзным допросом чекист решил проанализировать беседы в 89‑й камере, и уже вскоре генерал изучал стенограммы. Судя по разговорам, у Барабана «изо всех щелей» пёрли тоска и печаль. Начслед решил, что клиент созрел и его пора обрабатывать в свете разговора с Меркуловым. На этот раз Лёню поручили комиссару госбезопасности 3‑го ранга Василию Ивановичу Румянцеву.
– …Гражданин Барабанов, расскажите, как создавалась тайная антисоветская организация «Четвёртая Империя»?
– Она не была антисоветской!
– Не вам решать этот вопрос.
– А кому, товарищ следователь?
– Забываетесь – для вас больше нет слова «товарищ»!
– Извините… я оговорился.
– Жду ответа на вопрос.
– …И все‑таки, кому решать?
– Судебной или внесудебной инстанции.
Лёнька молчал и думал: «А почему он называет организацию "антисоветской", если это будет решать не он?» Но задать этот вопрос побоялся.
– Обвиняемый, я жду ответа.
– У нас не антисоветская организация.
– Будете уходить от ответа на вопросы следствия – ничего хорошего не ждите – ведь от того, какое мнение об обвиняемом вынесем мы, зависит и мера наказания. Ваши «друзья» уже полностью сознались в совершённом преступлении, и это пойдёт им в зачёт, а вот вы запираетесь. О таком поведении гражданина Барабанова придётся поставить в известность суд, и можете не сомневаться – он истолкует его как отягчающее обстоятельство.
Румянцев до такой степени уверенно говорил о наказании, что Лёнька поверил в его неотвратимость, тем более что нынешнее нахождение в тюрьме красноречиво свидетельствовало о правоте чекиста. Лёню никто не учил, как вести себя на допросе, и очень не хотелось раздражать генерала, но одно он знал совершенно точно – никогда у него не возникало даже намека на антисоветские мысли.
– Гражданин следователь, я расскажу всё, но, честное слово, «Четвёртая Империя» – не антисоветская организация.
– Хорошо, продолжайте, а то мы уже полчаса топчемся на месте.
Счастливый, что отбил у следователя «антисоветскую», Лёня начал говорить:
– В середине января ко мне подошёл Володя Шахурин и предложил вступить в «тайную организацию». Я прочитал устав, и он мне понравился. Вместе со мной туда вошли Хмель, ну Хмельницкий Артём, Реденс и Бакулев – все из нашего класса. Мы ничего особенного не делали – только на коньках соревновались. Выиграл Шах… Потом приняли Феликса Кирпичникова… Дальше выясняли, кто станет лучшим в турнире ГТО… и машину учились водить, а я уже давно могу, да и все ребята, у кого отцы на персональных машинах, тоже умеют – нас водители учат, чтобы подлизаться к родителям. Даже девчонок из класса – и то тренируют. Вот… мне очень нравилось играть. Всё время приходилось чего‑то добиваться и соревноваться. Потом мы приняли Арманда Хаммера и Серёгу Микояна. Арманд с нами учится, а Микоян – на класс младше. Перед самыми каникулами, в конце мая, некоторые из нас собрались у Володи… Мы сначала играли навылет в «чапаевцев» на шашечной доске – двое бились, а остальные ждали очереди на замену…
– Кто там был?
– Шахурин… Реденс, Серго Микоян… и Хмельницкий.
– Хорошо, и что дальше?
– Ну, потом «чапаевцы» надоели, и мы стали обсуждать – кто, где летом. Договорились встречаться на даче сразу после начала каникул – на великах нам друг до друга не очень далеко добираться. Хотели вместе кататься, купаться, правда, не все могли…
– Это несущественно. Вы к теме переходите!
– А потом Володя говорит: «Мы скушно живём: школа – уроки, школа – уроки. Давайте изменим нашу организацию. Я предлагаю назвать её «Четвёртая Империя». И хочу, чтобы мне присвоили звание «рейхсфюрера». Мы удивились: зачем такое название?
– Кто удивился?
– Да все. Вот… он тогда говорит, что будем голосовать… а Реденс, по‑моему, возразил: «Да что тут голосовать?! Только одного тебя эта чушь интересует»… Ну, тогда Володя захотел всё объяснить, а Тёмка предложил перенести разговор, пока все не соберутся. На этом и закончили. А дальше – Шахурин застрелился.
– Да, гражданин Барабанов, горазд ты песни петь. Правду говори! Не виляй! – Перейдя на «ты», генерал от госбезопасности грохнул кулаком по столу.
От неожиданности Лёня съёжился, затравленно посмотрев на мучителя, и, заикаясь от страха, пролепетал:
– Я, ч‑честное слово, не виляю… Вы сп‑просите у остальных, как было. Я ничего не придумал.
– Точно?!
– Гражданин следователь! Я и вправду рассказал одну только правду!
– Ладно, посмотрим. Хочется верить, что не врешь… А как ты посмотришь на моё предложение отправиться домой прямо из этого кабинета?
– Я?! Согласен.
– Помоги мне найти ответ на один неясный вопрос, и мы серьёзно обсудим эту возможность.
– ?!
– Кое‑кто из твоих «друзей» показал, что, со слов Шахурина, был какой‑то человек… то ли знакомый, то ли родственник, консультировавший его по поводу немецких воинских званий… Или, может, я ошибаюсь? Может быть, это кто‑то из приятелей других членов вашего общества?