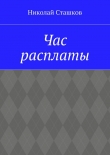Текст книги "Тёмная ночь"
Автор книги: Алексей Биргер
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Предположение. Может, и глупое. Когда я влезаю в шкуру Кирзача, мне кажется, что он, понимая, насколько Бернес сейчас охраной окружен, постарается до него под видом работника какой-то службы добраться. Газовщика, там, почтальона, электрика. Кого-то из тех людей, на которых никто внимания не обращает и которых любая охрана пропустит...
– Дельная мысль, – сказал полковник. – И откуда ты все эти мысли берешь?
Высик помедлил, потом ответил:
– Интуиция.
Полковник поглядел на Высика очень серьезно.
– Я знаю, что это интуиция, – сказал он. – Только никому больше об этом не говори.
19
Кирзач сумел выбраться из Владимира, не столкнувшись ни с одним милицейским патрулем, на пригородный поезд сел за Владимиром. Поезд шел не до Москвы, а лишь до Петушков – которым еще только предстояло прославиться – и Кирзача это вполне устраивало. В Петушках можно взять паузу, найти место, где удастся спокойно отлежаться, все обдумать перед решающим броском.
Поезд был ранний, не очень забитый, и Кирзач, устроившись у окна на совершенно свободной скамье, попытался вздремнуть. Жрать хотелось – да пожрать и стоило бы. Кирзач понимал, что распространяет вокруг себя волны перегара, после вчерашнего-то, и что всего лишь поэтому милиция может придраться. Стаканчик подкрашенного пойла, именуемого чаем, и затхлый пирожок в ближайшей забегаловке Петушков помогут избавиться от этого ненавистного для милиции амбре. Надо же было так глупо... вздохнул про себя Кирзач – и тут ощутил запах опасности.
Кирзач всегда очень четко улавливал этот запах, а за последние дни это его глубинное чутье обострилось до последней степени; точно так же, как обострились и все иные желания и ощущения, идущие от первобытного, от той животной основы, которая сохраняется в каждом человеке, желание рвать зубами мясо, желание схватить самку, желание убивать, перерастающее в хитрое, на уровне инстинкта, понимание, как это сделать так, чтобы не быть убитым самому.
Можно было бы сказать, что его реакции стали целиком и полностью реакциями дикого зверя, если б не одно "но". Прежде всего, его реакции были реакциями цепного пса – достаточно хранящего в себе подшкурную память дикой жизни, чтобы уцелеть в любых ситуациях, если сорвется с цепи, способного и к волчьей стае примкнуть и сойти в ней за своего, но прежде всего и выше всего ставящего волю и окрик хозяина. Скажем, он понимал, что Уральский, Волнорез и Губан его уже продали, не могли не продать, если сами хотят выжить после того, как он зарезал Степняка и забрал общаковские деньги, но у него никогда рука не подымется нанести им удар. Они поставили перед ним великую цель, такую цель, до которой он сам в жизни бы не додумался – поэтому он должен терпеть от них все, они и предают его ради того, чтобы очистить ему дорогу к цели. Хозяин всегда прав.
Эта психика цепного пса в чем-то сужала его кругозор и его понимание действительности, а в чем-то, наоборот, расширяла.
И вот сейчас он этой психикой – повторяю, не дикого зверя, а цепного пса – уловил угрозу.
Угроза эта исходила от мужичонки в кепке, который, сперва сидя через скамью от него, потом переместившись на соседнюю скамью, наблюдал за ним. Лицо мужичонки показалось ему смутно знакомым.
Все выяснилось довольно быстро. Мужичонка перебрался к нему и шепнул:
– Кирзач?..
Кирзач ответил, с напряжением:
– Вы о чем?..
– Да я ж тебя признал!
– Мы, что ль, встречались?
– Брось, Кирзач, не скрипи! Забыл, как мы в лагере вместе мотали?
Тут Кирзач и признал мужичонку, который, правда, на себя был непохож, с напущенной небритостью и этим мелким дрожанием всего лица, какое бывает у алкоголиков. Точно, Штиблет, на поверках – Чугунин Епитафий Егорович, пользовавшийся доверием самых угрюмых воров в законе, обладавший удивительным нюхом – любого "наседку" раскусывал за две секунды и паханам скидывал, что этот, мол, наседка, а уж паханы решали, удавить или поиграть с парнем в свою игру. Расколотый "наседка" – это не то, что новый, неизвестный, расколотого можно заставить сообщать то, что паханам надобно, и жить спокойно.
Штиблета вполне можно было назвать супершпионом воровского мира. Ему поручали распутать такие случаи, которые бы никто, кроме него, не распутал. И его донесения, что и как, проверкам не подлежали: раз Штиблет сказал, значит, так оно и есть, сомневаться не стоит.
Если эта встреча не случайна, если Штиблета – лучшего из лучших – пустили по его следу, то дела Кирзача плохи. За взятие общака его собираются казнить так, чтобы другим неповадно было. И розыск налажен лучше, чем у любой милиции...
По лагерям ходили байки, как Сталин казнил генерала Власова, когда заполучил наконец в свои руки. Мол, сперва тонкой струной душили и отпускали, потом за ребра на крюк повесили, умирать, потом, недоумершего, живьем сожгли... Правда это было или нет, но Кирзач не сомневался, что паханы вполне могут придумать для него нечто подобное, если живым поймают. В определенном смысле, для Кирзача сейчас безопасней и спокойней всего было бы в камере смертников... но до этой камеры еще надо добраться, совершив такое, о чем и сто лет спустя во всем блатном мире будут сказы травить, и с каждым сказом, с каждым поколением, легенда о Кирзаче, тряхнувшем все государство и самому генсеку натянувшем нос, будет становиться все ярче и забористей... Тогда-то простятся ему и взятый общак, и многое другое.
Случайна или нет встреча, но не признать Штиблета было бы совсем глупо.
– Здорово, Штиблет, – вполголоса отозвался Кирзач.
– Вот так-то лучше, – Штиблет переместился через проход, присел рядом с Кирзачом. – Натворил ты делов, браток. Даже до меня докатилось.
– До тебя-то, небось, в первую очередь, – криво усмехнулся Кирзач.
– Зря ты так. И деньгами поделиться я тебя не попрошу, за молчание. Опасные это деньги, руки насквозь прожгут. Не хочу, чтобы меня рядом с тобой положили. Но помочь – помогу. Хорошие люди просили помочь, коли встречу. Те, которые всей душой, чтобы ты свое дело до конца довел и все это государство фраеров оскандалил. Если я тебе помогу, и при этом общаковские бабки с тебя не сниму, то я чист буду во всем, и перед теми, и перед другими. Никто мне никакую предъяву не сделает. Но и ты про меня не расколись, если тебя легаши заметут.
Кирзач напряженно соображал. Точнее, нутро у него напряглось, подсказывая правильные решения, потому что нельзя было назвать мыслительным процессом то, что происходило у него в башке. Вроде, очень складно Штиблет поет. И еще два месяца назад Кирзач этому пению поверил бы. Но теперь он угадывал, по каким-то волнам, исходившим от Штиблета: тот закинул одну из своих психологически точных наживок, на которые собеседник должен клюнуть и с радостной душой побежать за Штиблетом, куда он поведет – на убой. В самом деле, что может быть убедительней, чем отказ от денег, потому что за общаковские деньги зарежут, соединенный с готовностью помочь, потому что большие паханы помочь распорядились. Мол, я на твоей стороне, но так, чтобы не поссориться ни с теми, ни с другими...
На самом деле, Кирзач знал – ЗНАЛ, тем знанием, которое берется ниоткуда и которое объяснить невозможно – что Штиблет заманивает его в ловушку.
– Ты специально меня искал? – спросил Кирзач.
– Не то, чтоб... Я догадывался, что ты где-то в наших краях привал сделаешь.
– Почему?
– В Калугу бы ты не сунулся, факт. А человек обычно выбирает место, прямо противоположное тому, где его ждут с нелюбовью. Что у нас прямо противоположное от Калуги, если через Москву поглядеть? Правильно, Владимир, Иваново... Но до Иванова ты бы не доскакал. Значит, Владимир, вернее всего. Ярославль и Калинин я тоже исключил. А мне все равно во Владимир надо было скататься, старому корешу, который в централе сейчас, передачку закинуть. Дай, думаю, пошукаю по городу, чем черт не шутит, когда Бог спит. И точно, навел на тебя чертяка. Сам-то я теперь в Петушках живу, хата хорошая. Так что могу пригреть тебя на денек-другой.
"Врешь ты все, – думал Кирзач. – И "хату" в Петушках, на отшибе каком-нибудь, без хозяев, хозяева в другом месте живут, вы сняли на неделю, чтобы меня закопать. Засада в хате, точно. Только как, все-таки, ты меня вычислил и выследил, Штиблет? Как угадал, что я через Петушки двигаться буду? Да, равных тебе нет... Даже жаль, что придется тебя положить, мы б с тобой таких делов еще натворили бы, по-иному судьба карты кинь."
А речи Штиблета журчали плавно – успокаивали и расслабляли, и Кирзач подыграл, изобразил расслабленность и успокоенность.
– Тихая хата – это хорошо, – сказал он. – Да мне бы буквально денек перекантоваться.
– И день, и два, и три, сколько надо, – отозвался Штиблет.
– Заметано, – пробормотал Кирзач.
– Чего ты такой смурной? – поинтересовался Штиблет. – Не на ту девку поставил?
И как Штиблет угадывает, будто со свечкой стоял?..
– Не на ту, – буркнул Кирзач. – Алкоголичкой оказалась и к ментам загремела. Ну, и...
– А вот не надо легкие пути искать, – назидательным тоном прошептал Штиблет. – Не ту девку снимай, на которую на первую глаз ляжет, а ту, которую выберешь из трех-четырех, сперва угостив да поглядев, кто как себя во хмелю ведет.
– Если б я трех-четырех стал в ресторане поить-кормить, меня бы или менты срисовали, или одна из них меня опознала по ментовской фотке, да и сдала бы. Если б я щипачем или кем был бы, может, и промолчала бы, а мокрушников сразу сливают, чтобы соучастницей по мокрому делу не записали. И, к тому же, среди них всегда стукачки водятся... Из четырех – на одну точно нарвешься, тут тебе и кранты...
– Да кто ж говорит, что в ресторане, на виду у всех, да еще без соображения, какая девка с ментами повязана? Повязанных с ментами сразу узнаешь, они смелее прочих себя ведут. С умом все надо делать, с умом...
– Спасибо за науку.
– Да чего мне тебя учить? Ты и сам бывалый... О, к Петушкам подъезжаем. Пошли на выход?
Кирзач сошел на платформу следом за Штиблетом, и Штиблет повел его через все Петушки.
Все правильно, они пришли в дом на отшибе, окруженный огромным запущенным садом. Скоро таких садов не будет, Хрущев распорядится "отрезать излишки земли". И Высик опять вздохнет, катаясь по окрестным деревням и осуществляя постановление генсека: качели, они и есть, только-только колхозникам паспорта вернул, за что вся деревня на лысого молиться была готова, как на тебе... вместо молитв проклятия сыплются, и часть проклятий самому Высику достается.
В таком саду схоронить – вовек трупа не обнаружат, подумалось Кирзачу. Хорошо Штиблет придумал, только того не учел, что у Кирзача новое свойство откроется: мысли других людей словно рентгеном видеть. Свойство смертника, наверное. Одно надо решить, сейчас Штиблета укладывать или пересидеть у него несколько часов. Штиблет мог по двум вариантам пойти: или засада уже в доме ждет, или он вызовет забойщиков, когда убедится, что Кирзач совсем размяк и Штиблету во всем доверяет.
Сейчас надо укладывать, метров за десять до порога крыльца, решил Кирзач. И метров за десять до порога он обхватил Штиблета сзади и с ходу резанул его финкой по горлу. Потом отскочил, чтобы самому кровью не запачкаться.
И тут же из дому грянули выстрелы. Кирзач отпрыгнул, укрылся за толстым кривым стволом старой яблони, потом, согнувшись, перебежками, от ствола к стволу стал уходить из сада. Из дому выскочили пятеро. Кирзач, в это время переместившийся за густую поросль малинника, почувствовал, как обожгло его руку. Умелые стрелки, чтоб их... Но Кирзач уже успел уйти настолько далеко, что засаде не достать. Крадучись, согнувшись в три погибели, он стал выбираться к городку, к скоплению домов. Из Петушков срочно линять надо... А дальше? А дальше – соображу.
20
Когда Высик, приняв командование от Никанорова, убедившись, что в его отсутствие все было правильно и даже более, чем правильно, разобравшись с текущими делами, под вечер заглянул к врачу, Игорь Алексеевич налаживал совершенно фантастический аппарат. Вроде, магнитофон, но от советских магнитофонов, которые Высику доводилось видеть прежде, отличается так, как океанский лайнер отличается от лодки-долбленки.
– Откуда у вас это чудо? – не утерпел Высик.
– Вообще-то, из Швеции, с чемпионата мира по футболу.
– А до вас как оно добралось?
– Только что, от пациента. Вы не поверите, кого я от сердечного приступа откачал!..
– В "Красном Химике", что ль? – сразу догадался Высик.
"Красный Химик" был "элитным" дачным поселком, где обитали крупнейшие ученые. И публика к ним в гости съезжалась соответствующая.
– Точно.
– И к кому ж вас вызвали?
– Я ж говорю, не поверите... К самому, – врач даже голос понизил, – Андрею Николаевичу!
– Бросьте! – даже Высика проняло.
Андрей Николаевич – его так привыкли называть уважительно, по имени-отчеству, что фамилию можно и не упоминать; а так, и спустя двести лет, наверное, эта фамилия у любого болельщика от зубов отскочит – был много лет капитаном самой популярной футбольной команды... И, как считали многие, лучшим задним защитником в истории советского футбола. Так он же не только защищался, он заколачивал столько, что многие форварды позавидовали бы. Потом он почти десять дет отмотал в лагерях – вроде, Берия обозлился на всю команду и на капитана в первую очередь – хорошо, для болельщиков, что обломали его не на взлете карьеры, как Стрельцова, а уже на исходе, ему-то от этого не легче, но, считай, пятнадцать лет он болельщиков радовал... И выпустили его одним из первых, и сразу он в легенды вернулся, страна чуть не на руках его от лагерей до дому готова была донести, а этим, уходящим, летом, он стал одним из руководителей нашей команды, и во многом его заслуга была в том, что наша команда, на первом же чемпионате мира, на который выехала, так высоко подскочила, он игру ставил, особенно в обороне. И еще – шила в мешке не утаишь – все знали, что он изо всех сил Стрельцова отбивал, перед высшими чинами. Да, вот так народный телеграф устроен: вроде, ни в одной газете никакой информации нет, а миллионам известно, что Андрей Николаевич за Стрельцова и прочих торпедовцев воевал....
– Именно так, – кивнул врач. – Поступил срочный вызов, на дачу академика Петренко. Примчался, а там сам академик, два народных артиста из МХАТ, еще всякая знатная публика, и все говорят: вот, откачивайте Андрея Николаевича. Ну, там пустяки оказались, моментально в порядок привел, а Андрей Николаевич мне и говорит: я, говорит, хочу вас отблагодарить, но не знаю, как, может, вы этот магнитофон возьмете? И описывает мне историю этого магнитофона: когда он в Швецию отбывал, на чемпионат, дочка его попросила хороший магнитофон ей купить. Он и подобрал самый, по его разумению, лучший. А дочка засмущалась и испугалась: мол, таким хорошим магнитофоном ей и пользоваться боязно. Если сломает, вовек себе не простит. В общем, решили продать магнитофон кому-нибудь, кому он как профессионалу может пригодиться. Актеру, например, которому, когда репетирует, качество звукозаписи очень важно – надо ж проверять, как твой голос звучит. Или музыканту, или какому-нибудь ученому, которому хороший магнитофон в работе нужен... И тут – вдруг – этот магнитофон мне суют! Я, естественно, отказываюсь, что не имею права такой дорогой подарок принимать, и что ничего я не сделал особенного, но тут уж все на меня насели, и сам академик Петренко мне сказал: берите, берите, отказом вы очень обидите. Мы все давно вас знаем, и, честное слово, к вам обращаемся с более спокойной душой, чем в городе ко всем этим врачам самых престижных и закрытых ведомственных клиник. Даже жалко, что такой хороший врач в глухом углу пропадает. Ну, я ответил в том смысле, что спасибо, конечно, на добром слове, но жалеть меня не надо, в хорошую московскую клинику переезжаю, последние дни здесь дорабатываю. Ну, тут они и поздравили меня, и повздыхали, что теперь летом медицинское обслуживание будет не на прежнем уровне, и сказали, что прощальный подарок я тем более обязан принять... Вот так. И еще две пленки мне дали, к магнитофону. Какой-то новый исполнитель появился, вроде Вертинского – в смысле, собственные песни исполняет, на свои стихи и музыку – я в его собственном исполнении еще ничего не слышал, хотя две-три песни знакомые исполняли, под гитару... Некий Булат Окуджава. Не встречалось вам такое имя?
– Нет, – ответил Высик. – Не встречалось.
– Ну, значит, вместе сейчас и послушаем.
Врач зарядил первую бобину в магнитофон, включил воспроизведение. Высик не мог от магнитофона глаз оторвать, и сперва даже не очень воспринимал то, что пел неизвестный молодой шансонье. А потом включился, на такой "Песенке про Леньку Королева" его зацепило. Что-то очень тихое и правдивое в этой песне было – та грусть, которую, показалось ему, только люди, через фронт прошедшие, и могут верно передать: чистой-чистой нотой... И сразу вся война живо вспомнилась, и ушедшие друзья перед глазами возникли... Высику даже немного обидно сделалось, что этот Окуджава заставляет его, человека тертого и закрытого, так остро переживать и с такой полнотой возвращаться в прошлое. Но обида стиралась тем, что это прошлое в будущее было распахнутым, как ни странно. Вот Высик и слушал дальше, и они с врачом молча прослушали "Неистов и упрям, Гори, огонь, гори...", и про “Не бродяги, не пропойцы…”, и про “Вы слышите, грохочут сапоги…” и еще несколько песен, и Игорь Алексеевич, ни слова не говоря, стараясь лишний раз стеклом не звякнуть, развел чистого медицинского, протянул Высику мензурку – мензурки всегда у них шли вместо стопариков...
Высик прислушался, перед тем, как стопарик опрокинуть. Этот самый Окуджава запел как раз:
А что я сказал медсестре Марии,
когда обнимал ее?..
А поле клевера было под нами,
тихое, как река.
И волны клевера набегали,
и мы качались на них.
И Мария, раскинув руки,
плыла по этой реке.
И были черными и бездонными
голубые ее глаза…
Высик застыл, почти оцепенев слушал. И само имя, и даже то, что эта Мария из песни тоже была медсестрой, в годы войны… Дух захолонуло, и так ярко всплыло все упущенное, утраченное, несбывшееся. Эта яркость зачеркнутых воспоминаний причинила такую боль, что захотелось Высику найти в Окуджаве какие-нибудь недостатки – чтобы боль уменьшить, заглушив придирками…
Он хлопнул стопку, перевел дух.
– Душевно, – сказал Высик. – Почти как Марк Бернес поет, а? Хотя... с Вертинским не сравнить. У Вертинского красивее.
– Красивее?..
– Ну да. Сами ж понимаете. Там и танго, сингапурское с палестинским, и бразильский крейсер, и все у него... в красочном, сияющем мире таком существует. И даже когда он про войну поет, или про степь молдаванскую, или про зимний терновник на холодном ветру, все равно, будто тебя самого в иной мир уносит. Хотя чувства – твои, правдивые. Но ты с этими чувствами будто на свободу вырываешься, и за время песни успеваешь пожить так, как, может, никогда без Вертинского не пожил бы. А у этого Окуджавы... Тоже все правильно, тоже, я вот чувствую... то самое. В точку. Но что у него? Дворы, радиолы... Пыль, да. И про огонь... красиво написано, но сразу чувствуется, что огонь в землянке горит, а не в камине.
– А хочется, чтобы в камине горел?
– Да, – кивнул Высик. И запнулся. – Вы ж понимаете, о чем я? Я, может, путано...
– А эти песни, мне кажется, и должны вкрадываться тихо, медленно... Тихой правдой звучать. Вот, вы Бернеса припомнили. Так когда Бернес поет "Темную ночь..." или "Я по свету немало хаживал..." – там тоже все из нашей жизни. Однако ж мы не обижаемся, что слишком просто, а?
Высик еще хмурился, обдумывая, как возразить – он улавливал разницу, но нужные слова не приходили на ум, чтобы эту разницу описать – когда врач добавил:
– Кстати, через два дня и сам Бернес у Петренко будет. Меня приглашали зайти, познакомиться. Может, и споет, для своих. Он же сейчас все концерты отменил на месяц и, вроде, под охраной ходит – угрожали его жизни, что ли...
У Высика все другие мысли мгновенно вылетели из головы.
– Бернес?!.. – повернулся он к врачу.
21
От врача Высик брел к себе домой в глубокой задумчивости. Придя, он сразу позвонил Шалому.
– Новости есть?
– Есть, командир. Кирзач ушел от засады и самого Штиблета завалил. Если знаешь, кто такой Штиблет.
– Кое-что доходило. По-моему, от тебя же и слышал. Когда это произошло?
– Два дня назад, в Петушках. Милиция ничего не знает. Труп Штиблета тихо схоронили, чтобы лишнего шуму не было. И ты уж их не просвещай.
– Разумеется. Два дня назад, значит?
– Да. Я бы тебе быстрее сообщил, но сам только узнал. И еще одно. Кирзач ранен. В левую руку, выше локтя. Может, и бок задело. Трудно сказать. Больно быстро он смотаться успел.
– Раненый или нет, но он, надо думать, уже в Москве, – мрачно подытожил Высик.
– Или где-то в ближнем Подмосковье залег.
– Но след его напрочь потерян?
– Похоже, да.
– Ладно, будем думать.
– Может, мне прилететь к тебе, командир?
– Не стоит. Завтра перезвонимся.
– Тогда до завтра.
– До завтра.
Высик, шлепнув трубку на рычаг, совсем забылся в размышлениях. Наступал момент, которого он никому не мог доверить, даже полковнику Переводову... Хотя к полковнику Высик проникся глубочайшим уважением. И даже то, что полковник скрыл от него: Бернес побывает в его районе, обязательно побывает, хотя сам Высик излагал полковнику версию, что Кирзач в его районе скорей всего на убийство пойдет… Мог после этого Переводов поделиться с Высиком, мог. Но не поделился. Малость слукавил, можно считать. Что ж, может, все и правильно, по оперативной надобности. Но теперь и Высик мог в чем-то слукавить, о чем-то умолчать. Полное право имел.
Да, но при этом… Предстояло все решать самому – и на все-провсе были лишь одни сутки.
Высик до утра не спал. И врач тоже. Кроме всего прочего, получил он от академика машинописную копию – чуть не под четвертую копирку – большого цикла стихов Пастернака, озаглавленного "Стихи из романа", и про этот роман, к которому относились стихи, уже шла дурная молва, что роман во властях не понравился. Первые грозные статьи в центральных газетах уже мелькнули, и никто не знал, утихнет на этом гроза или пройдет стороной.
Вспомнились почему-то стихи фронтового поэта, написавшего про жизнь а окопах: "...Когда веселый Николай Отрада Читал мне Пастернака на бегу..." Как и большинство поэтов, этот попал в ополчение, а из ополчения почти никто не выжил... Но само чтение стихов Пастернака было обозначением свободы, практически недоступной в мирной жизни – той свободы, ради которой и на передовой можно было оказаться. Как Игорь Алексеевич узнает потом, сам Пастернак в финале романа про это написал – и очень точно – да, про ту свободу, про ту легкость дыхания, которую подарила война...
А пока, сам Игорь Алексеевич чувствовал себя как в окопах, начиная с первых строк, в стихотворении "Гамлет":
Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку...
И понеслось, и потекло. Было понятно, что стихи про Магдалину и Христа вряд ли в печать проскочат... Хотя, кто его знает, в наше время качелей. Но почему-то верилось, что сам роман будет издан, и станет ясно, что же это за проза, завершением которой становятся такие стихи...
Врач ничего не сказал Высику об этой подборке не потому, что Высику не доверял – между ним и Высиком доверие существовало полное, еще с самых страшных и тяжелых времен. Просто врач воспринимал Высика человеком антипоэтическим, которому всякие подборки до лампочки. Конечно, Высик сохранил архив Игоря Алексеевича, чтобы архив при аресте не погиб, и очень живо воспринял некогда Бодлера, которого врач продекламировал ему по французски, сразу на русский переведя – но в все это было, так сказать, в пределах личного, в пределах того, что так или иначе непосредственно затрагивало, по биографии, а чтобы Высик, вне непосредственного соприкосновения с личным, как-то отреагировал на стихи, не положенные на музыку – нет, такого просто быть не могло.
Уже подступало утро, а врач все читал.
...Я вдруг припомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне...
Шестое, по старому, это девятнадцатое на нынешний лад. Но было уже не девятнадцатое, было двадцать четвертое.
Когда врач поднял голову от бледной копии и взглянул на рассвет, то – двадцать четвертого августа тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года – в Голландии уже задвигались фургоны из типографии. Наступал первый день продажи первого тиража "Доктора Живаго".
И отсюда пойдет, по нарастающей. Лай в газетах сделается все громче, а ровно через два месяца, двадцать четвертого октября, Пастернаку присудят Нобелевскую премию. И качели Хрущева вдруг резко качнутся вниз.
А пока, врач читал и перечитывал:
…Я в гроб сойду, и в третий день восстану,
И, как справляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
22
Высик тоже подскочил до рассвета, едва-едва на исходе ночи задремав. После разговора с Шалым он попробовал лечь спать, но сон ему привиделся – дикий, смурной, с которым надолго не заспишься.
Прежде всего, он Марию увидел. Она будто над землей скользила, такая же красивая и молодая, как одиннадцать лет назад, и только странная отрешенность ее взгляда была указанием на возраст – такой взгляд может быть только у людей, изрядно поживших, переживающих вторую, искусственную в чем-то, молодость, и эта искусственность ощутима.
– Я и сам... – сказал ей Высик. – Мне уже за сорок, понимаешь?
Она молча кивнула.
– Ты куда? – проговорил Высик. – Спешишь? Я пойду за тобой.
– Не ходи, – сказала она после паузы.
– Почему?
– Потому что я – твоя смерть.
Высик не растерялся и не испугался. Он ответил как-то очень спокойно и естественно:
– Как будто без тебя у меня есть жизнь. Нет жизни, понимаешь?
– Жизнь всегда есть, – возразила она. – И радоваться ты еще будешь.
Она продолжала двигаться, Высик шел рядом.
– Мне не тебя страшно, – сказал он. – Мне за тебя страшно.
Теперь она спросила:
– Почему?
– Потому что он где-то рядом. Этот бешеный убийца.
– Да, – отозвалась она. – Завтра он будет вот здесь.
Высик огляделся. Незаметно для него, они подошли к станции, к железнодорожным путям. Правее был переезд, от которого отходила дорога на "Красный химик", левее – пристанционная забегаловка и служебные строения. Дверь одной из подзобок была приоткрыта.
– Иди сюда, – Мария повлекла его за руку в эту дверь, и они будто провалились в золотистый полумрак, и Мария сразу сделалась серьезней и старше, и она обвила его шею руками, и так жадно впилась губами в его губы... В этом поцелуе исчезло время, все исчезло.
Не понять, сколько длился этот поцелуй – ту короткую вечность, ради которой можно любой другой вечностью поступиться. Высик обхватил Марию, изо всех сил прижимая к себе, боясь отпустить хоть на долю секунды... А она вдруг стала таять, уходить, и вот уже Высик беспомощно обнимает воздух, а Мария оказалась в зеркале, большом и запыленном, невесть откуда взявшемся в подзобке, Высик рукавом стер пыль с зеркала, и увидел, как там, в зазеркалье, Мария движется и уходит, и Высик ничего не мог сделать.
И ледяной сквознячок пробежал откуда-то, шевельнул его волосы. Высик оглянулся, потом опять повернулся к зеркалу, увидел лишь свое собственное отражение, пригладил волосы рукой. И тут его отражение начало мутнеть, расплываться, и вместо лица Высика возникло лицо Кирзача.
Кирзач и Высик со злобой глядели друг на друга.
И Высик проснулся.
Наскоро позавтракав, он первым делом прогулялся к Семенихину.
– Больше никаких вестей от Кирзача? – осведомился Высик.
– А?.. – Семенихин запнулся. Он, видно, хотел спросить: "А откуда вы знаете, что Кирзач голос подавал?" – потом сообразил, что к чему.
– Дурак ты, – сказал Высик. – Кирзач совсем спятил, он убивает всех, встречающихся на пути, в том числе и тех, кто ему приют дает. Он убил старого вора, держателя общака, и общак забрал, теперь весь блатной мир за ним охотится. Не дошло еще об этом до тебя, по блатной почте?
– Нет... – промямлил Семенихин. – Не дошло.
– Так теперь имей в виду. Твоя жизнь на волоске висит. И будет висеть на волоске до завтрашнего дня.
– Почему до завтрашнего?..
– Потому что завтра я с Кирзачом покончу. Не без твоей помощи.
– Но если он у меня появится...
– Да, тебе хана. Вот и сделай так, чтобы он появился в твое отсутствие. Ключи от дома ему оставь, где-нибудь под крылечком, ну, так, чтобы он догадался – или, может, насчет ключей у вас с давних времен условлено? – жратвы ему оставь, то да се...
– Но вы ж... Вы ж не в моем доме его убьете? Мне потом...
– За это не волнуйся. Все, что от тебя требуется: записку ему чиркнуть. Мол, дорогой Кирзач, должен уехать на три дня, но, зная, что в любой момент ты объявиться можешь, оставляю тебе дом в полном порядке. Только сиди тихо, будто в доме никого нет, вокруг так и рыскают, тебя вынюхивают, меня уже два раза трясли, не знаю ли я чего. И добавь: если без меня уходить из района вздумаешь, то держись дороги от железнодорожного переезда к "Красному химику". Там милиция меньше всего проверяет, считая, что по этой дороге тебе нет никакого смысла уходить. Приблизительно так. Ну, своим языком изложишь, с такими деталями, чтобы Кирзач все съел.
– Понимаю... – протянул Семенихин.
– Может, понимаешь. А может, нет. В общем, катай записку и смывайся куда-нибудь подальше. Родственников навестить, или, там... Или оставайся. Так и быть, за государственный счет похороним.
– Шуточки у вас...
– Это не шуточки. Это, Семенихин, горькая правда жизни.
Разделавшись с Семенихиным, Высик направился в отделение.
Там его настиг звонок от полковника Переводова.
– Опять ушел Кирзач, – сообщил полковник. – Чудом от нас улизнул. Так что теперь держи ухо востро. Вдруг и впрямь в твоем районе нарисуется, счеты с тобой свести. Тем более, что завтра Марк Бернес...
– Знаю, – ответил Высик. – Меня другое интересует. Откуда Кирзач может знать, что именно завтра, двадцать пятого августа, Марк Бернес будет академика Петренко?
– Так об этом же в газетах писали, – сообщил полковник. – Месяца два-три назад. У Петренко юбилей приближается, шестьдесят лет. Вот он и рассказывал, в "Труде" и в "Комсомолке" это прошло, что в сам день рождения он хочет быть только на даче, среди ближайших друзей, а уж все официальные торжества, банкеты, прием в Кремле и получение ордена – это потом, в последующие дни. И сказал он эту фразу: "Может, и Марк Бернес подъедет..." Сам понимаешь, воры тоже газеты читают.
Итак, изложил полковник то, что скрывал от Высика. Выходит, напряжение наверху достигло высшего предела.