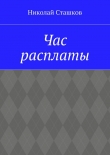Текст книги "Тёмная ночь"
Автор книги: Алексей Биргер
Жанры:
Криминальные детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
У Высика до сих пор было четкое ощущение, что мимо него самого гроза стороной прошла, что какое-то чудо его миловало…
И этот фестиваль прошлого года... Перед самым фестивалем привезли к ним фургон нищих – в основном, безрукие и безногие инвалиды войны, "самовары", уцелевшие после сталинских чисток, собиравшие подаяние на кладбищах, на папертях редких уцелевших церквей и в других подобных местах. Велели отпереть давно закрытые гнилые бараки в конце товарного тупика да и сселить их туда: мол, не должны иностранцы такого видеть, после фестиваля вернуться разрешим. О кормежке и нормальном устройстве этих калек с орденскими планками никто и не думал позаботиться. Коллеги потом еще поздравляли Высика: мол, к тебе еще мало этого человеческого мусора свалили, а ты бы видел, что в других районах делалось и сколько мы горя хлебнули...
Таким и остался фестиваль в памяти Высика: не разноцветным вихрем празднества под голубыми небесами, не смехом и единением народов, а грязным бараком, куда – удалось Высику добиться – раз в день приезжала старая полевая кухня с жидким варевом, от столовки при заводе металлоизделий.
Много позже – по причинам и схожим, и совсем иным – Московская Олимпиада оставит у него такой же темный и мрачный осадок. И будет он по западным "голосам" ловить информацию о смерти Высоцкого, о том, как проходят похороны...
И это яростное наступление на церковь – инвалиды на папертях вспомнить заставили... Высик был воспитан в отрицательном отношении к церкви и к священству относился не без пренебрежения, но понять, зачем надо хватать и сажать людей, которым нравится креститься и делать прочие глупости, никак не мог. Ну, обложите верующих такими налогами, чтоб им неповадно было, и государству польза выйдет, но зачем с такой яростью ногами топтать... Не убивают, не грабят. Больше того, мир и добро проповедуют. Допустим, не наши мир и добро, и делу строительства социализма они, объективно, мешают, потому что на настоящую общественную жизнь плюют, но весь этот народец и сам по себе вымрет, все меньше их становится...
Да, думал Высик, странное время на дворе. Время больших качаний. С одной стороны, иностранцев принимаем, и спортсменов стали на олимпиады и чемпионаты отпускать, и в Москве зарубежные газеты в продаже появились – коммунистические, конечно, "Юманитэ" и прочие, но ведь раньше за любую газету на английском или французском, даже коммунистическую, можно было срок словить, а теперь, открыто покупай и читай... И пишут там, говорят, намного больше, чем в наших газетах, о том, что в мире делается... А с другой стороны, самую малость надо, чтобы тебя чуть ли не в предатели родины записали.
И где она, эта грань?
Раньше-то все ясно было. Тебя брали и сажали, просто потому, что пришел твой срок, по независящим от тебя причинам. Или на лесоповале рабочей силы стало не хватать, или надо другим напомнить, что неприкосновенных нет, чтобы отчаянней крутились и лучше работали, или... Неважно, сколько "или" существовало. Главное, что теперь-то от тебя стало что-то зависеть, можно рыпнуться, теперь не посадят ни за что, но и четких границ, как далеко высовываться позволено, никто не удосужился очертить. Сам должен выяснять, методом собственных проб и ошибок. И так получается, что, пока за пределы дозволенного ты не вылез, все в порядке. А стоит вылезти – поздно голову назад втягивать, с такой скоростью врежут по голове, что каюк...
А главное, когда ты видишь, что можно высунуться чуть дальше, потом еще чуть дальше, потом еще чуть дальше, и ничего не происходит, то практически невозможно преодолеть жгучий соблазн, детский по сути, продолжать испытывать судьбу.
Высику стало неуютно, будто на сквозном ледяном ветру, и он даже поежился.
Или, этих инвалидов взять. Что стоило позаботиться о достойной жизни для таких инвалидов человеку, который во весь голос сказал, что было преступлением против собственного народа считать каждого, попавшего в плен, предателем и потенциальным диверсантом, относиться так даже к людям, прошедшим нацистские концлагеря или угнанным на работу в Германию, считать себя заранее вправе посадить любого, кто успел побывать "под врагом", на оккупированной территории, третировать семьи пропавших без вести: мол, вы еще сами докажите, что ваш отец или муж где-то погиб, а не продался врагу и теперь где-то прячется... Нет, больше такого никогда не будет, сказал он, и у нас люди, перенесшие муки плена и оккупации, должны быть окружены таким же уважением, как во всех странах. И если кто-то виноват, то еще надо доказать, что он виновен.
Миллионам уважение и надежду вернул – а множество жизней продолжает походя растаптывать...
Высику еще предстояло увидеть, в ближайшем будущем, процесс валютчиков, когда законы будут писаться задним числом и иметь обратную силу, чтобы двадцатидвухлетнему парню можно было дать расстрел вместо положенных ему от трех до восьми, предстояло увидеть и другие расправы... В принципе – скажем, забегая вперед – жестокость по отношению к валютчикам Высик одобрил, как одобрял и многое другое, и посчитал, что по высшей справедливости все правильно. Но Высик никогда не уважал и терпеть не мог топорную работу, когда всему свету демонстрируют, что дело белыми нитками шито. Ладно, если прозевали в уголовном кодексе, если нет закона, позволяющего по полной наказать за то или иное преступление, то придумайте, как вмазать преступникам так, чтобы всем, кто подобные преступления замышляет, десять раз икнулось и подумалось – но позориться-то перед всем миром зачем? Зачем давать лишний повод посмеяться над страной и позлословить, зачем сводить к нулю устрашающий для преступников эффект тайной кары? И потом, слишком большой простор для злоупотреблений открывается. Эти новые, ужесточенные "валютные" статьи так коряво впопыхах прописали, что, получалось, подкинь человеку десять долларов, изыми при обыске – и хоть к высшей мере его приговаривай. Высик тогда как в воду глядел. С подобной ситуацией он столкнулся в восьмидесятом году – надо сказать, "разрубил" ее очень жестко, чтобы сам провокатор получил по заслугам...
Да, качели, то вверх, то вниз.
И что-то в этих качелях зацепило Высика, мелькнула смутная, но очень дельная, вроде бы, мысль.
Высик опять стал перебирать все бумаги Повиликина.
Да, вот оно!
Высик глядел на два небольших картонных треугольника, проштемпелеванных насквозь сложным узором, слагавшимся в буквы и в цифры, и сам не верил своей удаче.
16
Полковник Переводов был совершенно прав, когда предположил, что Кирзач будет делать во Владимире. Да не понимай так полковник психологию уголовников, не на своем месте он был бы в начальниках московского угро.
Кирзач, сразу после разговора с Семенихиным, у автобусного вокзала, подцепил пышненькую девчонку, которая, по справке, работала младшей воспитательницей детского сада, а по летнему времени наслаждалась отпуском.
Она так готова была сочетать приятное с полезным, что можно было предположить: "отпуск" у нее – круглый год, и какая-нибудь справка для милиции у нее всегда нарисована, чтобы ее не замели за тунеядство и безнравственный образ жизни. Впрочем, Кирзача это не волновало. Главное, квартирка у нее была подходящая, в старом доме, с выселенными соседями.
В квартире у этой Кати оказалось довольно пристойно. Не сказать, что грязно, хотя и не очень прибрано. Однако ж, держался обычный для таких квартир дух нечистоты, будто наползавший из каждой щели, из-под обоев, въевшийся в обивку дивана и стульев. Возможно, иллюзию нечистоплотности порождала вонь дешевых духов, неистребимая и убийственная. Такое было впечатление, что Катюша прибегает к флакончику с опрыскивателем всякий раз, когда ей нужно освежить воздух, а за тряпку, швабру и мыло ей браться лень. Учитывая, что окна она даже летом предпочитала держать закрытыми – видно, чтобы на улицу не вырывалось лишних звуков, когда у нее "гости" – можно представить, какой изумительной степени свежести достигал этот воздух.
Кирзач все-таки настоял на том, чтобы открыть окна – квартира на втором этаже была – и проветривать хотя бы до тех пор, пока они раздавят первую бутылку и многое сделается до лампочки. Катюша, надо сказать, залихватски дернула и первую стопку, и вторую, и третью. В общем, с бутылкой водки они разобрались в холодную, под лучок и сало, пока Кирзач жарил мясо. Он любил мясо, и любил жарить его сам, чтобы получалось немного с кровью, совсем немного, и чтобы сочное мясо можно было зубами рвать. Дежуря у сковородки и краем уха слушая Катину болтовню, Кирзач размышлял о своем.
Конечно, торчать во Владимире два дня он не собирался. Линять надо часов через восемь, с рассветом. До этого – напоить Катюшу до невменяемости, чтобы у нее день и ночь спутались. То, что девка ее пошиба должна пить как лошадь, Кирзач не сомневался.
Можно было бы убить ее и пересидеть в ее квартире, но зачем?.. Она важнее как живая свидетельница. Когда милиция ее найдет – а то, что милиция начнет сейчас шерстить всех девок, у которых находят приют залетные мужики, Кирзач не сомневался – то сперва ее еще разбудить надо будет и привести в себя, и тогда она расскажет, что ее гость ушел только что. Он и сам создаст видимость, будто ушел совсем недавно, может даже, записку напишет, пометив завтрашним числом.
Словом, он выиграет где-то сутки. Да, сутки. Приказ шерстить девок поступит во Владимир часа через три, не раньше, да пока он разойдется по районным отделениям милиции и по патрулям, пока самые известные квартиры и притоны проверят, пока доберутся до Кати и разбудят ее... Он будет далеко, очень далеко.
А что дальше?
Семенихин, конечно, шкура и сдаст. Это по его голосу было слышно. Интересно, он сам-то просек, что их прослушивают, или нет? Ладно, не в Семенихине дело. У него есть идея, где еще в том районе можно хорошо приземлиться.
Главное, до района добраться, потому что проверять будут все: и железные дороги, и автобусы. Он, конечно, усы отпустил, и нисколько не похож теперь на те фотки, что имеются у легавых, но начеку он должен быть постоянно.
И еще одного он добивается, упаивая Катюшу: того, что она его не усыпит и не обворует, какую-нибудь гадость в водку подмешав. С такими девками надо держать ухо востро. Впрочем, его на мякине не проведешь. Да и Катюша, кажись, поняла, что клиент серьезный, при любых глупых шутках может лицо располосовать, а то и жизни лишить. Вон, как на его татуировки она глядела. Соображает, что такие татуировки означают. Уважением прониклась, да, теперь и не пикнет. Вон, как в глаза заглядывает, ровно преданная собачонка, разве что хвостиком не виляет. Ну, ее-то дело хвостик набок и дырку подставить... Кирзач кинул быстрый взгляд на Катюшу, как она сидит, на стол облокотясь, как язычком по губам гуляет, как грудь у нее из сарафана вываливается, и почувствовал горячее жжение в штанах. Аппетитна, зверски аппетитна, хоть и потаскана... Правильный он выбор сделал. Интересно, дурной болезнью не заразит? Ну, его-то этим не испугаешь, два раза лечиться приходилось, и ничего. Сейчас еще дернуть, под мясо, да и на диван ее валить...
– Мясо есть будем, – сказал он.
Она подняла на него захмелевший, масляный немного, взгляд.
– А что дальше?
– А дальше – по всей программе. Наливай!
Она откупорила вторую бутылку водки, налила по стопарю, пока Кирзач раскладывал мясо по тарелкам.
– Не... – мотнула она головой. – Я мясо не буду. Кусок в горло не лезет. Я так, без закуси. Мне так здоровее.
Поплыла девка. Ну, это и хорошо.
– Как знаешь, – ответил он. – Я-то пожру в охотку.
Они выпили еще по одной, и он стал уплетать мясо, беря его с тарелки руками и рвя зубами, с каждым проглоченным куском поглядывая на Катюшу со все большим вожделением, а она долго закуривала папиросу, одна бретелька ее сарафана сползла с плеча, и волосы растрепались.
А она, почувствовав его внимание, вдруг хитро взглянула на него и завела кокетливо пьяным голосом, чуть подсевшим – как раз песню Марка Бернеса из “Ночного патруля” завела, чтоб ее!..
– “Я по свету немало хаживал…”
– Заткнись! – рявкнул Кирзач.
Она ошалело на него глянула.
– Ты что?.. Хорошая ж песня, вот, душевная… И сам Марк Бернес поет…
– Убью! – прорычал Кирзач.
И она испуганно замолкла, поняв по его вдруг налившемуся кровью взгляду, что и вправду умрет – и размышляя, не промахнулась ли она, связавшись с этим мужиком, хоть и денежным. Может, кого поспокойнее следовало найти? Ну, теперь-то сделанного не переделаешь. Если она попробует его выставить, он что угодно натворить с ней может.
А Кирзачу понравился ее испуг. Он поглядывал, как она сидит, притихшая, готовая исполнить все, что он ни прикажи, и из глубины живота поднималось и разливалось нечто этакое, будто он горячей крови отведал, и он с еще большей остервенелостью рвал мясо.
Расправившись с мясом, он разлил еще по стопарю, потом сграбастал Катюшу и поволок ее на диван. Она цеплялась руками за его шею и пьяно посмеивалась. Перед тем, как рухнуть на нее, он вспомнил об окнах и закрыл их: кто знает, насколько громко она себя ведет? Катюша тем временем все с себя скинула.
Орала она и правда много, подмахивая в такую же охотку, с какой водку глотала – да еще водкой раскочегаренная. Трудно сказать, чего было больше в ее воплях: выражения истинного удовольствия или чего-то вроде пьяной истерики. Да Кирзачу-то что? Девка вся изошлась, значит, все в порядке. Да и он изошелся, пока не повалился рядом с ней, тяжело дыша.
За следующие два часа они выпили еще бутылку водки и еще поскрипели диваном, до одури. Кирзач пошел следующую бутылку открывать, тут Катюша и уснула, вырубилась напрочь. Кирзач в одиночку засосал стакан, повалился рядом с Катюшей, закурил, постарался сосредоточиться на вещах, которые как следует надо было обдумать.
Мысли в голове путались, и он решил, что ничего страшного, если вздремнет он немного. Катюшу пушками не разбудишь, готова. А спит он чутко, даже спьяну, жизнь выучила. Ему-то всего и надо, что два-три часа, чтобы немного очухаться и начать соображать...
Проснулся от неприятного холодка под боком. Пошарил рукой – Катюши рядом нет. Кирзача аж подбросило, он мигом протрезвел. Первым делом в туалет кинулся, в ванную, на кухню... Никого. Метнулся к окну. И очень вовремя. От того, что он увидел, у него челюсть отвисла.
В свете ночных фонарей, Катюша брела по улице, босиком, абсолютно нагишом, если не считать накинутого на плечи пиджака Кирзача. В этом пиджаке были паспорт на Петра Афанасьевича Сидорова, смоленчанина, перебравшегося в Чапаевск, и часть денег. Не очень большая часть, хрен с ней, паспорт – вот что главное!
А навстречу Катюше двигался ночной патруль – точно такой патруль, как в фильме, из-за которого Кирзач готовился убить Марка Бернеса.
Кирзач, не зажигая света, тихо приоткрыл одно окно, чтобы ему было слышно, как пойдет разговор.
Легавые если и обалдели, то не очень. Похоже, повадки Катюши были им знакомы.
– Ты что, Мякишина? – сказал один из них. – Опять за свое?
– Водка кончилась, – она говорила голосом сомнамбулы, абсолютно неживым голосом. – Надо еще купить.
Дальше Кирзач не слушал. Он схватил рюкзачок, в котором лежали второй паспорт и основные деньги, схватил в охапку одежду, кинулся прочь из квартиры.
Хорошо, из подъезда было два выхода, как во многих старых домах, один – на улицу, другой – во двор. Кирзач оделся уже во дворе, злобно матерясь. Надо ж было нарваться на девку, у которой от выпивки мозги набекрень сворачивают! И как это она поднялась и ускользнула так тихо, что он ничего не заметил? Теперь из Владимира надо драпать как можно скорее. Авось, менты только к утру разберутся, что за гость был у Катюши. Но что разберутся, это точно. И паспорт на экспертизу уйдет... Хорошо, не самый важный паспорт, самый важный, с московской пропиской, вот он, и при нем все документы сотрудника Мосэнерго... Все продуманные планы передвижения летят, весь график... Нет, надо ж было так глупо вляпаться... И как теперь передвигаться по ночному городу, чтобы ни один патруль не прицепился?..
Кирзач бесшумно крался проходными дворами, все время оглядываясь. Только бы из города выбраться, а там...
17
– Да, два билета, до Смоленска и обратно, – кивнул Переводов. – Изъяты на официальном рабочем месте Повиликина, в отделе снабжения горводопровода, в ящике письменного стола. Кроме билетов, согласно списку, там находились из личных вещей Повиликина его нарукавники, его запасные очки в футляре, за рваной подкладкой футляра билеты и обнаружились, пара заточенных карандашей, один простой и один красно-синий, «перевертыш», и еще какая-то дрянь... – полковник продемонстрировал Высику не только отменную память на все оперативные дела, но и то, что он лично просмотрел все материалы по Повиликину, прежде чем передать дело Высику. – Если ты думаешь, что мы не запросили Смоленск и не проверили, ты ошибаешься, – понимай, параллельно с Высиком линией Повиликина занимались и другие, а Высик ничего не знал об этом: чтобы считал, что вся ответственность на нем, и пахал поусердней. И правильно. Так и надо. Если бы позволяла субординация, Высик выразил бы одобрение и восхищение действиями полковника, тому, как он организует все «разводки караула». А Переводов продолжал. – Ничего путного обнаружить не удалось. Если и встречался там Повиликин с заказчиком фальшивых документов, то пойди, обнаружь это сейчас, спустя три с лишним месяца, ведь ездил он, – полковник поглядел один из документов на свет, чтобы увидеть пробитую компостером дату, – да, в апреле. За те дни, что Повиликин был в Смоленске, никто, на него похожий, по судебным и загсовским архивам не шастал – не помнят, во всяком случае, нигде нет отметки, что в эти дни кто-нибудь запрашивал копию свидетельства о рождении или о давнем разводе. Сам знаешь, выдача копий по журналам регистрируется.
– Не там искали, – сказал Высик. – Это раньше он по судам и загсам гулял...
– Что ты нашел? – насторожился полковник.
– Догадка. Он всегда искал по тем местам, через которые можно чистую биографию любому документу соорудить. Это раньше можно было с неясностями учета мухлевать, сейчас не помухлюешь. Зато сейчас люди, которые попали в плен или на работы в Германию, или которые были объявлены пропавшими без вести, и у которых из-за этого мог запросто выпасть большой кусок биографии – в смысле, документированной биографии...
– К таким людям сейчас ГБ придираться не будет! – перебил полковник, живо ухвативший. – Это раньше взять себе имя и биографию человека, затерявшегося на фронте и, скорей всего, в лагерях для военнопленных сгинувшего, значило вызвать к себе ненужный интерес – и, очень вероятно, самого себя подставить под политическую статью! А сейчас – как? Понимаю, понимаю... – полковник в возбуждении заходил по кабинету. – Допустим, живу я по поддельным документам где-то далеко от тех мест, в которых, мол, я родился и вырос. Вызывают мои документы какое-то подозрение. Я объясняю: понимаете, я два года был в плену – в лагере – под оккупантом и у меня на глазах семью расстреляли, если по возрасту я не мог в войне участвовать – документы утратил, восстанавливал по заявлению, в родные места возвращаться не стал, раз вся семья погибла, а молчал всегда об этом периоде моей биографии, потому что боялся, стольких вокруг посадили по подозрению в измене родине... Можно сочинить красивое объяснение, почему в конце войны органы военной контрразведки и НКВД не проверяли: мол, в неразберихе сквозь все линии фронтов проскользнул, едва американцы лагерь освободили, или что-то такое... Говорят: война все спишет. Тут, и в самом деле, война любую несуразность списывает, любые белые пятна. Главное – чтобы и вправду никого из семьи и близких в живых не осталось, чтобы никто не мог опознать либо не опознать. Любая история чистой и складной выйдет, не подкопаешься. Можно, конечно, начать сверять номера серий паспортных бланков, заводить переписку с другими городами – но все это долгая морока, никто этим заниматься не будет, если нет дополнительных веских поводов для подозрений. И если Кирзач сумел достаточно внешность изменить, усы, там, борода, накладная родинка, то его документы уже десять раз могли проверять – и не задерживать. Да, получается, лишь когда преступника в лицо опознаешь, можно будет задним числом утверждать, что документы у него подложные, и отдавать эти документы на экспертизу... Умно, очень умно. Как догадался, майор?
– Мне пришло в голову, что для создания хорошей легенды под фальшивый паспорт сейчас самое-самое – "белые пятна" войны в биографии. Но тогда, Повиликин должен искать имена таких пропавших без вести, у кого наверняка ни одного родственника не осталось. Где их искать перспективней всего? В местах, от войны больше всего пострадавших, где чуть не с половину народу немец вырезал или на принудительные работы угнал. Я как увидел билеты в Смоленск и обратно – у меня сердце подпрыгнуло. Смоленщина ж – одно из таких мест. Я думаю, если поспрошать, то выяснится, что Повиликин и на Украину ездил, и в Белоруссию... Всюду, где смерть погуляла напропалую и где теперь никаких следов не найти, действительно ли пропавший без вести или вернувшийся из плена далеко от родных мест нашелся или, извиняюсь, косит под него кто-то...
– Да, да... – кивал полковник. – Красивая версия. Значит, надо военкоматовские архивы в Смоленске проверять, в областной архив обратиться, а также...
И тут зазвонил телефон.
– Слушаю, – сказал полковник. – Ну? Вот как? И что? Проклятье, быть не может! Ну, хоть что-то... Немедленно мне подробный рапорт! И паспорт – сюда, в Москву, на срочную экспертизу! Да, прыгайте в машину – и чтобы через три часа быть здесь!
Положив трубку, он повернулся к Высику:
– Представляешь, восемь часов назад Кирзача во Владимире едва не взяли, по чистой случайности! Узнаешь по какой – обхохочешься! И только сейчас разобрались, что это был Кирзач! Но в одном повезло – паспорт, на фамилию Сидоров, у нас в руках остался!..
– Я думаю, у него не один паспорт, – рискнул заметить Высик.
– Разумеется, не один! Но и одного паспорта хватит, чтобы совсем плотно его обложить. А теперь слушай, как Кирзач едва не засыпался. Он, и правда, снял одну местную блядь...
18
За следующие двое суток произошло много интересного. Во-первых, размножили и запустили всем отделениям милиции ту фотографию Кирзача, которая в фальшивый паспорт была вклеена. Во-вторых, по данным, поступившим из Смоленска, Петр Афанасьевич Сидоров, тысяча девятьсот одиннадцатого года рождения, был признан пропавшим без вести в тысяча девятьсот сорок третьем году. Вся его семья погибла еще в тысяча девятьсот сорок втором.
В-третьих, в военных архивах и архивах областного управления КГБ Смоленской области обнаружились... доносы на Петра Афанасьевича Сидорова и еще трех человек. Смысл всех доносов сводился к тому, что некто ("боюсь называть свое имя") видел этих людей, долго считавшихся пропавшими без вести, в разных городах. В частности, Петра Афанасьевича Сидорова – в Чапаевске. Тот, в разговоре с автором анонимного доноса, рассказал, что побывал в плену, его проверял СМЕРШ и признал чистым, по справке он получил новые документы, но на родину возвращаться побоялся, зная, как косо посматривают на побывавших в плену, и понимая, что его в любой момент могут арестовать, несмотря на заключение проверявших его компетентных органов. В Чапаевске он скрыл, что находился в плену, устроился на работу. Сейчас он может говорить об этом открыто, потому что на побывавших в плену и в лагерях уже не смотрят косо как на возможных предателей.
И все-таки, что-то странное в этом есть, восклицал автор доноса. Уж не сотрудничал ли он с нацистами, а может, он и в других преступлениях против Советской Власти виноват?
Все четыре доноса были написаны разными почерками, с разными характерными словечками, с разной орфографией, от безграмотной до очень аккуратной, один даже от лица женщины был состряпан, и только когда эти четыре доноса, пришедшие в разное время и попавшие к разным следователям, положили рядом, эксперты смогли с уверенностью сказать: писал их один и тот же человек.
Общим во всем доносах было одно: обвинения были составлены настолько наивно и безграмотно, настолько в духе осуждаемых нынче недавних времен, настолько ясно видна была их беспомощность и безосновательность, чтобы и у самого подозрительного следователя отпала охота с ними возиться, едва бы он их прочитал. Чтобы на волне повальной реабилитации заводить дело против человека, виновного лишь в том, что побывал в лагере для военнопленных или в концлагере и выжил там... нет уж, увольте, так можно по загривку огрести, что долго потом будешь охать.
И следствие ограничивалось тем, что направляло запрос в военные архивы, получало ответ, что такой-то был честным солдатом, вплоть до исчезновения без вести свято исполнявшим свой долг, признавало донос безосновательным и списывало дело в свой архив.
То есть, расчет был психологически верен, идеально верен.
А теперь, допустим, возникли сомнения в подлинности документов или подлинности личности кого-то из владельцев паспортов. Первым делом отправили бы запрос в областное управление ГБ, а оттуда бы ответили: как же, как же, все правильно, на этого человека даже донос поступал, но мы признали донос ложным, ни в чем не виновен человек, пусть спокойно живет. И человека оставили бы в покое. Раз сам КГБ его уже проверял и нашел ни в чем не виноватым – значит, остальным тут делать нечего. Человека сразу оставили бы в покое. И один шанс из тысячи, что какой-нибудь дотошный милиционер сумел бы разглядеть какую-нибудь мелкую неувязку с номерами паспортных бланков или чем-нибудь еще.
– Артистом своего дела был Повиликин, – сказал полковник Переводов. – Всю душу вкладывал... Правда, наверно, не для всех клиентов, а для тех, кто мог заплатить за такое качество. Это ж сколько времени и средств требовалось: поездки туда, сюда, над одними только доносами корпеть...
– С другой стороны, – заметил Высик, – если бы он не так старался создать прочную базу под любой фальшивкой, а просто выпекал фальшивые корочки, нам бы намного дольше пришлось повозиться.
– Это да, – согласился полковник. – Но, скорей всего, тогда сам Повиликин бы давно попался. Примитивные "рисовальщики" долго на воле не живут...
А поскольку каждый донос был отправлен довольно давно, то, получалось, Повиликин строчил доносы заранее, до того, как начинал делать подложные документы, чтобы к тому времени, как клиент получит паспорт на руки, донос успел бы отлежаться и уйти в архив. Тоже точный расчет.
Во все областные управления СССР пошел срочный приказ проверить, не появлялось ли схожих доносов на людей, якобы воскресших после того, как они многие годы числились пропавшими без вести, и принять меры к задержанию людей, на которых эти доносы написаны. Особое внимание уделялось Украине, Белоруссии и тем областям Российской Федерации, которые особенно пострадали от войны. Были отправлены и фототелеграммы со смоленскими доносами, для сличения образцов почерка.
Результаты последовали практически незамедлительно. Из Донецка пришел ответ, что подобные доносы, написанные явно той же рукой, имеются на трех людей: Ивана Владимировича Денисова, Савелия Никитича Крамаренко и Николая Борисовича Зубко. Из Витебска тоже сообщили о трех доносах, из Симферополя – о двух, из Ржева – аж о пяти...
Побочным эффектом этой бурной деятельности оказался арест крупного растратчика, который полгода жил припеваючи под именем одной из витебских "мертвых душ" Повиликина – Дядькевича Григория Александровича.
– Итак, у нас набирается аж дюжина кандидатур, – подытожил Переводов на исходе второго дня. – Из них, мне представляется, только две подходят для Кирзача по возрасту. Денисов из Донецка и Скотобоев из Ржева. Остальные или моложе, или старше. Значит, даем ориентировку: проверять всех, сколько-то похожих на Кирзача, и, увидев паспорт на имя Денисова Ивана Владимировича, место рождения – Донецк, год рождения – тысяча девятьсот седьмой, или на имя Скотобоева Алексея Васильевича, место рождения – Ржев, год рождения – тысяча девятьсот тринадцатый, задерживать немедленно. При этом иметь в виду, что преступник может быть вооружен и очень опасен.
Когда совещание закончилось, Высик подошел к Переводову:
– Можно мне вернуться к себе? Мне кажется, сейчас я там буду полезней.
– Да, конечно, – кивнул полковник. Даже в нем была заметна усталость, хотя обычно он держался железно. Еще бы! По насыщенности эти дни были равны неделям, и Высику самому не верилось, что меньше пяти суток прошли с того момента, когда его увезли в Москву. – Вас доставят на той же машине, на которой увозили. Благодарю вас за все. Действительно, благодарю. Если будут новые идеи, немедленно связывайтесь со мной. Ну, а я вас призову в любой момент, если решу, что вы понадобитесь у меня под рукой.
– Спасибо, – сказал Высик.
– Да, – окликнул его полковник, когда Высик уже был у двери, – не думаешь, что Кирзач уже "зарвался в игре", не на ту девку поставив? Вот она, ошибка!..
– Откровенно, товарищ полковник?
– Только так.
– Мне кажется, это еще не ошибка, а ошибочка. Она нам лишние козыри в руки дала, на следующий круг, но теперь важно этими козырями воспользоваться. И, думается мне...
– Выкладывай, психолог.
– Ошибку Кирзач совершит тогда, когда от отчаяния решится на очередное убийство... которое мы, скорее всего, не успеем предотвратить. Ну, поймет, что и второй его паспорт "сгорел", и, выследив человека, похожего на себя, заберет его паспорт. В какой-то мере, мы сами его на это провоцируем, но мы в безвыходной ситуации, нам ничего другого не остается. Любое наше оперативное действие, не совершать которое мы не можем, приближает чью-то смерть. Кирзач и не подумает как следует схоронить труп, он будет считать, что безымянный труп никто с ним не свяжет. Как только по Владимирскому направлению или в Москве обнаружится труп человека, внешне и по возрасту похожего на Кирзача, без документов – значит, Кирзач где-то рядом. Надо б всем патрулям предупреждение разослать, во все морги. А может, повезет, патруль на еще не остывший труп наткнется, и тогда останется быстро квартал окружить и взять Кирзача, обыскав чердаки и подвалы... Вот такие дела, товарищ полковник. Не обессудьте, что я так вот, запросто, о чьей-то близкой смерти говорю, мы любого человека защищать обязаны, но...
– Брось! – полковник махнул рукой. – Все ясно, и у нас тут не институт благородных девиц. Я сам об этом же думал... И могу напрямую сказать то, о чем ты не договариваешь: за смерть неизвестного человека с нас бошки не поснимают, а за смерть Марка Бернеса снимут. И, если смерть кого-то неизвестного помешает Кирзачу до Марка Бернеса добраться... Разумеется, мы постараемся предотвратить любое новое убийство, но... Как ты сам сказал – "но"! Еще идеи есть?