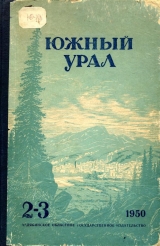
Текст книги "Южный Урал, № 2—3"
Автор книги: Алексей Сурков
Соавторы: Дмитрий Захаров,Людмила Татьяничева,Нина Кондратковская,Иван Иванов,Тихон Тюричев,Николай Кутов,Василий Оглоблин,Николай Дубинин,Галина Громыко,Яков Вохменцев
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Н а с т е н ь к а. Они идут!
Г а й н у т д и н о в. Ой, какой праздник!
Входят Илья и Вера. Они держатся за руки. Илья в рабочем костюме, испачканный рудной пылью и машинным маслом. Он улыбается, и зубы его блестят как у негра. Вера несет на руке свое пальто. Все, кроме стариков и Василия, хлопают в ладоши. Затем наступает тишина.
В е р а. Вот он, Илья Буторин!
Н и к о н о в. Долго же вы его сюда вели.
И л ь я. Полем шли…
В е р а. Шли, как пьяные, по полю… И ничего не видели.
И л ь я. Кофточку вот выпачкал.
В е р а. Чистить не буду. Повешу в шкаф – пускай висит.
Входят Ястребов, Бадьин и Карпушкин. Здороваются.
М а к с и м Ф е д о с е е в и ч. Да весь рудник у меня! (Вопросительно оглядывается.) Товарищи?!
Е ф и м у ш к и н. Вера, твое слово.
В е р а. Нет, правда, ничего не сказали?!
Ф у р е г о в. Распоряжение исполнено.
В е р а. Спасибо! (Вынимает из кармана Ильи свернутую и уже испачканную газету, разворачивает ее и громко, торжественно читает.) Проходчику Красногорского железного рудника Буторину Илье Максимовичу и главному инженеру того же рудника Никонову Ивану Петровичу за изобретение электробурового агрегата оригинальной конструкции и развитие многоцикличного метода бурения – Сталинская премия первой степени!
О л ь г а С а м с о н о в н а. Батюшки мои!
М а к с и м Ф е д о с е е в и ч. Ну, сын… (Идет к Илье, но неожиданно поворачивается к Ольге Самсоновне.) Поздравляю вас, Ольга Самсоновна.
О л ь г а С а м с о н о в н а. Так же и вас, Максим Федосеевич.
Старики торжественно кланяются Илье, затем целуют его.
М а к с и м Ф е д о с е е в и ч. Вот… сам товарищ Сталин и заметил.
Ф у р е г о в (подходит к Илье, жмет руку). Гвардия моя стахановская…
Е ф и м у ш к и н. Ты, Илья, на директора не дуйся. Как сказано когда-то, он – уже не он, а кто-то другой.
Н и к о н о в. Поздравляю, Илья Максимович?
И л ь я. Замажу.
Н и к о н о в. Давай, покрепче. (Обнимаются.)
О л ь г а С а м с о н о в н а. Главный инженер и простой шахтер, а дорожкой, гляди-ко, не разминулись.
Е ф и м у ш к и н. Время такое, Ольга Самсоновна. Многие стираются меточки. (Жмет руку Илье.) Так-то, Максимыч…
Н а с т е н ь к а (бросаясь на шею Илье). Пустите, я! Ой, какое ура! (Целует Илью.)
Г а й н у т д и н о в (причмокнув). Одно удовольствие.
Е ф и м у ш к и н. Поздравляю и тебя, Вера… Мы на подступах к твоему Донбассу: Николай Порфирьевич принял решение начать проходку квершлага.
В е р а. Николай Порфирьевич, точно?
Ф у р е г о в. С одним условием. (Вера вопросительно смотрит на Фурегова.) После – гулять у вас на свадьбе.
В е р а. Принимаю!
И л ь я (с трудом отрывая от себя сестренку). Хватит, Настенька… (Осмотрелся.) Ух, народищу навалило. (Рассмеялся, все улыбаются. Замечает Василия, который, понурившись, стоит в стороне). Вася… (Идет к брату). Бродяга ты, бродяга… (Обнимается с Василием).
В а с и л и й. Братуха…
М а к с и м Ф е д о с е е в и ч. Когда-то уж все мои дети коммунистами станут?..
И л ь я. Станут, отец.
Н а с т е н ь к а. Станут. Все смотрят на Василия.
В а с и л и й (упрямо вскинув голову). Да, станут!
Е ф и м у ш к и н. Слышите, Максим Федосеевич?..
И л ь я. А теперь, Александр Егорыч, прошу твою рекомендацию!
Е ф и м у ш к и н. Давно написана. (Вынимает из внутреннего кармана аккуратно свернутый листок). Вот… (Обращаясь к зрителям). Проходчики мы – этим все сказано. Человечеству дорогу пробиваем.. В том и радость наша, и лучшая судьба. (Вручает Илье рекомендацию). Шагай, Максимыч. В добрый путь!
К О Н Е Ц.
Д. Захаров
СТИХИ
ВЕСНА НА ВОЛГЕ
Весна в Ульяновске.
Старинный дом и сад.
В оградке тихой по-апрельски сыро.
Вот комната: здесь Ленин родился —
здесь началась весна
для угнетенных мира.
…Спокойна Волга, скованная льдом.
Но лед подточен и трещит кругом,
под ним могучая клокочет сила.
Она поднимется, покров сорвет —
и двинется гремучий ледоход:
не зря весна в свои права вступила…
Весна на Волге…
Да, пришла она
к нам в Октябре Семнадцатого года
в порыве гневном русского народа,
Свободы долгожданная весна.
Ровесник мой! Во веки не забудь,
на юность нашу благодарно глянув,
что в светлый мир нас вел тяжелый путь,
который начал юноша Ульянов.
Мой друг и сверстник! Помнишь – мы клялись
друг другу в дружбе нерушимой, вечной?
Мы возмужали. Мы познали жизнь,
простившись с детством, милым и беспечным.
Где юность есть – счастливей, чем у нас?
Где есть Отечество – светлей и краше?
Вот берег Волги: может, первый раз
здесь Ленин думал об Отчизне нашей.
Мы не забудем клятвы – пронесем
ее по всем дорогам нашей жизни.
И будем же достойными – во всем —
великих дел во имя коммунизма…
…Весна в Ульяновске.
Старинный дом и сад.
В оградке тихой по-апрельски сыро.
Вот комната: здесь Ленин родился,
и родилась весна для угнетенных мира…
Она прошла по выжженным следам
вслед за победою к славянским странам,
и возмущенный подняла Вьетнам,
и к греческим проникла партизанам.
Она проходит сквозь огонь боев
и мимо атомных зловещих вспышек.
Уж благотворным воздухом ее
народ Китая
полной грудью дышит.
…Цветут степные свежие сады,
шумят весенние в пустынях воды —
все это – ленинской мечты плоды,
плоды великой сталинской работы.
Так будет край наш вечно молодым,
как Правда, как бессмертие народа.
1949.
УРАЛ-ТАУ
Как в папахе, в облаках белесых,
Тишиною древнею повит
И укрытый мелкорослым лесом
Он столетья непробудно спит.
Он лежит века невозмутимо,
Открывая грудь шальным ветрам.
Лишь стальные воды Киолима
Урал-Тау режут пополам.
Знаю я:
по Сталинскому плану
Люди дерзновенные придут,
И разбудит темные шиханы
Их победный, вдохновенный труд.
ТАГАНАЙ
Вековые, пасмурные глыбы,
Сизые, седые валуны.
По тропинке узкой мы могли бы,
Кажется, добраться до луны.
Радостнее зрелища такого
Я нигде, признаться, не видал.
От седого гребня Откликного
Дымчатый раскинулся Урал.
Не охватишь напряженным взором
Из-под лунной этой высоты —
Дальние Потанинские горы,
Звонкие дороги и мосты.
Знаю, здесь с эпохи неолита
Человек ни разу не бывал,
Только нам везде пути открыты,
Только нам покорен ты, Урал!
В ПОЛЯХ
Я сын Урала. Сердцем благодарен
Ему за прожитые здесь года.
Иду полями, вижу: вновь в разгаре
Широкая, осенняя страда.
Прошли года… сраженья огневые…
И столько памятных доныне мест:
Багровый Днепр, пылавший дважды Киев
И намертво опустошенный Брест.
Нет, эту боль не надо снова трогать,
Тут не прошел кровавым следом бой,
Но полевая пыльная дорога
Мне показалась трассой фронтовой.
Комбайнер пот со лба утер пилоткой,
И за штурвалом, устремясь вперед,
Как будто не комбайн, а самоходку
Он в жаркое сражение ведет.
А вечером за ужином артельным
Я слушаю беседы земляков:
Тот дрался под Уманью, тот под Ельней,
А этот был у эльбских берегов.
И думается мне: я на привале,
Вокруг меня товарищи лежат.
А мимо нас, гудеть не уставая,
Машины к элеватору спешат.

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД. С гравюры худ. Д. Фехнера.
С. Васильев
СТИХИ
СИЛЬНА СТРАНА МОЯ!
Сильна страна моя, сильна!
Согласьем душ озарена.
Тепло, тепло несметных рук
Смыкает доброй воли круг.
Мы день труда встречать идем
Рожденьем песни золотой —
Добычей,
выпечкой,
литьем,
Уменьем,
дерзостью,
мечтой.
Еще решительный размах,
Еще сильнее разворот.
На стройках,
шахтах,
на полях
Еще дружнее шум работ.
Еще ловчей полет иглы,
Еще искусней кисти след,
Еще призывней свист пилы,
Еще щедрей тепло и свет.
Смелее!
К счастью путь открыт.
За труд, помноженный стократ,
Чтоб каждый был обут и сыт
И прочной радостью богат.
Еще нам тело жгут рубцы
Недавних,
тяжких ран сквозных,
А мы уже дома-дворцы
Возводим для детей своих.
Еще на памяти свежи
Разрывов гром, сирены вой,
А наших здравниц этажи
Уже осенены листвой.
Мы дружной поступью идем
Однажды избранным путем.
И прям и светел этот путь,
И ровно,
вольно дышит грудь,
И твердо, в лад сердца стучат,
И чувства в лад,
и мысли в ряд.
Любовь и жизнь!
Но нас опять
Стращают завтрашней войной,
И стали снова наряжать
Бродягу-смерть броней стальной.
И только свастики паук
Поджал кривые лапки вдруг,
И для близира круглым стал,
И мертвым светом заблистал.
Сильна страна моя, сильна!
Бессмертны павших имена.
И будут вечно тени их
Примером чести для живых.
На нас спускают псов с цепи —
А мы
сажаем лес
в степи.
На нас возводят клевету —
А мы
чисты,
как лен в цвету.
Мы делом заняты своим,
Богатым,
кровным
дорогим —
Мы строим дом своей мечты
Почти небесной высоты.
И взоры всех людей простых
Спокойный наш находят взгляд,
И видят наших часовых,
И держат мысли с нами в лад.
И пусть задумаются те,
Кто, утопая в клевете,
Играет бомбой,
как мячом,
Над нашим раненым плечом.
Такая подлая игра
Не доведет их до добра.
Порукой этому – народ,
Простой народ
со всех широт.
Он любит нас,
он знает нас —
Он обмануть себя не даст!
Сильна страна моя,
сильна,
Как полноводная весна,
Как солнца доброго восход,
Как ветер с облачных широт.
УРАЛЬСКИЙ ТАНК
Вот он стоит, умолкший ветеран.
Приземистый.
Тяжелый.
Несравненный.
На грозовой броне его толстенной
Видны рубцы совсем недавних ран.
Как тонко краска затянула швы!
А приглядись, —
так их не счесть, пожалуй.
Стремительный,
обстрелянный,
бывалый
Прошел он до Берлина от Москвы.
Он разлучен с пространством и огнем.
Под мирным ветром грудь его остыла.
Но и теперь живет в нем та же сила,
И тот же смерч незримо дремлет в нем.
В любое время, в час и миг любой
Он, подчиняясь воле командира,
Рванется в бой,
но только в правый бой,
Не ради войн, а только ради мира.
НОВОСИБИРСК – МОСКВА
Любо, товарищи, мчать далеко,
В поезде ехать, который
Кто-то назвал хорошо и легко,
Точно и весело: скорый!
Так и мелькают столбы за окном,
Так и летят перелески.
– Ну-ка, откинь-ка, сосед-агроном,
В сторону шелк занавески!
Видишь, под горку идет грузовик,
Белый дымок завивает?
– Вижу отлично, сосед-плановик,
Что тебя в нем привлекает?
– Как это «что»? Здесь одни журавли
Жили в болоте когда-то.
В прошлом году здесь шоссе провели
Прямо к цехам комбината.
– Это не шутка! Ты глянь вон туда.
Там был участок пропащий,
Густо росла лишь одна лебеда,
А нынче здесь сад настоящий.
Яблони с кедрами рядом растут.
Вот, брат, дела-то какие!
А там вон плотину возводят, а тут
Строят дома заводские.
Глядят пассажиры на вехи пути,
Покрытые снежною пряжей,
Глядят и не могут глаза отвести
От мимо летящих пейзажей.
– А вы, молодой человек, до Москвы?
– В Москву. Из Москвы до Рязани.
– Понятно, понятно, голубчик… А вы
В Москву, дорогая маманя?
– А я на доклад в Министерство угля.
Впервые в столицу… Приятно!
И все же, вы знаете, думаю я
Скорее вернуться обратно.
Всего только сутки в пути нахожусь,
А сердце тоскует по дому.
Выходит, никак в москвичи не гожусь,
Привык я к Кузбассу родному.
…Синеет, темнеет уже за окном.
Колышется песня, крепчая,
Согретая добрым холодным вином,
Кружкой горячего чая.
Секут темноту паровоза гудки.
Бушует огонь поддувала.
И с насыпи в поле летят светляки,
Как в ночь на Ивана Купала.
Р. Шнейвайс
ОГНИ МАГНИТОГОРСКА
(Послевоенные очерки)
ПЛАВИТСЯ СТАЛЬ
В городском театре проходил общезаводской слет стахановцев. До начала оставалось еще минут двадцать, и народ группами собирался в фойе, курилке, буфете, шел во Дворец культуры металлургов, что по соседству, чтобы посмотреть выставку картин художника Георгия Соловьева.
Соловьев – старейший художник Магнитогорска, мастерски владеющий и кистью, и карандашом, и резцом. Выставленные им картины, эскизы, наброски, гравюры полны жизни, радости и света. Острым, наблюдательным взглядом художник улавливает такие детали, которые, действительно, характерны для молодого, растущего города. Каждое полотно и рисунок отражают все то новое, что рождается в этом удивительном городе.
Смотришь на все эти картины, эскизы, гравюры, рисунки и кажется, что они ведут по историческим местам, живописно, правдиво и наглядно рассказывают были горы Магнитной с давних дней до нашего времени.
Вот прошлое: горы, покрытые снегом, черными пятнами выделяются ямы рудных разработок; люди в старомодных кафтанах лопатами выгребают куски железной руды, кладут ее на носилки, засыпают ею плетеные сани. Длинной вереницей уходит вдаль обоз с рудой – ее везут за сто верст, на Белорецкий завод купца и промышленника Пашкова.
Да вот и он – горнопромышленник Пашков – самодовольный и хищный, жестокий и хитрый. Он стоит на крыльце в окружении компаньонов и провожает взглядом обоз с рудой; вдали виднеются контуры старого уральского завода.
Старозаветный уральский горнопромышленник против обновления техники доменного дела, ему ни к чему печи, работающие на коксе. Достаточно жадными руками выгребать с горы Магнитной богатую железом руду и выплавлять чугунные чушки, а весной, в половодье, сплавлять их на баржах по многочисленным мелким уральским рекам в Центральную Россию. Алчным взглядом провожает он обоз с рудой горы Магнитной. Идут и идут обозы, и рядом плетутся понурые, уставшие возчики, прошагавшие всю многоверстную дорогу через горные перевалы Белорецкого тракта.
Вот первый полотняный город у подошвы горы Магнитной – жилище строителей и зачинателей Магнитки. Март 1929 года; тучи нависли над вершиной горы, и резкий ветер треплет брезентовый полог палаток; группа строителей, наклонив головы, решительно шагает навстречу ветру, зажав в руках топоры, ломы, кирки и лопаты; они спускаются вниз, идут туда, где среди необозримой приуральской степи виднеются первые леса стройки.
Итак, если итти от полотна к полотну, от рисунка к рисунку, то кажется, что читаешь увлекательную повесть о делах и людях Магнитогорска, создавших по воле большевистской партии новый город и величайший комбинат, широко раскинувшийся на границе Европы и Азии, как мощная крепость индустриализации.
Январская ночь 1932 года! Забудем ли мы ее когда-нибудь! Изгладятся ли из памяти эти волнующие минуты пуска первой доменной печи? Когда смотришь на картину «Первый чугун», то хочется прильнуть к полотну и найти, разыскать себя в этой ликующей толпе, озаренной светом первого магнитогорского чугуна. Люди целуются, обнимают друг друга, пожимают руки, гордость светится в их глазах, и радость чувствуется в каждом порывистом движении. Только там, где-то в затемненной стороне, стоит особняком группа людей и среди них толстый приземистый человек с трубкой в зубах – американский «консультант» мистер Хейвен – представитель фирмы Мак-Ки. Он сделал все, что в его силах, чтобы доменная печь не была задута, чтобы не было чугуна, не было радости. Он возражал, писал меморандумы, снимал с себя ответственность. Через несколько минут мистер Хейвен подойдет к людям, церемонно обнажит голову и поклонится:
– Я поражен смелостью и настойчивостью, с которой в столь тяжелых условиях совершен пуск доменной печи, – скажет мистер Хейвен. – Я преклоняю голову и восхищаюсь. В Америке нет такой практики.
– Но мистер Хейвен, – скажут ему вежливо, – в американской практике нет и советской власти…
Рядом новое полотно – Серго Орджоникидзе с группой магнитогорцев идет по горячим путям доменного цеха; он что-то показывает спутникам, и рука его протянута вперед, как будто он призывает людей не останавливаться, а итти все дальше и дальше.
«Огни Магнитогорска!» – так называется это чудесное полотно. Огни Магнитогорска – это немеркнущие огни социализма, которые зажгла великая партия большевиков, это – свет, озаривший старый Урал, в котором воздвигнута новая высокосовершенная индустрия, новые поселки и города; это – электрическая лампочка в квартире бывшего кочевника, свет дворцов и школ, институтов и больниц. Огни Магнитогорска – это чудесная панорама радостного труда. Они неугасимы! Нет конца этим огням, они уходят ввысь и вдаль, светят высоко в небе, и их видно далеко за пределами Уральских гор. Как опытный следопыт по еле заметным следам угадывает жизнь леса, так художник Соловьев по вспышкам и мерцанию разноцветных огней разгадал тайны ночного Магнитогорска. Не видно громад корпусов, и только угадываются контуры уходящих в небо труб, но завод живет, работает. Вот сейчас выдается очередной багровокрасный коксовый пирог, фейерверком искрится новая плавка чугуна, в небе вьется разноцветный газовый клубок, выброшенный из трубы мартеновской печи; ярко озарены окна здания блюминга и кажется: вглядишься внимательно и увидишь, как кран «Тиглер» тянет своими стальными пальцами из нагревательных колодцев раскаленный добела слиток…
У одного из полотен – группа рабочих: слышны говор, шутки. Полотно, которое привлекло зрителей – «Сталевары» – изображает двух широко известных на площадке сталеваров, самого старого и самого молодого.
Два сталевара – два поколения металлургов. Плотный старик, с энергичным лицом, сильными руками с двумя орденами Ленина в петлице – это представитель старейшего поколения Григорий Егорович Бобров. Рядом с Бобровым – его ученик – сталевар Петр Лапаев.
Бобров и Петр Лапаев стояли здесь же и принимали активное участие в разгоревшемся споре: точно или неточно изобразил их художник.
– Вот познакомьтесь, – шутя говорит старик Бобров, показывая на портрет. – Изобразили, как икону разукрасили. Это вот, стало быть, я и есть – Бобров Григорий Егорович. А этот вихрастый – Лапаев Петр. Видали, какие ныне знаменитые сталевары пошли? Тебе сколько, Петр, лет? В твои годы меня, дружок, не только сталеваром, а подметальщиком не хотели сделать. А вот с него портреты пишут. В старое время такие портреты с царей да фабрикантов писали. Вот висел, помню, в конторе портрет самого господина директора…
Лапаев смеется:
– Выходит, что и я директор по тем временам?
– Оно и по нынешним временам выходит, что не последний ты человек. Сталевар Магнитки – это тебе что? Гордая, дружок, должность. Перед нашим братом не один европеец должен шапку снять да в ноги поклониться. Помнишь, Рязанов, польских партизан? – обратился Бобров к молодому мастеру. – Помнишь? Расскажи-ка эту историю.
– Да ничего особенного, – говорит Рязанов, – приехала в Магнитогорск делегация бывших партизан Польши. Ну, известное дело, устраиваем встречу – вот здесь – во Дворце дело было. Рядом со мной один молодой партизан. Посмотрел на меня, увидел орден и спрашивает: «За что?» Я отвечаю: за броневую сталь. «Вы броневую сталь делали?», – спрашивает он и пристал ко мне: расскажи, как броневую сталь варили. Вышел я на трибуну и рассказал, как дело было. Вот и все.
– Не все, Рязанов, не все. Расскажи, что дальше было, – говорит Бобров.
– А что дальше? Кончил я рассказ, и вдруг подбегает ко мне поляк, обнимает, а у самого слезы на глазах и все твердит: «благодарю!» За что, спрашиваю, благодарите? Партизан по-русски плохо говорит, еле-еле разбираю слова, но все-таки понятно: хочу, говорит, выразить чувство уважения к русскому народу – к солдатам, к рабочим, которые помогли освободить нашу Родину. Без вашей помощи нам бы не победить.
– Вот видишь, – говорит Бобров Лапаеву, – нашего брата весь народ Европы знает и ценит.
– Кое-кто забывать начинает, – говорит Рязанов.
– Народ не забудет, – ответил Бобров. – Народ и зло помнит и добро не забудет. Вот, Петр, прикинь теперь, на каком посту стоишь, на какой вышке? Тебя отсюда очень далеко видно. Понял? Будь моя власть, я бы всем сталеварам особое звание присвоил: гвардия. А что, хорошо бы – гвардии сталевар.
– Ну чего еще, Григорий Егорыч, выдумываешь, – посмеиваясь говорит Лапаев. – Это почему же такой особый почет сталеварам?
– Потому, что труд у сталевара смелый и гордый. Он всегда у огня, у расплавленной стали. Он, как гвардии солдат, на самом трудном и опасном участке. Ты, Петр, смотрел когда-нибудь этак со стороны и вдумчиво на труд сталеваров? Смотрел, говоришь, а что видел? Что понял? Если глубоко вдуматься в наш с тобой труд, так мы очень большая сила государства. Сталь – наравне с хлебом, а может и того повыше! А как же!
Посетители выставки услышали спор и собрались вокруг сталеваров. Обычно мало разговорчивый, Бобров сейчас к всеобщему удивлению говорил горячо и убежденно. По всему видно было, что разговор коснулся самых чувствительных струн его души. Он сел на мягкий диван, обитый темнозеленым бархатом, и вокруг него собралась молодежь.
– Вот я вам расскажу одну историю, если на то пошло. – Бобров удобнее уселся, вынул было коробку папирос, но увидев, как распорядитель выставки замахал руками, виновато улыбнулся и положил коробку в карман. – Было это лет пятьдесят тому назад. Отец мой и брат работали тогда на Белорецком заводе у Пашкова сталеварами. Жить, понятно, было тяжело, семья большая и решили меня – мальчишку – к делу пристроить, на завод. Как раз в это время пришел какой-то важный заказ на особо чистую пашковскую сталь, и было объявлено: кто выдаст первую плавку этой стали – тот получит премию и будет награжден «памятной медалью». Надо вам сказать, что до этого один сталевар в России получил «памятную медаль» – это Плечков, который на Сормовском заводе сварил плавку в первом русском мартене. Больше не было. Так вот разгорелась борьба среди сталеваров – кто первый.
Это сейчас вот, в наше время, так друг дружке помогают, подтягивают, учат, потому что у нас у всех общий государственный интерес. А в те времена каждый старался только для себя, тащил в свою берлогу. Да и чего было стараться: хозяина сделать богаче, своего врага заклятого сделать сильнее?
Борьба была, как сейчас вот помню, – злая, волчья, утомительная. На каждой печи работали с оглядкой, втихомолку. Не в медали, конечно, дело было – все понимали, что это просто хозяйская приманка. Надо было премию заработать, чтобы, может быть, отложить копейку на черный день. А потом, скажу я вам, любит русский человек свое мастерство. Испокон веков у нас заведено – делать дело так, чтобы оно душу радовало, отрадой сердцу было. Уральские металлурги – известные кудесники. Они, между прочим, секрет булатной стали нашли. Да, вот как.
Бобров замолк, как бы вспоминал что-то, и глаза его стали задумчивыми и строгими. Потом он встрепенулся и продолжал рассказ.
– И вот, значит, в эти-то горячие дни появился я в цехе подносчиком у одной печи. Как увидел меня сталевар, так аж позеленел:
– Ты чего, шпионить сюда пришел, принюхиваться?! Чтоб я тут и духа твоего не чуял! – Боялся сталевар, чтобы я его секрет не выведал. Да еще боялся он моей молодости и силы. Ведь, как молодой человек в цех пришел, так он старается себя показать, а старику в те времена трудно было тягаться с молодым… Старики боялись, как бы не пришлось еще больше жилы натягивать и, как говорят, в оглоблях не упасть.
– Ну, а как же с медалью? – нетерпеливо спросил Лапаев.
– А с медалью вышло совсем плохо. Отец мой отличный мастер был, он первым сварил плавку, но задумал на этом случае старшего брата моего выдвинуть в сталевары, – его, мол, заслуга.
И вот через несколько дней приходит ответ от хозяина: Боброва-сына за отличие поставить в сталевары, а Боброва-отца за нерадивость и лень – в подручные к нему. Вот какая грустная история приключилась пятьдесят лет тому назад.
– А хозяин что? – спросил Лапаев.
– Что – хозяин? Пашков на этом деле сотни тысяч заработал и в Париж укатил.
История, рассказанная Бобровым, взволновала молодежь. Глядя на этого могучего старика с орденами Ленина в петлице, окруженного молодежью, люди невольно сравнивали прошлое и настоящее: какая новь!
Вот стоят здесь и Рязанов, и Князев, и Лапаев, и Корчагин, вчера только кончили они ремесленное училище и пришли на выучку к Григорию Боброву, а сегодня они уже с ним рядом, как бойцы – плечом к плечу. Старый сталевар не боится их силы, их молодости, их знаний. Наоборот, большинство из них – это его выученики. Но жизнь идет вперед в наше время очень быстро, и каждый день она приносит много нового. Нельзя отстать от жизни – и старик Бобров садится рядом на одну скамью с Лапаевым в школе мастеров социалистических методов труда и учится, изучает новую технологию, теорию металлургических процессов, скоростные методы сталеварения. Когда говорят Боброву:
– Чего же это, Григорий Егорович, ведь отдыхать пора, а вы учиться.
– Отдыхать? – улыбается он. – Раз вот задумал пойти на отдых, пятьдесят лет у печи отработал, можно, мол, и на покой. Нагрянула война и опять в цех вернулся. Да и подумать тоже: как советскому человеку без труда обойтись, в нем ведь и жизнь и радость.
* * *
Когда сталевары вернулись в зрительный зал театра, почти все места были заняты. В креслах партера, в ложах и на балконе сидели горняки, коксовики, металлурги в добротных костюмах с поблескивающими в петлицах орденами и знаками лауреатов Сталинских премий. Сидела молодежь и рядом – седоусые, коренные уральские металлурги, инженеры, партработники.
Яркий электрический свет играл на узорах уральского мрамора, которым отделаны стены и ложи, он переливался на темновишневом бархате тяжелого занавеса. Света было очень много, и много было также живых цветов, которые заполнили авансцену и стол президиума.
Слет стахановцев был посвящен обсуждению обращения трудящихся Ленинграда о выполнении пятилетки в четыре года! С докладом выступил директор комбината Григорий Иванович Носов.
Директор говорил об автоматизации мартеновских печей, об электрификации, механизации труда и десятках других больших, смелых дел, называл цифры, которые волновали каждого сидящего здесь. Надо добиться коэфициента использования полезного объема доменных печей ниже 0,90, съема стали не менее чем 6 тонн с каждого квадратного метра площади пода мартеновской печи. Может быть, другим эти цифры говорят очень мало, а металлурги гордо улыбаются, многозначительно переглядываются и радуются этим цифрам – они открывают замечательные пути для движения вперед.
– За несколько военных лет мы совершили такой взлет, который, пожалуй, в другое время не совершили бы и за много лет, – говорит докладчик. – Но мы видим перед собой другие, еще более высокие вершины, которые должны завоевать.
Речь директора становится более горячей и страстной, и зал отвечает гулом одобрения.
– Мы перекрыли технические мощности доменных печей, – продолжает Носов. – Ну что из этого? А стахановцы-доменщики внесли свои поправки, они перешагнули запроектированный технический коэфициент использования полезного объема домны – единицу. Эта цифра теперь для них – дело прошлого. Мы на большинстве прокатных станов перекрыли проектные нормы. Ну, так что из этого? Кто устанавливал эти предельные технические нормы? Американская фирма «Фрейн», немецкая фирма «Демаг». Они исходили из своего, капиталистического, способа производства, а наши стахановцы внесли свои поправки. Они исходят из нашего, социалистического, способа производства.
Директор говорит о людях комбината, о людях социалистического производства с их новым отношением к труду, горячим сердцем патриотов и неукротимым желанием победить. Эти люди ищут и находят новое, раскрывают огромные резервы, обеспечивающие невиданный рост производства. Они – опора и надежда пятилетки.
– Мне, – говорит Носов, – рассказывал мастер третьего мартена товарищ Лупинов, что к нему, как депутату Верховного Совета РСФСР, пришла с жалобой группа сталеваров. Они жаловались на нас – руководителей завода, что мы не создаем им условий для работы: печи много времени простаивают из-за отсутствия чугуна. Я спросил у товарища Лупинова, кто жалуется – не Петр ли Бревешкин? – Он. – А какой, спросил я, у него съем стали? Оказывается, товарищ Бревешкин снимает в отдельные дни 8—9 тонн стали с одного квадратного метра площади пода. Вы подумайте, товарищи, об этой цифре. Она в полтора – два раза больше того, что было запланировано конструкторами.
Сталевар Бревешкин поднимается из-за стола президиума.
– Я, Григорий Иванович, не жаловался, а, действительно, просил, можно сказать, требовал. У нас в мартене сейчас жаркая борьба разгорелась за скоростные плавки, и мы будем давать по 8—9 тонн стали. Я беру такое обязательство и вызываю на соревнование всех сталеваров.
– Вы слышите, товарищи руководители? Вы слышите заявление товарища Бревешкина? – говорит Носов. – За нами теперь дело. Народ поднимается на призыв Родины, партии большевиков, на призыв нашего Сталина…
* * *
Народ поднимается!
В мартеновском цехе № 1 атмосфера всеобщего подъема и творческого напряжения. Листовки-«молнии» говорят словами боевой сводки о победах на разных участках цеха. «Боевые листки» висят в каждом пролете, напоминая фронт и солдат, которые после удачной атаки, примостившись у борта машины, старательно выводили слова привета отличившимся товарищам.
На огромном щите – диаграмма: две стрелы, одна – сплошная, поднимающаяся круто вверх, показывала рост съема стали по цеху за последние месяцы (в тоннах) – 5,68; 5,77; 5,96; 6,25…; другая стрела тоже шла вверх, плавно закругляясь полудугой, она показывала рост скоростных плавок по месяцам – 23; 30; 51; 82… Эти стрелы точь-в-точь похожи на те, которые чертили в военные дни на топографических картах, изображая прямой жирной красной стрелой направление главного удара и полукругом – обход и охват противника с флангов, чтобы железными клещами зажать его и раздавить. И это волнующее ощущение, словно ты находишься на передовой линии фронта, уже не покидает тебя в цехе.
Секретарь цехового партбюро Павел Батиев, большого роста, плечистый, с веселыми, как бы вечно смеющимися, глазами, только собрался было выйти из своего кабинета, как открылась дверь, и в партком вошел молодой человек, одетый по-праздничному.
– А-а-а, товарищ Любенков, заходи, заходи, чем могу помочь? – спросил Батиев, и веселые, со смешинкой глаза его смотрели приветливо, но испытующе.
Любенков потоптался, словно не зная с чего начать.
– Я по поводу того дела… ну, насчет «Крокодила». Ведь зря нас с Яковлевым опозорили на весь цех.
– Почему же зря? Сто тонн стали недодали – факт, брак сварили – тоже факт.
– Так-то оно так, да мы ж не виноваты. Опыта мало.
– Опыта, говоришь, мало, – ответил Батиев, – а у Корчагина больше опыта? У молодого мастера Захарова тоже больше? У комсомольца Лапаева Петра неужто больше опыта, чем у тебя? Нет, товарищ Любенков, не опыта у тебя меньше, а совести, честности советского человека меньше. Весь народ вперед пошел, а вы двое на месте остаться хотите. Не так ли?
Любенков слушал Батиева, виновато опустив голову. Он мял в руках шапку, расстегнул тужурку и по слипшимся на лбу волосам и выступившим каплям пота видно было, до чего жарко человеку. Любенков вскинул голову и с явной обидой в голосе сказал:








