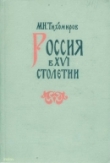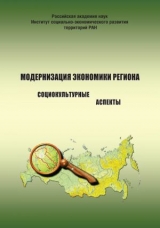
Текст книги "Модернизация экономики региона. Социокультурные аспекты"
Автор книги: Александра Шубанова
Жанры:
Экономика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Среди непривлекательных черт региона в 2010 г. по сравнению с 2008 г. стали реже отмечаться суровый климат и неприветливость людей. Кроме того, несколько уменьшилось число людей, считающих, что жизнь в регионе «заглохла». Вместе с тем жители крупных городов (Вологды и Череповца) придерживаются обратного мнения. Среди них увеличились доли людей, считающих, что жизнь в регионе становится неинтересной и что «здесь не любят инициативу» (на 3 п.п.; табл. 2.4).
Таблица 2.4. Непривлекательные черты Вологодской области в 2008 и 2010 гг. (территориальный разрез, в %)
В целом чувства людей по отношению к своему региону за период 2008–2010 гг. не претерпели существенных изменений (табл. 2.5). Большинство населения (в 2008 г. – 75 %, в 2010 г. – 73 %) удовлетворено тем, что живет в Вологодской области. Однако доля тех, кому не нравится жить, но кто привык и не собирается уезжать, увеличилась на 4 п.п.
Таблица 2.5. Распределение ответов населения Вологодской области на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к своему региону?» (территориальный разрез, в %)
Подчеркнем, что позитивный настрой по отношению к своему региону несколько снизился в г. Череповце и районах области. В г. Вологде, напротив, увеличилась доля тех, кто вполне удовлетворен, что живет в Вологодской области (с 31 до 39 %).
Отметим, что в целом в регионе, вследствие финансово-экономического кризиса, за короткий период (2008–2009 гг.) произошло снижение основных экономических и социокультурных показателей и смещение идентификационных установок населения.
2.2. Социальная стратификация населения
Доход является определяющим фактором благосостояния населения. Социальное неравенство – одно из основных следствий капитализации российской экономики, проявившееся, в частности, в дифференциации доходов. По данным Росстата, около трети доходов страны получают сегодня 10 % самых богатых, а 10 % самых бедных – лишь 1,9 % суммарных доходов[33 – Данные Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/gks.ru].
Распределение общего объема денежных средств населения по 20 %-ным группам в Вологодской области характеризуется крайней неравномерностью. Рост коэффициента Джини говорит об увеличении дифференциации между бедными и богатыми. Такие последствия кризиса, как рост безработицы, снижение уровня жизни, привели к снижению дифференциации доходов населения и возврату показателей коэффициента Джини в 2009 г. к уровню 2006 г. (табл. 2.6). Тем не менее степень неравенства населения остается высокой.
Социальная стратификация как нельзя лучше описывает систему неравенства между социальными группами. Согласно данным общероссийского исследования Института социологии РАН «Российская повседневность в условиях кризиса: взгляд социологов»[34 – Исследование проводилось в феврале 2009 г. Выборка репрезентативная по полу, возрасту, типу поселения, объем – 1750 чел.], проведенного в феврале 2009 г., экономически активное население страны в настоящий момент делится на четыре практически равные части (рис. 2.2).
Таблица 2.6. Распределение общего объема денежных средств населения по 20-процентным группам в Вологодской области в 2000–2009 гг., %
Рис. 2.2. Типы социальных позиций, занимаемых экономически активным населением России, в %
Ранжировано по уровню индивидуального дохода: средний класс – 15 тыс. руб., рабочий класс – 12 тыс. руб., зона формирования низшего класса – 6,35 тыс. руб., маргинальные позиции – 9 тыс. руб.
Источник: Тихонова Н. Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социс. – 2011. – № 5. – С. 24–35.
Факт наличия в стране значительной части населения, относящейся к маргинальному слою, свидетельствует о незавершенности в российском обществе процесса формирования классовой структуры, так как многие показатели, по которым выделяется данная группа (уровень доходов, профессиональные позиции и т. д.), не всегда соотносятся между собой, что характерно для западных сообществ. Но четкая идентификация более чем трех четвертей экономически активного населения страны позволяет говорить о применимости классовой модели для российского общества[35 – Российская повседневность в условиях кризиса / под ред. М. К. Горшкова и Н. Е. Тихоновой. – М.: Альфа-М, 2009. – 272 с.].
Согласно методике Л. А. Беляевой, кроме уровня дохода учитываются такие критерии, как управление людьми и образование. Они репрезентируют социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное поля. Каждый из этих критериев обладает сильными социально-дифференцирующими свойствами, а при их сочетании достигается эффект разделения населения на социальные слои, различающиеся местом в общественной иерархии[36 – Беляева Л. А. Материальная дифференциация и социальная стратификация в России и регионах // Опыт подготовки социокультурных портретов регионов России: материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 25–28 сентября 2007 г. / под ред. Е. А. Когай. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2007. – С. 38.]. Применение кластерного анализа методом К-средних, исключая итерации, на основе вышеперечисленных критериев ведет к выделению пяти кластеров – социальных слоев (рис. 2.3). Приведем характеристику социальных страт. «Высокостатусные» имеют высшее образование, 5–10 подчиненных, являются «зажиточными». «Эксперты» имеют высшее образование, являются «обеспеченными», подчиненных не имеют. «Реалисты» имеют среднее специальное образование, являются «обеспеченными», подчиненных не имеют. «Бедные руководители» имеют среднее специальное образование, подчиненных в количестве 10–50 человек, являются «необеспеченными». «Низкостатусные» имеют незаконченное среднее образование, являются «бедными», подчиненных не имеют[37 – Беляева Л. А. Россия и Европа: структура населения и социальное неравенство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/97/3_97_2010_Belyaeva.pdf].
Рис. 2.3. Стратификация населения Вологодской области в 2008 и 2010 гг.
Источник: данные опроса «Социокультурный портрет региона», проведенного ИСЭРТ РАН в 2008 и 2010 гг.
По данным за 2008 г. наиболее широко в Вологодской области представлены «реалисты» (42 %), «экспертов» было несколько меньше (27 %), «низкостатусные» составляли 1/5 населения области (20 %). Следовательно, самыми малочисленными стратами являлись «высокостатусные» (6 %) и «руководители (5 %).
В 2010 г., вследствие влияния финансово-экономического кризиса, существенно изменилась социальная структура населения. «Реалисты» по-прежнему составляют самую массовую страту в регионе. Кроме того, их численность незначительно, но увеличилась (с 42 до 46 %). В два раза сократились и без того малочисленные страты людей, обладающих властными полномочиями. Так, страта «высокостатусных» сократилась с 6 до 3 %. Страта «руководителей» не только уменьшилась с 5 до 2 %, но и за счет снижения доходов ее представителей трансформировалась в страту «бедные руководители». Число «экспертов» сократилось в два раза (с 27 до 14 %). Произошло резкое снижение социального статуса 15 % населения региона. В результате доля «низкостатусных» возросла до 35 %. Таким образом, в период 2008–2010 гг. наблюдалась высокая социальная мобильность населения, за которой последовало снижение социального статуса части населения.
2.3. Средний класс в регионе
Социальная стратификация населения тесно связана с понятием «средний класс». В развитых странах средний класс является основополагающим слоем, выступая гарантом социальной и политической стабильности, законодателем норм социально-экономического, культурного поведения. Представителей среднего класса характеризуют независимость и критичность мышления, способствующие развитию гражданского общества и эффективности государственного управления. Они, проявляясь в качестве крупных потребителей, инвесторов, налогоплательщиков, воспроизводя квалифицированную силу, привнося инновации в различные сферы деятельности, содействуют диверсификации экономики. Высокая наполняемость среднего класса обеспечивает устойчивость конструкции общественного устройства, не допуская острых конфликтов между богатыми и бедными, тем самым смягчая экономико-политическую ситуацию. Представители среднего класса, как воплощение успешности, задают стандарты потребления, служат образцом для подражания многим людям, влияя на умонастроения всего общества, формируя представления о формах трудовой и досуговой деятельности.
В России, по разным оценкам, численность среднего класса колеблется от 3 % («идеальный средний класс») до 30 %, а то и 60 % («перспективный средний класс»)[38 – Аврамова Е. М. Средний класс эпохи Путина // Общественные науки и современность. – 2008. – № 1. – С. 28–36.]. Оценка среднего класса в регионе была выполнена на основе данных опроса населения Вологодской области, проведенного ИСЭРТ РАН в мае 2010 г.[39 – Объем выборки – 1500 человек. В опросе принимали участие жители двух крупных городов – Вологды и Череповца и восьми муниципальных районов Вологодской области. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением половозрастной структуры взрослого населения, пропорций между городским и сельским населением, между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города). Ошибка выборки составляет не более 3 %.] Рассматривая различные подходы к выявлению масштабов среднего класса и учитывая в каждом случае определенные критерии, мы пришли к выводу, что численность среднего класса в области составляет до 51 % населения. Это в целом согласуется с общероссийскими данными (табл. 2.7).
Первый подход к оценке среднего класса дает основание относить к среднему классу каждого второго жителя региона. Это характерно и для России в целом. Применив второй подход, мы выявили, что социальная характеристика представителей среднего класса мало отличается от социального портрета населения в целом и не вполне соответствует российским представлениям о среднем классе, тем более – мировым стандартам. Во всех последующих методиках учитывались узкие критерии (например, если уровень образования, то не ниже высшего и т. п.) и ряд дополнительных характеристик (обязательное наличие автомобиля, сбережений и т. п.). Оказалось, что в этих случаях доля среднего класса в регионе не превышала 3 %, а то и полностью отсутствовала. Основным фактором малочисленности среднего класса в Вологодской области и России в целом являются низкие доходы, а соответственно, недостаточный уровень сбережений населения[40 – Костылева Л. В., Окулова Н. А. Оценка масштабов среднего класса в регионе // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 1 (13). – С. 73–74.].
Таблица 2.7. Размер и социальные характеристики среднего класса в Вологодской области в соответствии с различными подходами*
Чтобы оценить состав среднего класса, был применен кластерный анализ методом К-средних, исключая итерации. Была выделена группа, соответствовавшая всем перечисленным критериям и составлявшая около 10 % численности населения региона (табл. 2.8).
Таблица 2.8. Численность страт среднего класса и их кластерные центры в Вологодской области, 2010 г.
В целом средний класс региона подразделяется на три слоя (нижний, средний и верхний), различающихся по уровню дохода, образования, по профессиональному статусу их представителей:
1. Нижний слой – «труженики» (20 % среднего класса региона), имеющие среднее специальное образование, 15–20 тыс. руб. дохода на человека, занятые на рабочих должностях либо в сфере обслуживания.
2. Средний слой – «интеллектуалы» (69 %), имеющие высшее образование, 20–30 тыс. рублей дохода на человека, чаще наемные работники, высококвалифицированные специалисты, занятые в непроизводственной сфере (учитель, врач, научный работник, журналист и т. д.).
3. Верхний слой – «организаторы» (11 %), занимающие руководящие должности, имеющие высшее образование, 30–50 тыс. руб. дохода на человека. Как правило, это предприниматели, имеющие свое дело. От представителей прочих слоев среднего класса их отличает возраст – старше 55 лет.
Таким образом, складывается социальный портрет типичного представителя среднего класса области: мужчина 25–34 лет, состоящий в зарегистрированном браке, проживающий в Вологде или Череповце, занятый на государственном предприятии в промышленной сфере. Среди представителей этого класса доля предпринимателей (6 %), инженерно-технических работников, интеллигенции, не занятой на производстве (по 12 %), более значительна в сравнении с массивом в целом, хотя пока заметно преобладание именно рабочих (19 %)[41 – Костылева Л. В., Окулова Н. А. Там же. – С. 75.].
Углубленное интервью позволяет сделать вывод, что население Вологодской области считает основой принадлежности к среднему классу материальную обеспеченность человека. Некоторые респонденты отмечали, что принадлежность к среднему классу зависит не только от материального благополучия, но и культурного уровня человека, его профессиональной деятельности. Следовательно, низкий уровень доходов уравновешивается нравственными ценностями, моральными достижениями, высокой квалификацией, престижем или социальной значимостью профессии. В определенной мере играет роль круг общения, уровень знакомств.
В масштабах своего населенного пункта 42 % жителей в регионе относят себя к среднему слою (2010 г.; табл. 2.9). Их доля в период с 2008 по 2010 г. сократилась на 4 п.п. В масштабах региона средний слой составляет 33 %, а в масштабах страны – 25 %. То есть с расширением масштаба от населенного пункта до страны чувство сопричастности со средним слоем у людей уменьшается.
Таблица 2.9. Распределение ответов населения Вологодской области на вопрос: «К каким социальным слоям Вы относите себя: в своем городе (селе), в регионе и в масштабе своей страны?», в %
Численность среднего класса в Вологодской области была определена на основе данных о материальном достатке, самоидентификации, профессионально-образовательном уровне населения и методики Л. А. Беляевой[42 – Согласно методике Л. А. Беляевой, для определения границ среднего класса и его размера в регионе используются три критерия, представленные в анкете Типовой программы: 1) самоидентификация со средним слоем общества; 2) материальный достаток на уровне обеспеченных и зажиточных; 3) уровень образования не ниже среднего специального. Пересечение этих критериев позволяет выделить группу, которая может быть идентифицирована как средний класс.]. В 2010 г. она составила 14 % населения региона. В сравнении с 2008 г. доля выделенного среднего класса значительно сократилась (на 7 п.п.).
Это обусловлено снижением и самооценки, и материального уровня, и интенсивности самоидентификации населения со средним слоем.
Средний класс в Вологодской области в рамках своего населенного пункта, как и массив в целом, в большей степени представлен женщинами, людьми в возрасте 45–54 лет (табл. 2.10).
Таблица 2.10. Социально-демографические характеристики среднего класса Вологодской области, в %
Образование представителей выделенного среднего класса в основном является средним специальным. Среди них, как правило, больше людей, которые не состоят в браке. Большинство живет в Вологде и Череповце. По удельному весу среднего класса Вологда в 1,7 раза отстает от индустриального Череповца. В 2010 г. в сравнении с 2008 г. состав среднего класса, согласно социально-демографическим характеристикам, существенно изменился. Сокращение доходов населения в период кризиса изменило структуру среднего класса, а именно уменьшилась доля молодых людей и людей с высшим образованием. Возраст представителей среднего класса в 2010 г. снизился до 45–54 лет. Глобальный финансово-экономический кризис оказал негативное влияние на изменение численности среднего класса и на социально-демографические показатели, характеризующие его представителей.
Отметим также, что в России в целом в период 2006–2010 гг. численность представителей среднего класса несколько возросла (с 22 до 24 %)[43 – Данные всероссийского мониторинга «Ценности и интересы населения России» ЦИСИ ИФ РАН, 2006 и 2010 гг.].
Подводя итог, отметим снижение поселенческой идентичности населения области (с 7,7 до 7,23 ед.), что в большей мере обусловлено не столько кризисом 2008 г., сколько общероссийскими тенденциями развития. В то же время кризис показал резервные силы населения как региональной общности, которая укрепила свою целостность (с 1,45 до 1,76 ед.) на фоне сложной социально-экономической ситуации в регионе. Тем не менее на 15 % за счет остальных страт увеличилась численность низшей старты – «низкостатусных». При этом средний класс, социальная группа, способная воспринимать и реализовывать инновации и модернизации во всех сферах жизнедеятельности человека, сократился на треть (с 21 до 14 %).
Глава 3. Повседневные заботы и базовые ценности населения
3.1. Социальное самочувствие населения региона
Социальное самочувствие показывает эмоциональную реакцию на требования и возможности существующей в обществе системы социальных благ. Чем больше человек ощущает нехватку социальных благ, тем хуже его социальное самочувствие. В связи с событиями финансово-экономического кризиса и его последствий рассмотрение данного вопроса становится особенно актуальным. Социальное самочувствие – интегральный показатель, отражающий экономические, политические и социальные процессы, происходящие в обществе. Он позволяет фиксировать три его базовые составляющие: степень защищенности жителей региона от главных опасностей; степень удовлетворенности своей жизнью в целом; степень оптимизма в оценке ими своего настоящего и будущего[44 – Ромашкина Г. Ф. Социокультурный портрет Тюменской области: опыт эмпирического исследования // Опыт апробации типовой методики «Социологический портрет региона»: сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции. – Ч. II. – Тюмень: ТюмГУ, 2006. – 182 с.].
В 2010 г. в Вологодской области произошло снижение интегрального индекса социального самочувствия с 0,62 (2008 г.) до 0,61. В целом уровень социального самочувствия в регионе оказался несколько ниже не только окружных, но и общероссийских показателей (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Индекс социального самочувствия населения Вологодской области, СЗФО, РФ в 2008 (2006 гг.) и в 2010 г.
Компоненты интегрального индекса изменились неравноценно. Показатели защищенности населения от опасностей и его удовлетворенности жизнью не изменились (0,6 и 0,61 соответственно; рис. 3.2). Однако произошло понижение уровня оптимистических настроений в обществе. Наибольший стресс испытали люди, занимающие руководящие должности. Коэффициент оптимизма более всего снизился у людей с низкими доходами, в возрастном интервале 35–55 лет, а также у людей, не состоящих в браке. В поселках городского типа наблюдалось наибольшее снижение индекса социального самочувствия. В регионе коэффициент удовлетворенности жизнью в целом остается ниже, чем в СЗФО и РФ (0,61 против 0,71 и 0,68 соответственно). В то же время уровень защищенности от опасностей в области выше (0,6 против 0,59). Показатель оптимизма соответствует уровню СЗФО и выше, чем в России в целом (0,61 против 0,58).
Заметим, что составляющие показателей индекса социального самочувствия в Вологде, Череповце и районах Вологодской области были различны как в 2008 г., так и в 2010 г. (рис. 3.3).
По сравнению с уровнем 2008 г. на всей территории области наблюдается снижение частных индексов социального самочувствия населения.
Рис. 3.2. Коэффициенты индекса социального самочувствия населения Вологодской области, СЗФО, РФ в 2008 (2006 г.) и в 2010 гг.
Рис. 3.3. Индекс социального самочувствия населения Вологодской области 2008–2010 гг. (территориальный разрез)
Более всего индекс социального самочувствия снизился в г. Череповце (0,04), в г. Вологде – менее всего (0,01). Но череповчанам удалось сохранить наивысший в регионе заряд социального самочувствия, который превышает общерегиональные значения. Социальное самочувствие жителей Вологды, как и прежде, близко к районным значениям.
Таблица 3.1. Составляющие индекса социального самочувствия населения Вологодской области 2008–2010 гг. (территориальный разрез)
В период кризиса у населения областной столицы ослабло чувство оптимизма и защищенности. В то же время повысилась удовлетворенность жизнью. У жителей Череповца произошло снижение всех составляющих индекса социального самочувствия, но более всего, как и в Вологде, снизился коэффициент оптимизма, менее всего – степень защищенности людей. Однако в целом именно Череповец имеет самые высокие показатели составляющих индекса социального самочувствия, существенно превышающие общерегиональные. В районах региона удовлетворенность жизнью осталась на прежнем достаточно низком уровне, при этом серьезно понизился коэффициент оптимизма, а защищенность от опасностей повысилась. Таким образом, каждая территория региона имеет свои особенности, которые проецируются на сознание ее жителей. Кризисные явления не столько снизили общую удовлетворенность жизнью населения, сколько оказали внутреннее социально-психологическое давление на людей, проявившееся через их обеспокоенность будущим.
Отметим, что исследования ИСЭРТ РАН, проведенные в 2010 г., подтверждают снижение уровня социального самочувствия населения относительно 2008 г. Вместе с тем в 2009 г. данные показатели были еще ниже. Таким образом, в настоящее время индекс социального самочувствия населения имеет тенденцию к росту, а значит, к восстановлению прежнего уровня, что позволяет сделать вывод о быстрой адаптации жителей региона и в то же время не столь глубоком воздействии современного кризиса на жизнедеятельность людей[45 – Экономическое положение и социальное самочувствие жителей Вологодской области (декабрь 2010 г.) // Мониторинг общественного мнения. Экспресс-информация. № 36 (521) / ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2010. – 5 с.; Северо-Запад России: тенденции общественных настроений (2005–2010) // Тенденции и проблемы развития региона. – Т. 3 (Ч. II) – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – С. 440–452.].
Выявление проблем-опасностей для населения предоставляет возможность показать некоторые острые проблемы развития страны и региона, в том числе в период кризиса (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Жители Вологодской области (2008 и 2010 гг.) о своей защищенности от социальных опасностей, в %
По оценкам жителей области, в 2010 г., как и двумя годами ранее, на первом месте в ней стоит проблема преступности: 53 % вологжан чувствуют себя незащищенными перед этой опасностью. На втором месте среди основных проблем-опасностей по-прежнему находится бедность (50 %). На третий план выходит проблема экологической безопасности (актуальна для 45 % населения), отодвинув проблемы произвола чиновников и правоохранительных органов (43 и 39 % соответственно).
Одинаково незащищенными себя ощущают все без исключения категории населения независимо от возраста и уровня дохода. Разведенные и проживающие в малых городах (до 100 тыс. человек) люди чувствуют большую незащищенность от социальных опасностей, нежели лица других категорий.
Данные исследования подтверждаются результатами XXXI и XXXII этапов социологического мониторинга «Как живешь, Россия?», проведенного отделом стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН в 2009–2010 гг.[46 – Опрос проводился в 11 регионах Российской Федерации. Объем выборочной совокупности в декабре 2009 г. составил 1848 респондентов, в июне 2010 г. – 1826 респондентов. Выборка квотно-пропорциональная с взаимозависимыми характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста, образования, местожительства, национального и социально-профессионального состава.] Как показали результаты мониторинга, для трети респондентов в конце 2009 г. актуальна проблема преступности (34 %). Российское сообщество стало острее реагировать также на произвол чиновников (33 %). В то же время в структуре тревожности наблюдалось некоторое снижение доли экономических факторов[47 – Гражданское общество в России: устойчивость и потенциал. По материалам XXXI и XXXII этапов мониторинга «Как живешь, Россия?» / В. К. Левашов, И. С. Шушпанова, В. А. Афанасьев, О. П. Новоженина // Наука. Культура. Общество. – 2010. – № 3. – С. 22.].
Обобщенную характеристику социального самочувствия жителей региона дают их ответы об удовлетворенности своей жизнью. Удельный вес вологжан, довольных жизнью (42 %), превышает долю недовольных (35 %; табл. 3.3).
Таблица 3.3. Насколько жители Вологодской области (2008 и 2010 гг.) удовлетворены своей жизнью в целом, в %
В период с 2008 по 2010 г. удельный вес жителей области, удовлетворенных текущей жизнью, сократился с 47 до 42 %. Одновременно возросла доля тех, кого в жизни что-то не устраивает (2008 г. – 36 %; 2010 г. – 40 %).
Удовлетворенность жизнью связана с уровнем образования людей и местом их проживания. Жители сельской местности меньше удовлетворены жизнью (36 %), чем жители городов (более 45 %). Чем выше уровень образования, тем больше степень удовлетворенности: среди лиц, не имеющих образования или имеющих незаконченное среднее, только четверть удовлетворены жизнью; у людей со средним образованием ответы распределились практически поровну; наконец, более 60 % людей с высшим образованием не жалуются на жизнь.
Удовлетворенность жизнью зависит и от самооценки материального положения. Люди, относящие себя к категории населения с низкими доходами, менее удовлетворены жизнью, чем обеспеченные и зажиточные граждане.
Еще одной важной составляющей социального самочувствия является уверенность в будущем (табл. 3.4), которую высказали 38 % населения региона, что на 9 % меньше, чем двумя годами ранее. И хотя число неуверенных также сократилось, на 14 п.п. возросла доля затруднившихся в ответе на данный вопрос, и это говорит о сомнениях вологжан относительно оптимизации социально-экономического положения в области. При этом мужчины в большей степени уверены в завтрашнем дне по сравнению с женщинами (42 % против 34 % соответственно). Городские жители чувствуют большую уверенность в завтрашнем дне (44 %), чем сельские (25 %).
Таблица 3.4. Насколько жители Вологодской области (2008 и 2010 гг.) уверены в своем будущем, в %
Неудовлетворительные жилищные условия оказывают влияние на данные показатели. В своем будущем не уверены около 50 % людей, не имеющих собственного жилья, и тех, кто живет в общежитии. К тому же более 60 % этой категории населения не удовлетворены своей жизнью.
Уровень удовлетворенности россиян жизнью в целом (5,5 балла из 10) на порядок ниже, чем в Скандинавских странах (8,0 балла), странах Западной, Южной и Восточной Европы (7,2; 6,3; 6,1 балла соответственно), Прибалтики (6 баллов). Среди обследованных стран оценка общей удовлетворенности жизнью ниже только в таких странах Восточной Европы, как Украина (4,2), Болгария (4,4) и Венгрия (5,3; прил. 2, табл. 9)[48 – Данные международного проекта «Европейское социальное исследование» 2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.europeansocialsurvey.org.].
Удовлетворенность людей жизнью в целом складывается из разных составляющих. В связи с этим заметим, что в 2008 г. россияне сравнительно высоко оценивали работу руководства страны (4,9 балла; выше только в Скандинавских странах – 5,5 балла). Удовлетворенность состоянием экономики оценивалась россиянами ниже среднего (3,5 балла при среднем значении 3,8). Удовлетворенность жителей России состоянием системы образования сравнительно низкая (4,5 балла при среднем значении 5,3 балла). Еще ниже удовлетворенность системой здравоохранения в стране (3,6 балла при среднем значении 5,1).
Дальнейшие изменения в сфере социального самочувствия населения по-прежнему будут зависеть от эффективности мероприятий федеральных и региональных властей по развитию экономики региона. В связи с этим наиболее значимыми задачами в области экономической и социальной политики остается реализация антикризисных мер и создание условий для повышение уровня жизни населения.
3.2. Ценностные ориентиры населения
Изменение социокультурных традиций – процесс продолжительный, во многом зависящий от преобладающих в обществе ценностных ориентиров. Ценности образуют ядро мировоззрения индивида. Система ценностных ориентиров вырабатывается длительный период времени и определяет поведенческие практики человека.
Под ценностями понимаются значимые, общепринятые и разделяемые в обществе убеждения относительно целей, к которым люди должны стремиться, а также средства их достижения[49 – Сурина И. А. Ценности. Ценностные ориентации. Ценностное пространство: вопросы теории и методологии. – М.: Социум, 1999. – С. 24.]. Базовые ценности, образующие своеобразный ценностный архетип менталитета общества, лежат в фундаменте «пирамиды ценностей». Верхние страты «пирамиды ценностей» – это более мобильные, более быстро меняющиеся ценности; нижние, фундаментальные – это ценности длинных циклов бытия. Их содержание, их смыслы меняются медленно[50 – Субетто А. И. Ценности в системе общественного интеллекта. «Ценностная война» и защита ценностной самоидентификации российской цивилизации // Академия тринитаризма. – М., Эл. № 77-6567, публ. 10815, 14.11.2003.].
Итак, нормы поведения людей определяются ценностными установками, совокупность которых формирует ценностное пространство, т. е. структурирует среду[51 – Методологический комментарий: Ценностная структура населения региона согласно методике Н. И. Лапина представлена в виде 4 слоев (интегрирующее ядро, интегрирующий резерв, оппонирующий дифференциал, конфликтогенная периферия). Интегрирующее ядро включает в себя основополагающие ценности людей. К слою интегрирующего резерва относятся ценности второго порядка (запаса). В оппонирующем дифференциале находятся ценности, в которых многие люди отказываются признавать собственные ориентиры. Конфликтогенная периферия включает ценности, которые отрицаются большинством. Базовые ценности поровну делятся на терминальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства); и те и другие классифицируются на три культурных типа: традиционный, общечеловеческий, современный. В соответствии с методикой Н. И. Лапина, являющейся составной частью типовой программы, для выявления базовых ценностей людям были предложены 14 суждений. Каждое из суждений соответствовало определенной ценностной категории.Соответствие ценностей ценностным суждениям]. Исследование 2008 г. показало, что ценностное пространство региона более узкое, чем по России в целом (1,81 и 2,63 балла соответственно). Но в 2010 г. оно расширилось. Дистанция между минимально и максимально поддерживаемыми ценностями стала составлять 2,22 балла, что говорит о проявлении населением большей осмысленности в расстановке жизненных приоритетов во время кризиса. Возможно, что в переломный момент свершился очередной пересмотр ценностных ориентиров. Т. е. число тех, кто поддерживал первоочередные ценности (ценности интегрирующего ядра), увеличилось, в связи с этим возросла значимость человеческой жизни, семьи. В свою очередь, ценность таких категорий, как властность, своевольность (отрицаемые большинством), еще более снизилась (табл. 3.5).