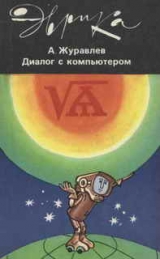
Текст книги "Диалог с компьютером"
Автор книги: Александр Журавлев
Жанр:
Программирование
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Синтаксис любви

Синтаксический символизм
Вот уже на протяжении нескольких глав мы беседуем о содержательности языковой формы, находим в ней все новые и новые аспекты, убеждаемся в том, что этот «потаенный» семантический аспект играет весьма существенную роль в жизни и действии языка.
Мы рассмотрели содержательность отдельных звуков речи, фоносемантику слов и даже текстов. Здесь все уже неплохо отработано, этим знаниям обучен компьютер, он и сам помогает их развивать и даже решает практические задачи на основе освоенной информации.
Но вправе ли мы считать, что изучены уже все грани семантики, что содержательность языковых форм, например, не имеет больше никаких аспектов? Едва ли. Формы эти многообразны, и язык, пожалуй, не допустит такой роскоши, чтобы иметь бессодержательные, «пустые» формы. Он устроен очень экономно, старается использовать любую возможность распорядиться своими ресурсами оптимальным образом. Содержательность формы дает возможность теми же средствами передавать дополнительную информацию, от чего язык наверняка не откажется.
А компьютеру такое особенно выгодно: чем больше информации можно получить о содержании через анализ формы, тем «смышленее» компьютер, потому что работа с формой для него не проблема, тогда как в содержании ему чаще всего разобраться очень и очень трудно. Так что не будем стоять на месте, будем искать все новые аспекты содержательности языковой формы, чтобы глубже постичь устройство и действие языка и передать добытые знания компьютеру.
Пусть на нашем пути еще не все будет так точно и определенно, чтобы немедленно писать компьютерные программы. Пусть пока будет больше гипотез, чем решений. Что же, находит тот, кто ищет.
И если до сих пор мы беседовали в основном об уже готовых, работающих компьютерных программах, то дальше начинается «зона поиска». Здесь речь пойдет о том, каким еще семантическим явлениям языка можно было обучить компьютер и как для этого такие явления обнаружить и описать.
Мы вступаем в полностью неизвестную читателю область знаний, поэтому от него, читателя, потребуется и внимание, и труд, и соучастие: будет изложена гипотеза, в которой много вопросов и мало ответов, и читатель сможет сам искать подтверждение или опровержение высказанным суждениям. Все дальнейшие диалоги с компьютером тоже гипотетичны, порой даже научно-фантастичны. Сейчас еще нет программ, которые позволили бы компьютеру вести такие диалоги. Но, может быть, подобные программы как раз и построит кто-либо из сегодняшних читателей книги.
А начиналось все так.
Море выбросило на балтийский пляж некоторую хитрую конструкцию из двух деревянных кружков. Хитрость заключалась в непонятном способе соединения деталей. Вертя находку так и сяк, я задумался над тем, какими способами вообще можно скрепить два таких кружка, и стал рисовать подходящие конструкции на чистом янтарном песке пляжа. А моя маленькая дочь помогала мне: с визгом носилась по чертежам, не давая мне заклиниться на обнаруженных вариантах и побуждая к поискам новых решений.
В результате совместного творчества обнаружилось, что принципиально различных способов соединения кружков не так уж много.
Можно выпилить один кружок полумесяцем и приклеить его торцом ко второму. Можно у того и другого кружка отпилить по равному сегменту и склеить встык по месту отпилов. Наконец, можно частично наложить кружки один на другой и сбить или склеить их по месту пересечения. Все три способа предполагают наиболее тесное, непосредственное соединение кружков. Без дополнительных деталей больше, кажется, ничего не придумаешь.
А если использовать дополнительные средства, то можно сбить или склеить кружки с помощью палочки-перемычки. Соединение будет менее тесным, кружки уже не контактируют непосредственно, они отделены один от другого перемычкой, но в то же время скреплены жестко и прочно.
Используя веревочку, можно соединить кружки довольно слабой связью, но все же это будет связь. Веревочку можно набросить на кружки как велосипедную цепь либо вперехлест. В последнем случае зависимость кружков будет такая же, как и при зубчатой передаче: велосипедная цепь крутит колеса в одну сторону, а шкив вперехлест или зубчатая передача – в разные.
Вот, пожалуй, и все способы принципиально различных соединений. Любые другие соединения кружков в одной плоскости – лишь вариации перечисленных.
Раздумывая над этим обстоятельством, я предположил, что и в языке соединение простых предложений в составе сложного может, видимо, осуществляться тоже только такими способами. Конечно, язык не рисунки на песке. Потрудиться пришлось основательно. Но, исследуя текст за текстом, я находил все те же способы соединения частей сложных предложений. И в процессе этой работы неожиданно обнаружил вот что.
Соединения кружков и предложений могут быть равноправными и неравноправными. Например, в том случае, когда мы один кружок выпилили полумесяцем, а другой оставили целым, соединение явно неравноправное: один кружок не пострадал, остался полным и самостоятельным, а от другого сохранилась только часть, он утратил свою самостоятельность, стал лишь ущербной добавкой целого кружка. А вот когда мы ни один кружок не пилили, а просто склеили их, наложив частями друг на друга, соединение получилось равноправным: ни тот, ни другой кружок не пострадал, не утратил своей цельности и самостоятельности.
Сходные процессы наблюдаются при объединении простых предложений в сложное. Может оказаться так, что одно из объединяемых предложений остается полным, а второе ломается, от него в состав сложного целого входит лишь часть, лишь обломок. Объединение, разумеется, неравноправное. А в другом случае оба простых предложения остаются полными и входят в состав сложного как равноправные части.
Тут я с удивлением стал замечать, что «неравноправные» конструкции чаще всего и употребляются в тех текстах, где описываются неравноправные, негармоничные отношения между людьми: зависимость одного человека от другого, подчинение одного другому, неразделенная, безответная любовь... А «равноправные» конструкции чаще обнаруживаются в текстах с описанием равноправных, гармоничных отношений: дружба, взаимная любовь, счастье, сбывшиеся мечты.
Постепенно выстроилась довольно четкая система типов синтаксических конструкций и выражаемых ими отношений.
И все же я долго не мог во все это поверить и никак не решался опубликовать полученные результаты. Все казалось, что слишком увлекаюсь этой немыслимой идеей и вижу закономерности там, где их нет. Действительно, не странно ли утверждать, что писатель, описывая безответную любовь, начинает чаще употреблять «неравноправные» синтаксические конструкции, о которых он и слыхом не слыхал? А когда описывает взаимную любовь, то переходит на «равноправные» конструкции, о которых тоже ровным счетом ничего не знает?
Но, с другой стороны, о содержательности звуков речи или об их окраске поэты тоже ничего не знают и тем не менее используют, как мы видели, эти свойства звуков весьма активно и удивительно точно. А если есть фонетический символизм, то почему бы не быть и синтаксическому символизму? Почему бы и синтаксической форме не быть содержательной? Если все подтвердится, то для компьютера это будет бесценная находка, не говоря уж о важности обнаруженного явления для изучения языка.
Цель стоила усилий, и я продолжал набирать материал, пока наконец не убедился: что-то в этом синтаксическом символизме есть. Если даже и не все так четко и бесспорно, как мне кажется, то какие-то тенденции явно прослеживаются. И постепенно все более определенно выстраивалась любопытная картина, к рассмотрению которой мы и перейдем.
Строение предложения тоже представляет собою аспект языковой формы, хотя и несколько иной, чем, например, фонетическая форма (звучание) того же предложения. В устройстве предложения, в его конструкции, его структуре главное не элементы, а отношения между ними. Поэтому содержательность синтаксической формы – это содержательность не элементов (как в фоносемантике), а отношений между элементами синтаксической конструкции. Сами эти отношения без участия других сторон предложения (слов, звуков) могут, видимо, символизировать, как бы изображать отношения между людьми, создавая особого рода поддержку, аккомпанемент основному понятийному и экспрессивному содержанию предложения и целого текста.
Разумеется, отношения реально возникают в предложении лишь между словами и словосочетаниями, но если постараться как-то выделить сам тип отношений, то можно абстрагироваться, отвлечься от лексической плоти предложения, сосредоточив внимание лишь на его «скелете». Как в алгебре. В арифметической записи 2-1-3 = 5 одинаково важны и элементы (числа), и отношения между ними (знаки действий). Но можно выделить из этой записи лишь тип отношений и написать а + Ь = с. И это не будет отрывом формы от содержания. Напротив, форма записи стала хотя и менее конкретной, но более содержательной, так как описывает теперь множество сходных конкретных содержаний. Ведь а – какое угодно число, так же как и Ь, но суть в том, что соединение а и b дает с. Можно сказать, что запись символизирует отношение соединения, так же как а – Ь = с символизирует отношение разъединения.
Любопытно, что два указанных типа отношений небезразличны для нас. Почему-то людям больше нравится первый тип отношений, чем второй, что нашло свое отражение и в языке. Если говорят: Плюсы проекта заключаются в следующем, то это означает «хорошие» для нас аспекты проекта. А если говорят: У проекта слишком много минусов – значит, он плох. То же самое положительное и отрицательное решение, положительные и отрицательные эмоции и т. п. Иначе говоря, абстрактная алгебраическая запись отношений может, оказывается, символизировать человеческие отношения, оценки, предпочтения. А как же иначе? Ведь и сами эти алгебраические абстракции не придуманы человеком, они лишь отражают те отношения, которые наблюдаются между предметами в реальной действительности.
Что же тогда говорить о языке? Может ли его структура быть безотносительной к структуре тех представлений об отношениях, наблюдаемых в реальной действительности, которые складываются в сознании носителей языка? Едва ли. Скорее наоборот: отношения элементов языка будут строиться в соответствии с наблюдаемыми в реальной действительности и осознанными человеком отношениями. Конечно, не прямые соответствия, не копии, а сложно переработанные отражения реальной действительности следует искать в языке.
Вот и в предложении слова, словосочетания, отдельные части вступают в некоторые отношения – равноправия, подчинения, взаимной зависимости, односторонней зависимости, несовместимости и т. д. Возможно ли, чтобы смысл, символика таких отношений приобретали собственную содержательность, то есть улавливались бы подсознанием говорящих и каким-то образом соотносились с основным содержанием текста? А почему бы и нет? Это дало бы языку еще одну дополнительную возможность плотнее слить форму с содержанием, полнее и глубже выразить оттенки явного и скрытого смысла.
Пожалуй, нагляднее всего символика синтаксических отношений, которую можно назвать синтаксическим символизмом (или синтсимволизмом), проявляется в устройстве сложных и особенно сложноподчиненных предложений, когда в сложных конструкциях четко выделяются отдельные, относительно самостоятельные части, а тип отношений между ними явно обозначен семантикой скрепляющих части элементов-скреп (союзов, союзных слов). Синтсимволизм – тоже ореольный аспект семантики, но это ореол не слова, а предложения и даже целого текста.
Можно было бы сразу перейти к рассмотрению синтаксической символики, если бы существовали классификации сложных предложений, четко подразделяющие и описывающие различные типы отношений внутри синтаксических конструкций. К сожалению, таких классификаций нет. А те, что есть, хоть и многочисленны, но схоластичны, то есть построены ради самих себя и ни на что другое не годятся, кроме их изучения (с непонятными целями) в школе и вузе.
Поэтому нам пришлось строить свою классификацию сложных предложений, отдав тем самым дань необъяснимой страсти языковедов к построению разного рода классификаций. Нас, может быть, отчасти извиняет только то, что типы сложных конструкций нужны нам не сами по себе, а только и исключительно для того, чтобы выявить их синтаксическую символику и через нее – соотношения синтаксической формы с содержанием текста.
В связи с такой направленностью устремлений нас интересуют в сложных конструкциях лишь логико-структурные отношения между их частями и ничего больше. А отношения эти мы собираемся описывать следующим образом.
В составе сложного предложения могут существовать такие части, которые способны функционировать самостоятельно, отдельно от сложного целого, а также такие, которые отдельно, вне сложного предложения, употребляться не могут, потому что они не закончены, не завершены. Например, в предложении Я знаю, что он вчера уехал две части, соединенные скрепой что. Одна часть может функционировать самостоятельно в качестве отдельного предложения: Он вчера уехал. Но другая часть (я знаю...) сама по себе существовать не может, а только в составе сложного целого.
Поскольку мы начали «от Адама» (с построения первоначальной классификации), то в наших иллюстрациях синтаксических конструкций в дальнейшем будут действовать Адам и Ева. Кстати, отношения между ними проследить легче всего, поскольку никто третий их отношениям не мешал. Поэтому и обозначения введем такие: самостоятельные части – А и Е, зависимые части – а и е.
Рассматривать будем в основном (но не только) сложноподчиненные предложения, так как логико-структурная связь частей в них более определенна и наглядна.
Всего в нашей классификации оказалось 9 типов таких конструкций, которые мы и рассмотрим по порядку, каждую в отдельности.
Конструкция безответной любви
В конструкциях этого типа одна часть самостоятельна, а другая зависима и лишь дополняет основную. Логическую модель отношений между частями конструкции можно изобразить в виде формулы математической логики:
а (Е), что читается так: а является атрибутом Е. Пример: Известно, что Адам любит Еву. ←→
Проверкой того, что предложения принадлежат именно к данному типу конструкций, может служить специальный прием преобразования или трансформации, при котором меняется структура предложения, но его основной смысл остается тем же. Другими словами, образуется как бы синтаксический синоним к исходному предложению:
Известно, что Адам любит Еву
Адам, как известно, любит Еву.
При трансформации зависимая часть (известно) как бы вдвигается внутрь самостоятельной части, и из сложного предложения образуется простое. Проведенное преобразование конструкции наглядно свидетельствует о том, что именно часть Адам любит Еву самостоятельна, а часть известно – зависимая: ведь простое предложение образовалось лишь за счет части Адам любит Еву.
Для нас-то и так понятно, какая часть самостоятельна, а какая зависима. Но компьютеру все это придется разжевывать очень основательно. Как видим, в синтаксисе форма настолько тесно сплавлена, слита с содержанием, что и при выявлении типов форм с необходимостью приходится обращаться к содержательным критериям.
А это весьма и весьма усложняет работу с компьютером. Как ему объяснить, что значит самостоятельное или зависимое предложение? По каким признакам он будет отыскивать их в реальном сложном предложении, в реальном тексте? Пока на такие вопросы нет однозначных ответов. Единственная надежда на то, что логические формулы с указанием структурных трансформаций, довольно четко и формализованно описывающие логико-структурные отношения частей внутри конструкций, помогут со временем обучить компьютер и этим премудростям.
Итак, в окончательном виде логико-структурная формула конструкций первого типа такова:
а (Е) ←→ Е
Если вспомнить наши манипуляции с деревянными кругами, то для большей наглядности конструкцию можно изобразить графически, как на рисунке.

Один из кружков полный, законченный, другой ущербный и присоединен к первому. При трансформации ущербный кружок вдвигается внутрь полного (что показано стрелкой) и как бы перестает существовать – на виду остается только законченный кружок. На рисунке хорошо виден дисгармоничный характер конструкции, поскольку между частями нет равноправия.
Все это была подготовительная работа: нужно было четко выделить, а также поточнее описать саму конструкцию. Теперь займемся главным и наиболее интересным – выявим символику конструкции и проследим за ее функционированием в речи.
Одна часть конструкции, а именно Е, может существовать самостоятельно и нисколько не нуждается в а, тогда как а без Е никуда, существует только при Е. Это явно однонаправленная связь, которая наблюдается в отношениях господства и зависимости, командования и подчинения, неразделенной любви. Стало быть, такова и символика конструкции – символика дисгармонии, господства и зависимости, неразделенного чувства, безответной любви.
Заметьте, что в предложении говорится о чувствах Адама по отношению к Еве, но ничего не сказано о том, любит ли Ева Адама. Возможно, она к нему совершенно безразлична. Такая трактовка, сознаемся, несколько вольна: хорошо известно, что именно Адам проявлял к Еве непростительное равнодушие и самостоятельно не мог додуматься до любви. Спасибо, Ева оказалась более расторопной. Но не будем ставить женщину в неловкое положение, подчеркивая это обстоятельство в своих примерах, пусть уж лучше от неразделенной любви страдает Адам.
Из всех перечисленных нами однонаправленных дисгармоничных жизненных отношений между людьми наиболее выраженное, несомненно, неразделенная любовь. А в каких текстах ярче всего описывается это чувство? Ну, конечно, в художественной литературе. И коли уж искать проявления синтсимволизма в текстах, то прежде всего именно в художественных, лирических, особенно в поэтических.
Можно рассуждать так: если в текстах о неразделенной любви будут чаще, чем в других текстах, встречаться_ описанные предложения, значит, символика конструкций улавливается художниками слова и используется как изобразительное художественное средство для повышения общей выразительности, воздейственности произведения. Причем не обязательно требовать, чтобы устанавливалось соответствие между символикой конструкции и содержанием того же самого предложения, общая гармония между синтаксисом и семантикой может устанавливаться на протяжении всего текста или достаточно крупного его отрывка. Как же проверить правильность этих рассуждений? Если просто сказать, что такие-то конструкции имеют такую-то символику, это будет крайне неубедительно. Наиболее наглядна демонстрация функционирования синтсимволизма в художественных текстах. И даже тогда трудно поверить в поразительно точное интуитивное использование писателями такого, казалось бы, неощутимого аспекта семантики. Но тут уж, как говорится, факты перед глазами. Так что придется нам заняться анализом текстов.
Как только речь зашла об изображении неразделенной любви в художественной литературе, многим, наверное, сразу вспомнился «Гранатовый браслет» А. Куприна. И неудивительно: эта повесть – несомненный шедевр разработки темы. Любовь Желткова не только не разделена и абсолютно безнадежна, но и не претендует на ответное чувство. Он полностью посвятил и подчинил свою жизнь этой любви, в то время как Вера Николаевна даже не была с ним знакома. Лучшей иллюстрации к символике «безответных» конструкций просто не найти.
Просмотрите внимательно синтаксис тех отрывков из повести, где непосредственно описываются чувства Желткова по отношению к Вере Николаевне, и вы сразу заметите большое число конструкций безответной любви. Свою любовь Желтков мог изъяснять только в письмах – они-то и насыщены такими конструкциями. И записка, вложенная в футляр с гранатовым браслетом, и особенно последнее, предсмертное письмо. Оно с начала и до конца построено в основном на конструкциях этого типа. Открывают письмо подряд три таких предложения:
Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь.
Можно подумать, что эти строки специально написаны для иллюстрации символики конструкций: здесь и описание самостоятельности одного из элементов отношений, и зависимости другого, и неразделенная любовь.
Далее по тексту письма конструкции безответной любви продолжают встречаться с явно завышенной частотой:
Подумайте, что мне нужно было делать? Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей... Все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните... Я знаю, что Вы очень музыкальны. Я не знаю, как мне кончить письмо.
Случайно ли в тексте короткого письма столько раз повторяется конструкция именно с той символикой, которая так полно соответствует выраженному в письме содержанию? Едва ли. А может быть, здесь проявились закономерности эпистолярного стиля? Может, все письма тяготеют к такой синтаксической форме?
Но вот же рядом, сразу после письма, князь Шеин описывает Вере чувства Желткова:
...Я скажу, что он любил тебя... Мне кажется, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...
Узнаете? Почти все сложноподчиненные предложения именно этого типа! Нет, дело не в эпистолярном стиле, а в необыкновенном художественном чувстве языка, которое продиктовало писателю выбор нужных конструкций.
Хотя действительно, образцы поэтической лирики о неразделенной любви встречаются чаще всего в письмах, что, пожалуй, вполне объяснимо: безответно влюбленный, как правило, лишен возможности непосредственно рассказать об охвативших его чувствах предмету своей любви, так как предмет к нему безразличен и не желает его замечать и слушать; несчастному остается только письмо. Как, например, в случае с влюбленным Онегиным. Татьяна избегала его, и тому ничего не оставалось, как выразить свои чувства в письме. Представьте себе – оно .тоже построено в основном на «безответных» конструкциях.
Так, предложение, в котором Онегин особенно образно описывает муки неразделенной любви, включает подряд несколько таких конструкций:
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать – и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени
И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени...
Часто предложения этой символики в тексте письма несколько видоизменены: в них скрепа (союз что) заменена двоеточием. Но суть их устройства и символики не меняется, а пожалуй, даже наоборот, выражается еще ярче и определеннее, поскольку несамостоятельность зависимой части становится еще заметнее:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.
Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Показательно, что эмоционально очень напряженные строки письма (их отмечал В. Маяковский как блестящий образец пушкинской лирики) оформлены с двукратным использованием рассматриваемой модели – в начале предложения и в конце его:
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...
Характерно, что в приведенных строках встречается еще и наиболее дисгармоничная конструкция трагедии, катастрофы – А но Е, а также предложение хотя и гармоничного строения, но в данном случае способствующее скорее выражению желания гармонии, чем констатирующее ее – чтобы было А, нужно Е (об этих конструкциях будет сказано ниже).
В тексте онегинского письма встречаются «безответные» предложения и с еще большими изменениями структуры: иногда не только убирается скрепа, но и в зависимую часть вводится указательное или определительное местоимение, в результате чего она получает видимость самостоятельности. Именно такими предложениями начинается и заканчивается письмо:
Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.
Что это предложение той же самой конструкции, легко проверить с помощью трансформаций: Вас оскорбит, предвижу, печальной тайны объясненье; Я в вашей воле и предаюсь, решено, моей судьбе.
Обратите внимание на интересный момент: оба письма—и Желткова, и Онегина – начинаются конструкциями безответной любви и заканчиваются ими же. Кроме того, с помощью именно таких предложений оформлены как раз те фрагменты обоих писем, где символика конструкций особенно подходяща, особенно нужна, где она наиболее полно соответствует общему содержанию текстов. Какая уж тут случайность! Даже и говорить о ней не приходится.
И все же еще несколько подтверждений.
В письме Татьяны к Онегину изъяснительных предложений меньше, но все-таки и здесь их много:
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда...
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает...
Интересно, что в первых же строках письма употреблено простое предложение, которое можно считать как бы результатом трансформации хорошо знакомой нам конструкции:
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Здесь символика безответной любви как будто бы неявна, запрятана в преобразованную конструкцию. Догадку подтверждает обратная трансформация простого предложения в сложноподчиненное: Я знаю, что теперь в вашей воле меня презреньем наказать. Хорошо видно, что полученное предложение имеет знакомую нам дисгармоничную конструкцию безответной любви. Не так ли?
Получается, что в письме Татьяны дисгармония предложений как бы скрыта, приглушена. Это и понятно: ведь Татьяна еще не знала о безответности своей любви. Несколько забегая вперед, отметим, что в письме много других дисгармоничных конструкций, причем часто повторяются «конструкции несовместимости» – А или Е, а также «конструкции катастрофы» А но Е. Синтаксисом текста Пушкин как бы намекает читателю на дальнейшее развитие событий, выстраивает в его подсознании необходимый эмоциональный фон.
Примеров использования дисгармоничных конструкций с символикой безответной любви, символикой неразделенного чувства можно привести множество. Но еще только одна яркая иллюстрация. Стихотворение С. Есенина «Письмо к женщине». С первых его строк почти все сложные предложения имеют именно такую конструкцию, и четыре начальных его строфы целиком построены на них:
Вы помните,
Вы все, конечно, помните.
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.
Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым седоком.
Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.
И опять, как во всех предыдущих примерах, наблюдается несомненное соответствие между синтсимволикой и содержанием. Дисгармония конструкций подчеркивает не только «однонаправленность» любви (Любимая! Меня вы не любили), но и социальную дисгармонию, в которой оказалась мятущаяся душа поэта (С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий).
Если вы прочитаете все стихотворение, то увидите, что оно разделено отточием на две части. И вы, конечно, заметите, что как только поэт говорит об установившейся социальной гармонии между ним и новым обществом, так дисгармоничные конструкции исчезают:
Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
Я стал не тем, Кем был тогда.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша.
Но вот снова возникает мотив разрыва с любимой (но не любившей его) женщиной, и тут же вновь появляются конструкции с нужной символикой:
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.
Видимо, нет нужды пояснять, что вовсе не обязательно, как только в тексте появляются «безответные» конструкции, так там нужно искать описание неразделенной любви или каких-либо других односторонне направленных отношений. Если бы это было так, то компьютер всегда по форме синтаксических конструкций «угадывал» бы общее содержание и эмоциональную тональность текстов. Но такого, понятно, быть не может. Связь синтсимволизма с другими аспектами семантики текста не жесткая, не фиксированная и не прямолинейная. Это лишь тенденция, предпочтение, склонность, которые далеко не всегда будут реализованы в конкретных условиях. Не нужно также забывать, что синтсим-волизм может быть использован писателями как дополнительное, но отнюдь не обязательное изобразительно-выразительное средство. Так, в литературных произведениях наверняка можно найти описания безответной любви, выполненные без употребления изъяснительных конструкций. С другой стороны, и у Пушкина, и у Куприна, и у Есенина эти предложения употребляются и там, где нет речи вообще ни о каких дисгармоничных отношениях между людьми. Только дело в том, что в других текстах или, скажем, в письмах этих писателей изъяснительные конструкции встречаются отнюдь не столь концентрированно, как в приведенных выше отрывках, а самое главное – безотносительно к общему смысловому и эмоциональному содержанию текста.
Именно удивительная точность соответствий, полнота гармонии символики синтаксических форм и содержания текстов не в одном-двух, а во многих случаях и дает основание считать, что синтсимволизм существует и выполняет определенную роль в языковой семантике.
Конструкция взаимной любви
Вторую конструкцию можно назвать объединительной, потому что в ее составе ни одна из частей не самостоятельна, они взаимозависимы и существуют лишь в объединении одна с другой:
a (е) ^ е (а) – а является атрибутом е, и е является атрибутом а.
Придется нам на некоторое время расстаться с Адамом и Евой, потому что в предложениях такого типа лица, как правило, заменяются указательными местоимениями:
Счастлив тот, кто любит и любим.
Впрочем, ничто не мешает нам считать, что речь здесь идет именно об Адаме.
Как видим, ни первая (счастлив тот...), ни вторая (...кто любит и любим) части предложения не могут существовать друг без друга, они составляют единое целое только вместе.








