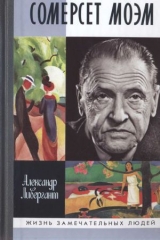
Текст книги "Сомерсет Моэм"
Автор книги: Александр Ливергант
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Учили Моэма жизни отнюдь не только эти священнослужители. В Индии Моэма прилежно обучали искусству медитации. Сначала – бывший подрядчик, а ныне целитель в грязном белом тюрбане, рубахе без воротничка и с серебряными серьгами в ушах. Потом – высокий, статный старик в алом плаще, которого Моэму порекомендовал в Хайдарабаде министр финансов сэр Акбар Хайдари. «Святой», как называли старика, велел писателю сесть в темной комнате на пол, скрестить ноги и, не отрываясь, смотреть на пламя свечи четверть часа каждый день. Насколько нам известно, советам целителя с серьгами и «Святого» в алом плаще Моэм так и не последовал – уроки впрок не пошли.
В Хайфоне Моэм встречает своего старинного знакомого, с которым он в свое время работал вместе в больнице Святого Фомы. И этот бывший врач относился к категории, которую мы назвали «экс-англичанами»: жил с восточной женщиной, имел от нее детей, нисколько не стремился на родину и вдобавок увлекался опиумом. И не только увлекался сам, но и попытался приохотить к нему Моэма. Моэм, однако, к опиуму остался так же равнодушен, как и к медитации. «Ничего особенного, по правде сказать, – поделился со своим бывшим коллегой писатель. – Я-то думал, что меня охватят самые диковинные эмоции. Думал, что меня, как Де Квинси, посетят видения. Я же испытал всего-навсего ощущение отменного физического здоровья. Зато наутро голова у меня разламывалась, меня рвало весь следующий день, и я сказал себе: „Есть же люди, которые получают от этого удовольствие!“».
Оставила Моэма равнодушным и встреча с индийским мудрецом и святым Рамана Махарши по кличке «Бхагаван» (Бог), полным, смуглым человеком в набедренной повязке, с короткими белыми волосами и такого же цвета бородой. Жил Бхагаван в своем ашраме у подножия священной горы Арунахала, где принимал учеников, сидя у жаровни на низком возвышении, на тигровой шкуре, в состоянии самадхи – глубокой медитации. Равнодушие Моэма к медитированию объясняется, пожалуй, тем, что его встреча с «Богом» продолжалась не меньше получаса и прошла в полном молчании, после чего Бхагаван изрек: «Молчание – это тоже разговор».
Моэм, о чем уже подробно говорилось, соткан из парадоксов; противоречивы, эксцентричны и живущие «к востоку от Суэца» его соотечественники – какой же англичанин без эксцентрики. В книге «На китайской ширме» описан британский либерал, который проповедует социалистические идеи, читает Бертрана Расселла, что вовсе не мешает ему поколачивать рикш. Британские миссионеры всей душой ненавидят «туземный люд», при этом делают все от себя зависящее, чтобы обратить «нехристей» в истинную веру; чем это может кончиться, видно из рассказа «Дождь». В 1920 году в Китае Моэм знакомится с англичанкой, которая – пусть читатель не удивляется – купила… маленький городской храм и превратила его в собственный жилой дом – бывает, оказывается, и такое. «В глубине была ниша, где некогда стоял лакированный стол, а за ним статуя Будды, вечно предающегося медитации, – читаем в путевых очерках Моэма „На китайской ширме“. – Здесь поколения верующих жгли свои свечи и возносили молитвы – кто о преходящих благах, кто об освобождении от постоянно возвращающегося бремени земных жизней, – ей же эта ниша показалась просто созданной для американской печки» [80]80
Здесь и далее перевод И. Гуровой.
[Закрыть]. «И завершив свои труды, – со свойственной ему сдержанной иронией пишет Моэм в конце главы „Гостиная миледи“, – она с удовлетворением обозрела их результаты. „Разумеется, на лондонскую гостиную это не очень похоже, – заявила она. – Но такая гостиная вполне может быть в каком-нибудь милом английском городке, Челтнеме, например, или в Танбридж-Уэллсе“». Рекордсменом же заморской эксцентрики стал сын лондонского ветеринара, в прошлом судебный репортер, стюард на торговом судне, сотрудник Англо-американской табачной компании, который, в конце концов, заскучав, переодевается бедняком китайцем и отправляется из Пекина путешествовать по стране, не взяв с собой ничего, кроме спальной циновки, обкуренной китайской трубки и зубной щетки. А по возвращении пишет путевые заметки, которые производят сенсацию – ведь побывал он в таких местах, куда до него не ступала нога не только человека, но и журналиста. «Цивилизованный мир, – пишет Моэм, – его раздражал, у него была страсть ходить нехожеными путями. Диковинки, припасенные жизнью, его развлекали. Его постоянно снедало неутомимое любопытство».
Пишет словно про самого себя. Моэма ведь тоже «снедает неутомимое любопытство», он тоже подвержен «страсти ходить нехожеными путями». В Китае они с Хэкстоном проплыли полторы тысячи миль по Янцзы, а потом еще четыреста проделали пешком. А на Сараваке, «мертвенно-бледной желтой реке» на Северном Борнео, весной 1921 года «страсть ходить (а точнее – плыть) нехожеными путями» едва их не погубила. Но лучше всего об этом рассказывает в своих «Записных книжках» сам Моэм:
«Бор – приливный вал в устье реки. Мы заметили его издали – две или три высокие волны, шедшие одна за другой, но не казавшиеся очень уж опасными. С ревом, похожим на рев бушующего моря, они катили все быстрее и ближе, и я увидел, что волны эти гораздо больше, чем казалось поначалу. Вид их мне не понравился, и я потуже затянул пояс, чтобы не соскользнули брюки, если придется спасаться вплавь. И тут приливный вал настиг нас. Это была водяная громада высотою в восемь, десять, а то и двенадцать футов; стало совершенно ясно, что никакой корабль не выдержит ее натиска. Вот на палубу обрушилась первая волна, до нитки вымочив всех и наполовину затопив наше суденышко, следом нас накрыло второй волной. Закричали матросы; команду составляли одетые в арестантские робы заключенные из тюрьмы, находившейся в глубинных районах страны. Судно не слушалось руля; его несло на гребне вала бортом к волнам. Налетела очередная волна, и наш кораблик начал тонуть. Джералд, Р. и я поспешно выбрались из-под тента, но палуба вдруг ушла из-под ног, и мы очутились в воде. Вокруг бушевала и ревела река. Я решил было плыть к берегу, но Р. крикнул нам с Джералдом, чтобы мы ухватились за обшивку. Вцепившись во что попало, мы продержались минуты две-три. Я надеялся, что, когда приливный вал пройдет выше по течению, волнение уляжется и река вскоре снова успокоится. Но я забыл, что бор тащит нас с собою. Волны продолжали захлестывать. Мы висели, уцепившись за планшир и за крепления ротанговых циновок под палубным тентом. Тут мощный вал подхватил судно, оно, перевернувшись, накрыло нас, и мы разжали руки. Ухватиться было не за что, разве что за илистое речное дно, и когда поблизости всплыл киль, мы из последних сил рванулись к нему. Кораблик по-прежнему крутило колесом. Мы с облегчением вновь уцепились было за планшир, но судно опять перевернулось, утащив нас под воду, и все началось сначала.
Не знаю, сколько это продолжалось. Наше несчастье, как мне казалось, было в том, что все висели с одной и той же стороны судна. Я попытался убедить нескольких матросов перейти к другому борту – если часть останется с одного борта, а остальные переберутся к противоположному, думал я, нам удастся удержать лодку днищем вниз, и тогда всем станет легче, но я не мог им это втолковать. Волны перекатывались через наши головы, и всякий раз, когда планшир выскальзывал из рук, меня швыряло в глубь. Цепляясь за киль, я выныривал снова.
Вдруг я почувствовал, что с трудом перевожу дух и силы оставляют меня. Я понял, что долго мне не продержаться. Самое лучшее, решил я, это попытаться доплыть до берега, но Джералд уговорил меня потерпеть еще. А ведь до берега, казалось, было не более сорока или пятидесяти ярдов. Нас все еще носило в бурлящих, бушующих волнах. Судно беспрерывно переворачивалось, и мы, как белки в клетке, кувыркались вокруг него. Я наглотался воды. Всё, мне конец, понял я. Джералд держался рядом и раза два или три приходил на выручку. Но и он мало что мог сделать, ведь когда лодка накрывала нас, все мы были равно в отчаянном положении. Потом, уж не знаю почему, минуты за три-четыре судно стало килем вниз, и, уцепившись за него, мы смогли немного передохнуть. Я решил, что опасность миновала. Какое счастье было наконец отдышаться! Но внезапно судно опять перевернулось, и все началось сначала. Недолгий отдых помог мне, я какое-то время продолжал бороться за жизнь. Затем снова задохнулся и страшно ослабел. Обессиленный, я не был уверен, что у меня теперь хватит пороху доплыть до берега. К этому времени Джералд был измочален не меньше моего. Я сказал ему, что для меня единственный шанс спастись – это попытаться добраться до суши. Наверное, мы тогда оказались на более глубоком месте, потому что волны здесь были не такие бурные. По другую руку от Джералда бултыхались два матроса, они каким-то образом поняли, что мы совсем выдохлись, и знаками показали нам, что теперь можно рискнуть добраться до берега. Я совсем выбился из сил. Матросы подхватили плывший мимо тонкий матрасик, один из тех, на которых мы лежали на палубе, и скатали его в некое подобие спасательного пояса. Ожидать от него большого толку не приходилось, тем не менее, я одной рукой вцепился в него, а другой стал изо всех сил грести к берегу. Те двое плыли вместе со мною и Джералдом, один – с моей стороны. Не знаю, как нам удалось доплыть. Но вдруг Джералд крикнул, что у него под ногами дно. Я опустил ноги, но ничего не нащупал. Проплыв еще несколько ярдов, я попытался снова дотянуться ногами до дна, и мои ступни погрузились в густую тину. Я с ликованием чувствовал кожей эту мерзкую слякоть. Побарахтавшись еще немного, я выполз на берег, где мы по колено увязли в черной жиже.
Цепляясь за торчавшие из топи корни погибших деревьев, мы карабкались все выше и наконец добрались до маленькой ровной полянки, поросшей высокой густой травой. Обессиленно рухнули и какое-то время лежали в полном изнеможении: измучились мы настолько, что не могли шевельнуться. С головы до ног покрыты грязью. Через некоторое время мы стянули с себя одежду, я соорудил из мокрой рубашки набедренную повязку. Тут у Джералда прихватило сердце. Я уж думал, что он умрет. Сделать я ничего не мог, только велел ему лежать неподвижно и ждать, приступ-де скоро пройдет. Не знаю точно, сколько мы там пролежали, наверное, с добрый час, и сколько пробыли в воде, тоже не знаю. В конце концов, приплыл в каноэ Р. и забрал нас.
Он перевез нас на другой берег к длинному, на несколько семей, дому даяков, где нам предстояло ночевать; мы были в грязи от макушки до пят, но, хотя обычно купались по нескольку раз в день, на сей раз лишь слегка ополоснулись из ведра: не хватало духу войти в воду. Все промолчали, без слов понимая, что в реку нас теперь и палкой не загонишь» [81]81
Перевод И. Стам.
[Закрыть].
К этой пространной цитате стоило бы дать пять коротких примечаний.
Примечание первое. Этот случай описан не только в «Записных книжках», но и в рассказе Моэма из сборника «Казуарина» «Капля туземной крови». В «нон-фикшн» Хэкстон, проявив мужество и решительность, спасает другу и патрону жизнь. В «фикшн» же всё наоборот: Иззарт, оставив друга подлодкой, спасается сам, а потом, когда Кэмпион чудом выплывает, просит никому не рассказывать о его трусости.
Примечание второе служит некоторым предуведомлением к случившемуся. Прожив весной 1921 года некоторое время в Сингапуре, Моэм и Хэкстон перебираются на Борнео и в апреле отправляются в путешествие по реке Саравак на прогулочном катере. Днем они наблюдают с палубы за «буйством растительности», от которого «захватывало дух и становилось не по себе», за «густыми джунглями, за которыми вдали, на фоне синего неба, темнели неровные зубчатые очертания гор». Следят, как среди пальм резвятся в джунглях обезьяны, а на прибрежном песке греются крокодилы. А ночи проводят либо на борту, либо на берегу в «приятном» обществе охотников за скальпами. Либо же – в прибрежных деревнях, где в их честь устраиваются праздники с танцами, в которых приходится участвовать и им самим. Оба буквально заворожены «покоем и волей», которыми веет от этих мест. Не подозревая, что его ждет, Моэм с несвойственными ему восторгом и выспренностью записывает, что «ему чудится дерзкое самозабвение менады, беснующейся в свите бога», что «в здешних буйных, диких зарослях нет ничего мрачного, гнетущего…» и что он «попал в дружелюбную, благодатную страну» [82]82
Перевод И. Стам.
[Закрыть].
Примечание третье. После того как Моэм и Хэкстон чудом не расстались с жизнью, они до середины ноября оставались на Яве: в дополнение к перенесенному сердечному приступу у Хэкстона начался тиф.
Примечание четвертое. Спустя год Моэм вновь рискует жизнью – причем, что называется, на ровном месте. Не плывя по бурной реке, а остановившись в роскошном дворце дяди короля Сиама. К услугам писателя были и изысканное угощение, и великолепные покои, и многочисленная вышколенная прислуга; не было только одного – самой заурядной москитной сетки, отчего, приехав в Бангкок, «город каналов и храмов с зелеными крышами», Моэма сваливает тяжелейший приступ малярии, который чуть было не отправляет его на тот свет и впоследствии не раз к нему возвращается.
И, наконец, примечание пятое, последнее. После того как Моэм и Хэкстон чудом избежали гибели и прибыли в Кучинг, столицу провинции Саравак, писатель, не забыв, что спаслись они во многом благодаря смелости и решительности матросов в арестантских робах, обратился к главе местной колониальной администрации с просьбой отменить (или, по крайней мере, смягчить) этим людям приговор. На что министр-резидент вполне резонно ответил, что одного осужденного он уже освободил, а вот помочь со вторым не в состоянии. Дело в том, что на обратном пути в тюрьму в Симанганге, где содержался второй осужденный, он остановился переночевать в родной деревне и там зверски убил свою тещу…
Нравы местного общества также порождали немало интригующих историй, которые Моэм, находясь в Малайзии или в Китае, исправно записывал со слов непосредственных участников этих драматических событий. Мужья и жены, которые, очень возможно, прожили бы примерную мирную жизнь в метрополии, здесь после нескольких лет совместной жизни разводятся, заводят романы на стороне, нередко адюльтер приводит к преступлению. Членов местного законодательного совета ловят на взятках, баронет убегает из дому с сестрой китайского миллионера, крупный чиновник живет у всех на глазах в преступной связи с собственной сестрой – читай рассказ Моэма «Сумка с книгами». И газеты не делают из всего этого тайны. Как не делают из этого тайны и сами участники скандалов в «благородных семействах» местного общества. Одним словом, писателю, который собрался в дальнюю дорогу в поисках увлекательного, «читабельного» материала, в Индокитае, на Борнео или на Таити было чем поживиться, «…почти каждый, с кем я знакомлюсь, почти всё, что со мной происходит, любой эпизод, свидетелем которого я становлюсь или о котором мне рассказывают, пригоден для новеллы», – пишет Моэм водном из писем, о чем мы в следующей главе поговорим подробнее.
Вот почему, перед тем как отправиться в путешествие, Моэм запасается не только книгами, но и рекомендательными письмами к губернаторам и резидентам и таким образом пользуется гостеприимством членов местной английской общины, распространявшимся не только на стол и крышу над головой, но и на истории, которыми его охотно потчевали велеречивые хозяева. Они были искренне рады не только поселить у себя известного писателя и его секретаря, но и – со скуки либо от наболевшего – излить им душу. И, «исповедуясь», еще извинялись: «Я вас не утомлю, если расскажу эту историю?» или «Я вам, наверно, наскучила своими историями из семейной жизни?» – «Ничуть», – отвечал Моэм и нисколько при этом не кривил душой. Когда же литературно обработанные рассказы хозяев дома выходили в свет, наступало отрезвление: люди, доверившие писателю свои тайны, узнавали себя в героях его сочинений и чувствовали себя глубоко ущемленными, униженными и обманутыми, что называется, в лучших чувствах, хотя никто из них не просил Моэма хранить рассказанное в секрете.
Рассказы Моэма бурно росли из этого семейного сора, не ведая ни малейшего стыда, – местные же газеты меж тем негодовали. Вот что, например, писала, отстаивая интересы своих подписчиков, сингапурская «Стейтс баджет» от 7 июня 1938 года: «Интересно попытаться проанализировать упреки к мистеру Сомерсету Моэму, которые столь велики и распространены в этой части света. Объясняются они, как правило, тем, что мистер Моэм описывает в рассказах местные скандалы, да и вообще делает в своих произведениях циничный упор на худших и наименее типичных чертах европейской жизни в Малайзии – на убийствах, предательствах, пьянстве, супружеских изменах… Нет поэтому ничего удивительного в том, что белые мужчины и женщины, живущие в Малайзии самой обычной жизнью, предпочли бы, чтобы мистер Моэм использовал местный колорит где-нибудь в другом месте». Сингапурской газете вторит малайский чиновник Виктор Перселл. «За пребыванием Моэма в Малайзии, – пишет Перселл, – тянется малоприятный след. Ему можно вменить в вину, что он злоупотребил гостеприимством местных жителей, помещая в свои рассказы их скелеты в семейных шкафах… Его описания здешней европейской общины ничуть не более справедливо, чем описание Англии как страны скачек, журналов типа „Ньюс оф зе уорлд“ и сплетен в гольф-клубах. Светотень творческого метода Моэма строится на резких контрастах, нюансировка большей частью отсутствует».
Обвинить Моэма в цинизме и «злоупотреблении гостеприимством» было тем более просто, что писатель не слишком заботился о том, чтобы «замести следы». Рассказчики с легкостью узнавали себя, своих близких и свое окружение в его произведениях еще и потому, что он далеко не всегда менял названия отелей, городов, провинций, и даже имена действующих лиц изменял, бывало, очень незначительно, что, кстати, привело к скандалу и даже угрозе судебного процесса после публикации романа «Узорный покров». Сначала Уолтер и Китти Лейн предъявили иск издателю лондонского журнала «Нэш мэгэзин», где роман первоначально печатался, с требованием заменить имена героев. С Лейнами проблема была решена быстро и просто: 250 фунтов компенсации плюс замена фамилии главного героя с «Лейн» на «Фейн» – всё решила одна буква. С администрацией же Гонконга, где происходит действие романа, пойти на мировую оказалось сложнее: автору пришлось под нажимом помощника гонконгского губернатора, усмотревшего в романе клевету на себя, перенести действие книги из реального Гонконга в вымышленный Цинн-янь.
Моэм словно лезет на рожон: не только не путает следы, а всячески их «распутывает»: подробно разъясняет в предисловиях, где и кто рассказал ему ту или иную историю. Например, про рассказ «Следы в джунглях» о нераскрытом убийстве, совершенном замужней парой, он впоследствии напишет: «Это одна из тех историй, чье авторство не имеет ко мне никакого отношения, ибо мне ее слово в слово рассказали однажды вечером в клубе одного из городов Малайской Федерации». Примерно то же самое сообщит Моэм о другом своем рассказе «Сосуд гнева»: «Одно время я много путешествовал по Малайскому архипелагу и со всеми людьми, описанными в этом рассказе, знаком был лично. Чтобы рассказ получился, мне просто пришлось свести их вместе». Содержание одного из самых известных рассказов Моэма «Записка», переделанного впоследствии в пьесу, где рассказывается о том, как замужняя англичанка Лесли Кросби убивает своего любовника, сделав вид, что тот пытался ее изнасиловать, почти целиком списано из газетной криминальной хроники от 23 апреля 1911 года. Различаются – и то несущественно – только финалы фикшн и нон-фикшн: в рассказе Моэма Лесли Кросби признали виновной в убийстве, но с учетом смягчающих вину обстоятельств освободили. Что же до ее прототипа Этель Мейбел Праудлок, то она была признана виновной, приговорена к повешению, однако в конечном счете после нескольких апелляций также помилована.
Многочисленные путешествия и в самом деле подарили Моэму много запоминающихся, необычайно интересных, полезных в литературном отношении встреч. Но были и исключения. Знакомство с автором «Любовника леди Чаттерлей» Дэвидом Гербертом Лоуренсом в Мехико, куда Моэм в октябре 1924 года отправляется, как он выразился, «в поисках нового места для охоты», могло бы, по понятным причинам, стать весьма любопытным для обоих известных писателей. Могло – но не стало: давно прошли те времена, когда Карло Гольдони с энтузиазмом воскликнул: «Писатели всех стран составляют единую республику!» Моэм и Лоуренс единую республику не составили, они с первого взгляда не понравились друг другу ни по-человечески, ни «по-писательски».
Моэм про Лоуренса: «Я никогда не был высокого мнения о его рассказах. По-моему, они бесформенны и многословны… У меня ощущение, что стихи ему удаются лучше, чем проза. Отдельные фразы у него восхитительны, а вот общее впечатление – витиеватости и затхлости». Лоуренс своему другу Уоттеру Биннеру про Моэма: «Малоприятный господин. Очень серьезен, больше всего боится, что не успеет до Рождества написать очередную великую книгу из мексиканской жизни. Узколобый писатель-заика». Из письма Лоуренса Олдосу Хаксли: «Я слышал, что Моэм, Уэллс и компания тратят свои баснословные сбережения в Ницце. Богаты, как свиньи». Фрида Лоуренс про Моэма: «По-моему, он оказался между двух стульев, что так часто бывает с писателями. Ему хочется и рыбку съесть, и костью не подавиться. Тот узкий общественный мирок, в котором он существует, принять он не может, но при этом в более широкий, человеческий мир верить отказывается». Если же вспомнить, что Лоуренс в рецензии на «шпионский» сборник Моэма «Эшенден, или Британский агент» назвал прозу писателя «сплошной фальшивкой», то литературный образ Сомерсета Моэма в представлении Лоуренса, да и других элитарных писателей и критиков, будет выглядеть вполне законченным. Из первого ряда автор «Луны и гроша» и «Бремени страстей человеческих» решительно исключается.
В разговоре с женой герой «Узорного покрова» врач-бактериолог Уолтер Фейн оспаривает представление местного общества о том, что в бридж он играет превосходно [83]83
Перевод М. Лорие.
[Закрыть]. «Насчет себя я не строю иллюзий, – говорит он жене. – Я бы сказал так: я очень хороший игрок второй категории». Не строит насчет себя иллюзий и Моэм: о своем литературном мастерстве он говорит, по существу, теми же словами, что Фейн о своем искусстве игрока в бридж.


![Книга Рассеянные мысли [сборник] автора Уильям Моэм](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-rasseyannye-mysli-sbornik-212196.jpg)




