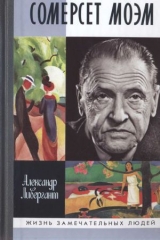
Текст книги "Сомерсет Моэм"
Автор книги: Александр Ливергант
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Быть может, именно охлаждение к нему Роуза и подтолкнуло Моэма к решению раньше срока покинуть ненавистную Королевскую школу – решение это, впрочем, зрело давно. А между тем академические успехи юноши были к тому времени столь весомы и очевидны, что у него имелись все шансы после окончания Кингз-скул получить стипендию на обучение в Оксфорде или Кембридже. И Филд, и дядя Генри (первый из-за личной симпатии и из соображений сугубо прагматических, второй главным образом из корысти – за обучение ведь было уплачено вперед) были решительными противниками преждевременного ухода Уилли из школы. Однако Моэму «помогли», во-первых, очередной приступ плеврита, очередной – уже второй – пропуск семестра в связи с отъездом в Йер и, как следствие, неважные отметки по греческому и математике, предметам, которые всегда давались мальчику без особого труда. А во-вторых, – несгибаемая решимость покинуть школу любой ценой. Викарий, видимо, понял, что сопротивление бесполезно, и скрепя сердце согласие на преждевременный уход племянника из Кингз-скул, в конце концов, дал. Что же до его супруги (а мы помним, что София с самого начала тепло относилась к сироте), то она не только поддержала Уилли, но и помогла ему через своих немецких родственников уехать учиться за границу – нашла ему в Гейдельберге недорогой пансион, который держала жена местного профессора истории.
Так Уилли Моэм потерял шанс стать выпускником Оксфорда (или Кембриджа), а значит – принять сан и сделать научную или политическую карьеру, какую сделал его старший брат Фредди. И потерял совершенно сознательно. Моэм пошел «другим путем»: вместо проторенной дороги к «зияющим высотам» британского истеблишмента он выбрал летом 1889 года неведомую, но сулящую счастье и свободу Германию. Случилось это спустя четыре с лишним года с того самого дня, как Генри Макдональд Моэм ввел его солнечным майским утром в окруженное старыми раскидистыми вязами красное кирпичное здание Королевской школы, сильно смахивающее на тюрьму.
Сорокалетний Чарлз Стрикленд, герой романа Моэма «Луна и грош», бросает жену и детей и уезжает из Лондона в Париж, чтобы стать художником. Шестнадцатилетний Моэм столь же бестрепетно бросает школу и дядю с теткой и уезжает в Гейдельберг, чтобы стать писателем. Впрочем, он, скорее всего, еще не знает, кем хочет стать, зато твердо знает, кем становиться не собирается. По наезженной колее он в любом случае двигаться не намерен. У него, как сказали бы сегодня психологи, «негативная мотивация».
Глава 4 «ОН ИЗ ГЕРМАНИИ ТУМАННОЙ…»
Плодов учености Моэм, в отличие от Ленского, из Германии не привез. Зато привез нечто более для себя существенное: чувство свободы, раскрепощения, которых он был лишен в Кингз-скул. Если Королевская школа явилась в жизни Моэма опытом отрицательным, то Гейдельберг – бесспорно, положительным. Спустя четыре года «узник» Кингз-скул обрел, наконец, свободу. Свободу делать что хочешь, изучать что хочешь, говорить о чем хочешь, общаться с кем хочешь.
Круг же общения в Гейдельберге был широк. Широк и интернационален. В пансионе фрау фон Грабау, толстой, приземистой, приветливой дамочки лет сорока, которая обязывала всех пансионеров говорить только по-немецки, помимо ее мужа, высокого мужчины средних лет с большой светловолосой, седеющей головой, дававшего юному англичанину уроки латыни и разговорного немецкого, двух их двадцатилетних дочерей и сына, сверстника Уилли, – жили студенты разных национальностей: француз, китаец, американец и два англичанина. Обратим внимание на первого и трех последних.
Француз, по счастью, оказался эльзасцем и по-немецки говорил если не свободнее, то, во всяком случае, с лучшим произношением, чем по-французски. Одевался он, как немецкий пастор, однако на поверку оказался монахом-бенедиктинцем, которого временно отпустили из монастыря, чтобы он мог заняться научной работой в университетской библиотеке. Эльзасец не походил ни на ученого, ни на монаха – это был рослый блондин с голубыми глазами навыкате и красной физиономией. Как и Уилли, он был стеснителен и сдержан, в застольных беседах участия почти не принимал и сразу же после обеда снова шел трудиться в библиотеку. Уилли совершал с ним длинные прогулки по десять – пятнадцать миль каждая, во время которых эльзасец читал юноше пространные лекции по античной философии и античной литературе.
Об античной литературе беседовал Уилли и с долговязым американцем, жителем Новой Англии, который, несмотря на свои неполные тридцать лет, уже преподавал в Гарварде классические дисциплины. Любитель поговорить о высоком (развалины средневекового замка на горе, помпезные, старинные здания Гейдельбергского университета, «папаша» Рейн, «плавно несущий воды свои», располагали к неторопливым беседам на отвлеченные темы), молодой, глубокомысленный гарвардский профессор приохотил Уилли к дискуссиям о мировых религиях, о высшем разуме, о свободе вероисповедания – викарий Уитстейбла, даром что оксфордский богослов, тем этих никогда не касался, ведь предпочтение он отдавал молитвам, а не теологическим спорам. Уикс (так называет американца Моэм в «Бремени страстей человеческих») дал Уилли «Жизнь Иисуса» Ренана, книгу, о которой начитанный племянник викария прежде слыхом не слыхивал, и даже свозил его на пару недель в Швейцарию, где насыщенное интеллектуальное общение между молодыми людьми не прекращалось ни на день.
Когда же гарвардский профессор отбыл из Гейдельберга в Берлин, у Моэма появилось два новых друга, и тот и другой – его соотечественники.
С одним из них, сыном театрального менеджера, Эдни Уолтером Пейном, Моэм подружился надолго. Почти двадцать лет, с 1898 года по 1917-й, они вместе снимали в Лондоне квартиры, что для начинающего писателя было, разумеется, выгодно – снимать квартиру одному, да еще в приличном месте, было бы куда обременительнее. Пейн, закончивший Королевский институт аудита и ставший дипломированным бухгалтером, на весь день уходил в контору, предоставляя другу возможность творить в счастливом одиночестве. Дружба с Пейном, натурой широкой, благородной, уживчивой, была в жизни Моэма, постоянством не отличавшегося, одной из самых прочных. Уилли, делавший тогда в литературе лишь первые шаги, имел обыкновение читать другу вслух свои произведения. На первом издании первого романа Моэма «Лиза из Ламбета» значится: «Моему доброму другу Эдни Пейну». Когда же Моэм взялся сочинять пьесы, «добрый друг», сменивший к тому времени профессию и пошедший по стопам отца, помогал ему заключать контракты с театрами, решать проблемы с налогами – вообще занимался его финансовыми делами. В первые же годы совместной жизни польза от Пейна была вовсе не в том, что он прилежно слушал первые, еще робкие опусы приятеля, и не в том, чтобы оказывать Уилли помощь в заполнении налоговых деклараций и заключении контрактов с издательствами или театрами – о таких контрактах тогда и речи быть не могло. Уолтер, вспоминал впоследствии Моэм, был очень хорош собой и легко, в отличие от стеснительного Уилли, завязывал знакомства с девушками, как правило, артистками, официантками или продавщицами, которые потом, после окончания скоротечного романа с Пейном, переходили к его другу. Делился Пейн с юным Моэмом не только девушками, но и деньгами: он был щедр, великодушен и, главное, куда свободнее Моэма в средствах.
А вот как описывает своего второго соотечественника, 26-летнего выпускника Кембриджа, несостоявшегося юриста, переквалифицировавшегося в поэта-символиста, Джона Эллингема Брукса, сам Моэм в своих «Записных книжках»: «Это человек ниже среднего роста, широкоплечий, крепкий, хорошо сложенный. У него красивая голова, ладный нос, широкий и высокий лоб; но лицо его, всегда чисто выбритое, сужаясь, оканчивается острым подбородком; глаза бледно-голубые, не слишком выразительные; рот большой, губы толстые и чувственные; кудрявые, но редеющие длинные волосы развеваются по плечам. Вид у него изысканный и романтический» [13]13
Перевод И. Стам.
[Закрыть].
Брукса вернее было бы назвать не другом юного Моэма (и уж подавно не «добрым другом»), а наставником. Эстет, эдакий Дориан Грей, он мгновенно влюбил в себя Уилли, а влюбив, взялся за него всерьез. Начал с того, что заложил в юношу семена безбожия (которые, впрочем, легли на благодатную почву) и поменял ему круг чтения; отобрал «Тома Джонса» и вместо «правильного» и скучноватого Филдинга порекомендовал читать романы Мередита, стихи Суинберна, Верлена, «Апологию» кардинала Ньюмена, статьи Уолтера Пейтера, Мэтью Арнолда. Брукс сам читал Уилли вслух Джакомо Леопарди, которого в то время пытался переводить, а также Данте и свои любимые «Рубаи» Омара Хайяма в переложении Эдварда Фицджералда. Читал, вспоминал впоследствии Моэм, «как читает молитву священник Высокой церкви, распевая литанию на все лады в погруженной во мрак крипте».
Брукс и Моэм совершали длинные романтические прогулки в близлежащий Кёнихшталь, любовались живописной долиной реки Неккар. Во многом Брукс походил на своего кумира Оскара Уайльда, и не только острословием, заносчивостью и эстетством; он не скрывал своих гомосексуальных наклонностей, и не исключено, что интеллектуальными беседами о Данте, Леопарди и французских символистах общение Брукса и Моэма не ограничивалось. Мы, впрочем, ничего об этом не знаем, биографы же любят поспорить о том, совратил ли Брукс Моэма, или же юноша, прошедший через горнило аскетического воспитания сначала в доме викария и его жены, а затем в закрытой Королевской школе с религиозным уклоном, сохранил до поры до времени невинность. Если же верить самому Моэму, то истинные намерения американца из Новой Англии и Брукса он понял много позже. «Прошло немало времени, – вспоминает Моэм, – прежде чем я осознал, что усилия, которые эти люди тратили на то, чтобы поддержать мой интерес, были вызваны не тем, что я зачарованно слушал их речи, и не добротой к несведущему шестнадцатилетнему пареньку, а исключительно вожделением».
Трудно сказать, был ли «шестнадцатилетний паренек» таким уж «несведущим», но в любом случае куда интереснее, как формировалось в эти годы интеллектуальное, а не гомоэротическое образование юного Моэма. И здесь роль Брукса – интеллектуального наставника и в самом деле трудно переоценить. Кругом чтения дело не ограничилось. Не без воздействия Брукса Моэм понял, что «веру ему навязали извне», и он «расстался с верой своего детства совсем просто, сбросив ее с плеч, как сбрасывают ненужный больше плащ». Брукс регулярно водил Моэма в местный театр на «Кукольный дом» Ибсена и «Честь» Зудермана, где «добродетель служила маской для тайных пороков». Ибсен, как ниспровергатель лицемерной мещанской морали и обличитель общественных язв, вызывал отвращение у правильных Грабау. Как вызвал бы, читай они его, священный ужас у ничуть не менее правильных викария и его супруги, этих типичных «продуктов» викторианского воспитания. «Я бы предпочел, чтобы мои собственные дочери пали замертво у моих ног, – говорит в „Бремени страстей человеческих“ профессор Эрлин, прототипом которого был фон Грабау, – чем видеть, как они слушают вздор этого потерявшего всякий стыд сочинителя… Это ведет к разложению семьи, гибели морали, распаду Германии» [14]14
Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова.
[Закрыть].
У немецкого профессора и английского священника Ибсен вызывал нескрываемое отвращение, зато юный театрал, который после памятного посещения в Париже мелодрамы Сарду в театре не был ни разу, пришел от великого норвежца в восторг. На представления заезжавших в Уитстейбл бродячих трупп дядя, как читатель легко догадается, племянника не пускал – театр считался грехом, не случайно же пуритане в XVII веке его запретили. Как знать, быть может, именно тогда, в 1891 году, на спектаклях «Кукольного дома» и родился Моэм-драматург?
Ибсен был, разумеется, не единственным открытием, сделанным Моэмом в Германии. В Гейдельберге Уилли открыл для себя еще и Вагнера, о котором раньше не имел ни малейшего представления. Вагнера, которого профессор Грабау также, мягко говоря, не жаловал. А еще оказавшего столь существенное влияние на Вагнера и поздних романтиков Шопенгауэра. Уилли повезло: лекции о великом скептике, авторе классического труда «Мир как воля и представление», читал в университете не кто-нибудь, а знаменитый, очень модный в те годы историк философии, гегельянец Куно Фишер. «Это был плотный, подтянутый человек с круглой головой, курносым, словно расплющенным сильным ударом, носом боксера, щеткой седых волос и красным лицом, на котором поблескивали маленькие, необыкновенные глаза». Фишер слыл остряком: он то и дело отпускал шутки, вызывавшие дружный хохот аудитории. Помимо новой драмы Ибсена, Шопенгауэра и «новой» музыки Вагнера, основополагающее влияние на молодого Моэма в эти годы оказали уже упоминавшаяся ренановская «Жизнь Иисуса» и, главное, – «Происхождение видов». Если кто и отучил юного Уилли от церкви и «ее сетей», то это в первую очередь Чарлз Дарвин.
Но «вечным студентом», – как бы ни было в Гейдельберге интересно, как бы ни привлекала его немецкая студенческая жизнь с театрами, соперничающими между собой корпорациями, дуэлями между представителями разных «буршеншафтов», развеселыми посиделками в «кнайпах», – Моэм оставаться не собирался. Да и было ему это не по средствам, и весной 1892 года, после двухгодичного пребывания в одном из лучших университетов мира, перед его взором опять возникли давно, казалось бы, похороненные в памяти викарий дядя Генри с женой, унылый, провинциальный Уитстейбл, мрачный, неуютный дом приходского священника.
Вновь возникла – и тут же была перечеркнута – безрадостная перспектива поступления в Оксфорд. Викарий «раскопал» своего оксфордского сокурсника, ныне крупного и влиятельного государственного чиновника, и тот пообещал поспособствовать. Потом, тем же летом 1892 года, стараниями Альберта Диксона, второго опекуна Уилли, в недавнем прошлом парижского партнера покойного Моэма-старшего, появилась возможность (и, увы, осуществилась – по счастью, всего на месяц, больше выпускник Гейдельберга не выдержал бы) поработать клерком в аудиторской конторе в Чансери-Лейн, где веком раньше, и тоже клерком, зарабатывал на хлеб насущный прадед Уилли.
Клерком быть не хотелось. Не хотелось, сняв квартирку за 14 шиллингов в неделю, каждый день напяливать купленный в магазине готового платья дешевый фрак, визитку и цилиндр и шагать на службу, сидя за конторкой на высоком табурете, раскладывать письма по алфавиту, переписывать счета и сверять суммы расходов. Но не хотелось и учиться в Оксфорде. Не хотелось становиться уже четвертым (а если считать покойного отца – и пятым) юристом в семье – да и мог ли стать заика преуспевающим адвокатом? Не хотелось – тем более – оставаться в Уитстейбле.
Сказать, что хотелось Уилли по возвращении из Германии, не так-то просто. Хотелось, пожалуй, только одного – самостоятельной, независимой жизни. И самостоятельности этой Уилли – во всяком случае в эти годы – ни за что бы не добился, если бы не случай. (Со временем случай как литературный прием станет почти обязательным deus ex machinaв его книгах.)
Явился случай в образе местного врача, про которого в «Бремени страстей человеческих» сказано, что «он больше старался не причинять вреда, чем приносить пользу». «А почему бы – как-то раз в разговоре с викарием обмолвился, исходя из этой своей жизненной позиции, врач, – не направить юношу по медицинской стезе?» Дядя Генри, которому нерадивый и упрямый племянник и его метания уже порядком надоели, неожиданно согласился. Он посчитал Уилли ленивым, нерешительным и бесхарактерным именно тогда, когда молодой человек – быть может, впервые – проявил характер. Спор с дядей относительно своей бесхарактерности Моэм заведет много позже, когда викария давно не будет на свете, на страницах «Луны и гроша»: «А я-то думал, – рассуждает рассказчик, – надо иметь очень сильный характер, чтобы после получасового размышления поставить крест на блестящей карьере только потому, что тебе открылся иной жизненный путь, более осмысленный и значительный» [15]15
Перевод Н. Ман.
[Закрыть].
Хотя Оксфорд не гарантировал на все сто процентов блестящей карьеры, да и размышления Уилли о своем жизненном предназначении наверняка длились не больше получаса, – согласился с предложением доктора и он. Ведь даже если занятия медициной не означали «иного жизненного пути, более осмысленного и значительного», молодой человек обретал желанную независимость. Его умственный взор (перефразируем известную мысль Толстого из «Отрочества») был обращен не на то, что он оставлял, а на то, что его ожидало. Работа врачом была хороша уже тем, что предполагала жизнь в Лондоне, как говорят англичане, on his own – своим домом, вдали от постылого Уитстейбла и не менее постылых родственников.
Через несколько недель Уилли приняли в медицинскую школу при старейшей лондонской клинике Святого Фомы, где первые три месяца он работал, сменив фрак, визитку и цилиндр клерка-конторщика на больничный халат акушера, в роддоме при больнице. Но это вовсе не означало, что он вознамерился стать врачом. Он, оказывается, хотел стать писателем. И хотел давно. И очень сильно. О чем впоследствии вспоминал постоянно.
«Я был рожден писать, – признается 88-летний Моэм в мемуарах „Вглядываясь в прошлое“. – Для меня писательство – такая же необходимость, как для новорожденного дыхание» [16]16
Перевод Ю. С. и И. З. под редакцией Э. Кузьминой.
[Закрыть].
«Я писал постоянно, с пятнадцати лет, – рассказывает он в „Записных книжках“. – А студентом-медиком я стал, потому что не мог рискнуть объявить своему опекуну, что мне хочется одного – быть писателем» [17]17
Перевод И. Стам.
[Закрыть].
В чем же, собственно, риск? – наверняка недоумевает читатель. А в том, что в викторианские времена (а в довикторианские тем более) восемнадцатилетнему англичанину из приличной семьи негоже было становиться литератором. «Я не хотел быть врачом, – пишет Моэм в книге „Подводя итоги“. – Я хотел быть только писателем, но был слишком робок, чтобы заявить об этом. К тому же в те времена это было неслыханное дело, чтобы восемнадцатилетний мальчик из хорошей семьи стал профессиональным литератором. Сама эта мысль была так несуразна, что я даже не пробовал с кем-нибудь ею поделиться…» [18]18
Перевод М. Лорие.
[Закрыть]Итак, «мальчик из хорошей семьи» и литератор были «вещи несовместные». Моэм, тем не менее, уже им стал.
Помимо всех прочих опытов – жизненных и интеллектуальных, в Гейдельберге он приобрел и опыт литературный. Несмотря на то, что от музыки Уилли был далек, он написал биографию немецкого композитора, предтечи Вагнера Джакомо Мейербера, чей столетний юбилей праздновался в Германии в 1891 году. Первая проба пера оказалась, как это большей частью и бывает, неудачной: рукопись (наверняка весьма несовершенную) местные издатели единодушно отвергли, и юный автор в сердцах швырнул ее в камин. Начало, однако, было положено.
Глава 5 «ФОРМАТИВНЫЕ» ГОДЫ, ИЛИ «ЛЕТОПИСЬ ТЯЖЕЛОЮ ТРУДА И МАЛЫХ ДЕРЗАНИЙ»
Первая часть заглавия – буквальный перевод английского словосочетания «formative years» – «годы формирования личности». Вторая – цитата из романа Моэма «Луна и грош» [19]19
Перевод Н. Ман.
[Закрыть]: так рассказчик, от чьего имени ведется повествование (почти непременный атрибут и большой и малой художественной прозы Моэма), определяет свою жизнь в Лондоне.
Тяжелый труд (овладение теорией и практикой акушерства в гинекологическом отделении больницы Святого Фомы) и в самом деле имел место; каждодневный, изнурительный, тяжелый труд. Нечастым развлечениям, вроде посещения театров, где Моэм от души наслаждался игрой Генри Ирвинга и Эллен Терри, отводились воскресенье и, в виде исключения, суббота, когда молодой человек наведывался в мюзик-холл «Тиволи» на шоу с участием Мари Ллойд, Беси Белвуд, Альбера Шевалье. Из задних рядов партера он пересмотрел в те годы лучшие, самые популярные пьесы того времени. Особенно запомнились ему «Вторая миссис Тенкерей» Артура Уинга Пинеро с неподражаемой Патрик Кемпбелл и «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда с Джорджем Александером – у Уайльда и Пинеро будущий драматург многому научился.
Развлечений же более легкомысленных робкий, молчаливый, замкнутый, даже отрешенный юноша (таким его запомнили в больнице) сторонился. Однажды, правда, не желая отстать от других студентов и набравшись смелости, Моэм отправился на Пикадилли, заплатил проститутке фунт стерлингов и получил за этот, прямо скажем, немалый по тем временам гонорар… гонорею, от которой потом долго у себя же в больнице лечился.
Что же до литературных дерзаний, то малыми их не назовешь. «Формативное» десятилетие с 1892 года по начало нового, уже не викторианского века явилось в жизни молодого Моэма борьбой медицины и литературы. Необходимость зарабатывать себе на жизнь (на 150 фунтов годового дохода в Лондоне, да еще с унаследованным от отца размахом, прожить было не так уж просто) вступила в борьбу с тем, что сам Моэм называл «творческим инстинктом». И творческий инстинкт, желание писать вопреки всему постепенно, но неуклонно брали верх над освоением медицинской профессии. Чехов говорил, что медицина – его законная жена, а литература всего лишь любовница; у юного же Моэма место «законной жены» занимала литература. К медицине, впрочем, Моэм относился добросовестно и с неподдельным интересом и делал в ней определенные успехи. Когда спустя несколько лет он оставит медицину, коллеги и больничная профессура будут говорить об этом с нескрываемым сожалением; если им верить, хирург и терапевт из Моэма получился бы неплохой.
Освоению медицинской профессией противостояло, помимо творческого инстинкта, и желание путешествовать – «охота к перемене мест» не покидала Моэма всю жизнь. За время работы в больнице Святого Фомы Моэм побывал на континенте в общей сложности трижды.
Первый раз – если не считать коротких – недельных – вылазок в Париж, который и заграницей-то для Моэма не был, – весной 1894 года. Воспользовавшись полуторамесячными пасхальными каникулами в медицинской школе, Уилли впервые отправляется в Италию. В руке у него небольшой кожаный саквояж «гладстон» со сменой белья и «Привидениями» любимого Ибсена, в кармане 20 фунтов. Трудно сказать, «целых» или «всего», скорее, последнее. Даже притом что тогдашние британские денежные знаки были куда тяжелее нынешних, – сумма эта невелика. Тем более что увидеть хочется как можно больше. Первоначально поездка планировалась недолгая, но аппетит, как известно, приходит во время еды, и молодой человек объезжает всю Италию севернее Рима. Начинает с Генуи, оттуда перебирается в Пизу, из Пизы – во Флоренцию, где живет на Виа Лаура, неподалеку от «дуомо», неустанно бродит по красавцу-городу с томиком Джона Рёскина в качестве туристического гида и вдобавок берет уроки итальянского у дочери вдовы, в чьем доме остановился. Эрсилия (так зовут девушку) читает ему вслух «Чистилище» Данте и довольно строго со своего ученика спрашивает. «К нашим занятиям она относилась серьезно, – вспоминает Моэм в предисловии к своему роману „Узорный покров“, – и когда я бывал непонятлив или невнимателен, била меня по рукам черной линейкой» [20]20
Перевод М. Лорие.
[Закрыть]. Сам Моэм тоже читает итальянские книги, в основном по истории, и задумывает, вдохновившись «Историей Флоренции» Макиавелли и советами известного критика и фольклориста Эндрю Лэнга, исторический роман из жизни итальянского Средневековья. По мнению (весьма спорному) Лэнга, единственный вид романа, который может сносно написать молодой автор, – это роман исторический, поскольку, чтобы писать о современных нравах, молодому автору, дескать, недостает жизненного опыта; история же снабдит его и сюжетом, и персонажами, и литературным колоритом. Роман из жизни итальянского Средневековья будет, впрочем, написан несколько позже; теперь же начинающему романисту пора возвращаться в Англию. Домой, к лекциям по анатомии, дежурствам в приемном покое и обязанностям больничного акушера молодой человек возвращается словно бы против воли, неохотно, кружным путем, через Венецию, Верону и Милан.
Второй выезд за границу состоялся ровно год спустя, в 1895-м, и совпал по времени с одним из самых громких скандалов конца викторианской эпохи – судом над Оскаром Уайльдом по обвинению в «содомии». Молодой путешественник вновь отправляется в Италию, на этот раз в южную, – на Капри, в те времена тихий, почти необитаемый остров, где туристов было раз-два и обчелся. Зато английских литераторов и живописцев «уайльдовской ориентации» на Капри в тот год хватало. Был среди них, разумеется, и наш старый знакомый, Джон Эллингем Брукс, чьи сексуальные и литературные пристрастия за пять лет нисколько не изменились. Бывший гейдельбергский ментор Моэма по-прежнему восторженно цитирует Пейтера, Мередита и Омара Хайяма, по-прежнему прилежно изучает Данте, переводит Леопарди и сонеты Эредиа, играет на пианино сонаты Бетховена, не выпускает изо рта трубки и, как и прежде, всей душой предан «искусству ради искусства», о чем не устает пылко рассуждать. Впрочем, о неизменности сексуальных пристрастий Брукса мы, пожалуй, сказать поторопились. На Капри он встречает богатую американскую художницу Ромен Годдар и на ней женится; брак гомосексуалиста Брукса и лесбиянки Годдар, спасшей Брукса от нищеты, – он продавал книги, чтобы утолить голод, – длится без малого месяц. А вот пребывание Брукса на Капри затягивается на целых сорок лет…
На возмужавшего, набравшегося жизненного опыта Моэма (где еще прибрести жизненный опыт, как не в больнице?) чары Брукса действовать перестали. Теперь он насквозь видит это самовлюбленное и, в сущности, довольно ограниченное существо. «Он принимал свою похоть за возвышенные чувства, – говорится в „Бремени страстей человеческих“, – слабодушие – за непостоянство артистической натуры, лень – за философскую отрешенность» [21]21
Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова.
[Закрыть]. «Он выказывает страстную любовь к прекрасному, приходит в неистовый восторг при виде картины Боттичелли, альпийских снежных вершин, захода солнца над морем. Восторгается всем тем, чем восторгаться принято, но совершенно не обращает внимания на неброскую прелесть окружающего мира, – прозорливо подмечает Моэм в „Записных книжках“ не только сущность эстета Брукса, но и эстетства как такового. – При этом Брукс ничуть не притворяется; если он чем-то восхищен, то вполне искренне, неподдельно. Однако он способен заметить красоту, только если ему на нее укажут, сам же не в состоянии открыть ничего… За всю жизнь в его голове не родилось ни единой собственной мысли, зато он с чувством и весьма пространно рассуждает об очевидном» [22]22
Перевод И. Стам.
[Закрыть]. Так пишет победитель-ученик о побежденном учителе, которому он теперь знает истинную цену.
На Капри Моэм старается держаться в стороне от вседозволенности и интеллектуальной ограниченности («ни одной собственной мысли») англо-американского эстетского кружка. Теперь у него другие, куда более демократические предпочтения. «Нигде не было мне так хорошо, – вспоминал Моэм, – как на волшебном Капри, среди крестьян и рыбаков…» Мы не знаем, платили ли крестьяне и рыбаки Моэму той же монетой, приверженцы же искусства ради искусства не особенно стремились приблизить к себе «обывателя, которого ничего не интересует в жизни, кроме вскрытия трупов, и которому доставит несказанное удовольствие, застав лучшего друга врасплох, поставить ему клизму».
И, наконец, третья, быть может, самая памятная, давно вынашиваемая поездка Моэма состоялась спустя еще два года, в конце 1897-го, когда бывший студент-медик двадцати трех лет сдал экзамены, ушел из больницы и уже выпустил свой первый роман, о котором речь впереди. Испания, «страна его мечты, к которой он и прежде испытывал непреодолимое влечение, проникся ее духом, ее романтикой, величием ее истории» (говорится в «Бремени страстей человеческих»), произвела на Моэма если и не большее впечатление, чем Италия, то, во всяком случае, впечатление более продолжительное и устойчивое. Сурбаран, Рибера, Веласкес и, прежде всего, Эль Греко стали его любимыми художниками на всю жизнь, о них он много думал, им он посвятит многие свои эссе и статьи. Впрочем, в 1897 году Эль Греко и Веласкеса затмила юная испанка с миндалевидными глазами, которой Моэм по возвращении в Англию писал: «Мне казалось, что я не испытывал к тебе любви, Розарито, и очень жалел об этом. Однако теперь, находясь вдали от тебя, под лондонским дождем, мне все же мнится (о нет, не то чтобы я влюбился!), что я увлечен тобой… твоим образом, запечатлевшимся в моей памяти…» Моэм словно и сам не верит, что способен полюбить женщину… Мы, правда, не знаем, Розарито это или юноша Розарио и существовала ли она (существовал ли он) на самом деле.
И первая, и вторая поездки в Италию были недолгими. В Испании же Моэм, не обремененный более больницей, пациентами, дежурствами («никаких обязанностей, никакой ответственности»), прожил, путешествуя, без малого полгода. Находясь под воздействием прочитанной еще в Уитстейбле у дяди Генри книги «Мавры в Испании», а также классических очерков об Испании Теофиля Готье и Проспера Мериме, он едет на Пиренейский полуостров «в поисках эмоций», как он однажды выразился, беседуя со скорняком в Кордове. Путешествует главным образом по Андалузии, останавливается в Кордове, Гранаде и, естественно, в Севилье, где с Розарито (Розарио) и знакомится. Ездит верхом, много ходит пешком, учит испанский – в Италии хотелось прочесть в оригинале Данте, в Испании – Сервантеса, в Каире, спустя несколько лет – «Сказки тысячи и одной ночи». Заходит в соборы, монастыри и мечети, не гнушается больницами (профессиональный интерес?), тюрьмами, а однажды побывал даже в публичном доме, с чем связана столь же банальная, сколь и сентиментальная история, очень смахивающая на вымысел. Когда проститутка разделась, Моэм обнаружил, что это совсем еще девочка, и спросил, зачем она продает свое тело, на что бедняжка якобы произнесла только одно слово: «Hambre» – «Голод». Он танцует на карнавалах, не раз присутствует на бое быков, о чем в «Земле Пресвятой Девы» напишет: «Порочная, отвратительная штука, но в корриде столько риска, мастерства, отваги, что глупо отрицать, будто есть на свете развлечение более увлекательное». А еще подолгу сидит в тавернах, попивая манзанилью, слушает испанские песни. «Чем-то они напоминают туземное ожерелье, где на бечевку, как придется, без всякого разбора нанизаны камешки разного размера и цвета», – записывает он. И, как сказали бы сегодня, совершенно меняет свой «имидж»: отрастил усы, носит надвинутую на глаза широкополую шляпу, играет на гитаре, не расстается с филиппинской сигарой. Испания 1897–1898 годов в жизни Моэма сродни Гейдельбергу 1891-го: здесь, как и шесть лет назад в Германии, он вновь обретает желанную свободу. «Я приехал в Севилью после тяжких лондонских лет, – пишет Моэм в автобиографии „Вглядываясь в прошлое“. – Я устал от надежд, устал думать о тяжелой, скучной работе, и Испания стала для меня землей свободы. Только здесь я, наконец, осознал, что еще молод, только здесь я освободился от пут. Испания была для меня чем-то вроде спектакля, я смотрел этот спектакль и все время боялся, что вот сейчас занавес упадет и вернется реальность…» [23]23
Перевод Ю. С. и И.З. под редакцией Э. Кузьминой.
[Закрыть]Если Испания была для Моэма увлекательным и красочным спектаклем, то «в Англии, – напишет он спустя сорок лет в книге „Подводя итоги“, – я никогда не чувствовал себя вполне дома. Англичан я стеснялся. Англия была для меня страной обязанностей, которые мне не хотелось исполнять, и ответственности, которая меня тяготила» [24]24
Перевод М. Лорие.
[Закрыть].






