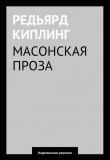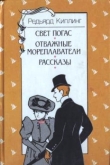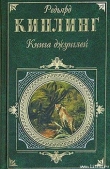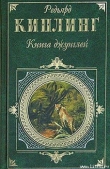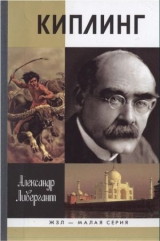
Текст книги "Киплинг"
Автор книги: Александр Ливергант
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Симла, 24 июня 1885 г.
Только я взялся за перо, как на мою веранду запрыгнула зеленая обезьяна с розово-синим лицом и потребовала бананов и хлеба. Следом за ней не преминуло явиться целое обезьянье семейство, состоящее из двух десятков особей: косматые отцы с неуживчивым нравом и низкими голосами, отталкивающего вида мамаши со смахивающими на грошовых куколок младенцами на груди и дурно воспитанные подростки, из тех, кто вечно мешается под ногами, за что получает по заслугам. Склон горы полнится их криками, и вот они уже на площадке для лаун-тенниса; отправляют ко мне депутацию, чтобы предупредить: их дети устали и желают фруктов. Невозможно объяснить депутации, что слова и дела их потомков для меня куда важнее их собственных слов и дел. Глава банды обосновался на моем секретере и изучает стоящие в вазе кисти. Они ему приглянулись: будет, чем отвлекать детей от шалостей. Сует кисти под мышку и выскакивает наружу, прихватив для порядка и отправив в поместительный защечный мешок набор моих жемчужных запонок. Я обращаюсь ко всем, кто знает обычаи обезьяньего мира: скажите, можно ли творить в таких условиях?! Депутация сбежала на теннисный корт, бросив кисти и запонки на веранде. Добродетель должна быть вознаграждена хлебными крошками и перезрелыми фруктами. Первой воспользовалась моей добротой крошечная, сморщенная обезьянка: сорвала с банана кожуру и, подражая родителям, ее щиплет. Bonne bouche [39]39
Сластена (фр.).
[Закрыть]неуклюжа, она не удерживается на ногах, и лакомством со скорбным криком завладевает мать семейства; она прижимает рыдающую обезьянку к своей исполинской груди и, забравшись на забор, кормит ее из рук. Тем временем укравший кисти самец, «матерый, отбившийся от рук негодяй», как принято было писать в старых законодательных актах, занялся пачкой сахара: с поистине человеческой ловкостью вскрывает он пачку и выбрасывает упаковку. Несколько сахарных песчинок упало на землю, и, не обращая внимания на своего предающегося отчаянию отпрыска, любитель живописи опускается на четвереньки и слизывает их с земли, точно собака. Чего-то Дарвин явно не учел, полюбуйтесь: укравший кисти самец, который еще мгновение назад так смахивал на человека, у меня на глазах превратился в зверя, причем зверя прожорливого. Еще несколько хрусталиков сахарного песка пристало к его заросшей мехом, мускулистой ноге. Вцепившись себе в колено обеими руками, он задирает ногу ко рту и жадно ее сосет. Потом садится и с не меньшей жадностью, чем только что ел, принимается чесать себе спину. Нет, Дарвин все же прав: это никакая не обезьяна, а недовольный жизнью старый джентльмен с отвратительным характером. Он громко, надрывно кашляет и, подложив руку под голову, ложится вздремнуть. В нескольких футах от него еще один детеныш, самый маленький из всех, раскачивается, что-то бормоча себе под нос, на конце гибкой сосновой ветки. Папаша пробуждается, не торопясь встает и, издав зычный, гортанный крик, бросается на перепуганного младенца, который пускается бежать с прытью, какую не увидишь даже на Аннандейских скачках.
Но справедливость торжествует, и месть настигает жестокосердного отца: мать младенца, наблюдавшая за инцидентом с самого начала, хватает супруга за его гнусный старый хвост и неуловимым движением сбрасывает его с холма, на который он было забрался. Супруг возвращается, в руках у него младенец, меховая грудь – в сосновых иглах, в сердце – месть. Мирная жизнь счастливого семейства безвозвратно нарушена. В сражении участвуют теперь все члены семьи. Дети ищут защиты у матери, и теннисный корт пустеет. <…>
Симла, 22 июля 1885 г.
<…> В пятницу днем все интересующиеся отправились в институт «Юнайтед-Сервис» на лекцию майора Кинг-Хармана о британском офицере и его оружии (а также о верности делу, рвении, патриотизме и полнейшем незнании того, когда ему, британскому офицеру, дабы не лишиться жизни, следует покинуть поле боя), с которым он идет в атаку. Забавно было наблюдать за тем, как полсотни военных, от убеленного сединами генерала до неоперившегося субалтерна, внимательно слушают рассуждения такого же, как они, вояки о том, каким образом с помощью револьвера и сабли выбить из седла несущегося на всем скаку гази или же как отправить на тот свет противника более цивилизованного при посредстве либо револьвера, либо сабли. Тихим, заученным голосом лектор неторопливо рассказывал о том, как одному британцу удалось отбить сабельный удар пришитой к рукаву медной уздечкой длиной от локтя до запястья. Другой же, увы, не сумел проучить убегающего афганца, ибо сабля у него была самая обыкновенная, и она сломалась после нескольких ударов сверху вниз по скрытому под тюрбаном темени. Тут присутствующие согласно закивали головами, а один новобранец с бело-розовыми щечками шепотом поведал своему соседу, как и у него тоже однажды, в самый ответственный момент, сломалась сабля и (обязательный финал): «Я был на краю смерти!» Затем майор Кинг-Харман, дабы не быть голословным, снял со стола несколько разного типа сабель и попросил собравшихся убедиться в том; как с помощью этого холодного оружия можно рассечь противника пополам, прежде чем тот то же самое совершит с вами; как клинок «Пейджет» – тяжелый, с широким кривым лезвием, из тех, которым по старинке предпочитают рубить, а не колоть, – без труда нарубит из вашего противника бифштексы. Он (майор Кинг-Харман) обратил внимание присутствующих на клинок, выкованный по его эскизу, который одинаково хорошо и рубит и колет, хотя, заметил майор, компромисс в данном случае не кажется ему уместным. Он с любовью продемонстрировал этот клинок, после чего аккуратно вложил его обратно в ножны. <…>
Лектор поблагодарил аудиторию за внимание, выразил надежду, что его сообщение принесет пользу, и опустился на стул подле своих сабель и револьверов, как человек, который только что сделал небольшое сообщение о прилегающих к воде землях в долине Ганга или о чем-то в этом же роде. Генерал Уилсон, поблагодарив лектора от имени собравшихся, рассказал, как он пошел служить в армию во времена, когда Томми Аткинс маршировал по Европе еще с кремневыми ружьями, которые находились на вооружении с 1796 года и были не опаснее детского духового ружья. Перед первым боем командир во всеуслышание предупредил его: «Молодой человек, что бы ни было, не вынимайте саблю из ножен.
Скорее всего, она принесет вам больше вреда, чем пользы. (Тогда, во время дуэлей, искусство владения саблей изучалось особенно ревностно.) Ступайте в бой с заряженной картечью двустволкой, и если вам повезет, вы подстрелите противника на расстоянии десяти ярдов». Вооружившись, в соответствии с этим советом, двустволкой, генерал – а тогда прапорщик – Уилсон, не раздумывая, пошел в бой. Мы же, представители младшего поколения, которые слышали про буров и считаем винтовку приличной, если из нее попадаешь в цель на расстоянии не десяти, а пятисот ярдов, задумались, каким образом присутствующему на лекции ветерану удалось в тот день вернуться с поля боя живым. <…>
Капитан Хейс и лошадь, 14 апреля 1886 г.
«Лошадь – животное благородное, но если ее рассердить, от благородства ничего не останется». О лошадином благородстве мнения расходятся, а вот относительно нежелания сего парнокопытного вести себя благородно ни у кого, кто хотя бы раз имел несчастье владеть норовистой лошадью, никогда не возникало никаких сомнений. И вот тут-то, ибо Природа не терпит несовершенства, и появляется капитан Хейс. Он принуждает лошадь «вести себя благородно» и обучает владельца, каким образом научить лошадь, если только она способна стоять на ногах, «хорошим манерам». Капитан Хейс тем самым является своего рода дополнением к непослушной лошади; они неразлучны. Подобно тому как Сатурн обречен вращаться внутри объятого пламенем кольца, любая лошадь – будь то юный, горячий и упрямый жеребец или старая, сварливая и злобная кляча – обречена вращаться вокруг капитана Хейса до тех самых пор, пока она не станет полезным членом общества. Всем известно, что методы капитана «сокровенны, таинственны и неведомы». Площадку, где он учит лошадей добропорядочности, покорности и порядку, он окружает канатами и не разрешает непосвященным следить за его уроками. Безотказный способ чему-нибудь научить лошадь – это «выбить у нее почву из-под ног»; считает Хейс. Нет на свете лошади, которая бы брыкалась, бросалась, лягалась, кусалась, вела бы себя, одним словом, непозволительно, если – утверждает лейтенант Хейс – «выбить у нее из-под ног почву».
Англо-индийское общество, 29 января 1887 г.
Из письма англичанина, путешествующего по Индии
Вы думаете, что англо-индийцы деспотичны, что они заносчивы и самонадеянны? Так же думаю – а вернее, думал – и я. То, что я читал про них в английских газетах – а вы знаете, что газеты всегда были моей слабостью, – настраивало меня против тех людей, у которых я остановился. Я полагал, что, пусть жалобы на них и не вполне справедливы, их отличает брутальность, и, соответственно, пытался отыскать эту брутальность у своих хозяев – в основном в отношении к прислуге. И, должен признаться, ничего подобного не обнаружил.
В каждом англо-индийском доме, как вам известно, держат очень много слуг, при этом работы от них требуется очень мало. Из годового дохода семьи в 900 фунтов семья из трех человек тратит только на прислугу никак не меньше 100 фунтов. Но это к слову. В Индии отношения между хозяином и работником, по-моему, гораздо лучше, чем у нас в Англии. Англичанин, который прожил в Индии лет пять, обычно собирает вокруг себя небольшое число иждивенцев и их семей, причем слуги не помышляют о том, чтобы сменить хозяев, а хозяева – слуг. Когда слуги заболевают, они приходят за лекарством к хозяину, и во многих случаях, чему я сам был свидетелем, он становится арбитром в их семейных спорах. Он, как правило, неплохо осведомлен, каково положение дел в их семьях, каково их благосостояние, чем болеют их дети. Однажды жена одного из слуг моего хозяина тяжело заболела, однако муж не пожелал везти жену в больницу, обрекая ее тем самым на верную смерть. И тогда мой хозяин, разразившись отборными ругательствами на местном наречии, пригрозил своему слуге, что если тот немедленно не отправит бедную женщину в больницу, он его высечет и в тот же день уволит без содержания. Угроза возымела действие, и женщина выздоровела. Больше же всего моего хозяина разозлила приверженность его слуги кастовым предрассудкам. «Этот человек, – объяснил он мне, – мусульманин низшей касты – я знал его отца». По словам моего хозяина, этот слуга скорей бы дал своей жене умереть, чем выпустил бы ее из дому (видели бы вы этот «дом»: лачуга из глины, с лохмотьями на окне и с бамбуковой занавеской вместо дверей!), чтобы никто, не дай бог, не увидел ее лица. «Любопытно, – добавил со всей откровенностью мой хозяин, – что, принадлежи этот человек к высшей касте, уговорить бы его не удалось». <…>
В Индии нет того, что мы называем обществом. Нет ни книг, ни картин, ни заслуживающих внимания разговоров. Англо-индиец обязательно где-то служит, он тяжко трудится целый день и, возвратившись вечером домой, думает не о том, чтобы разговоры разговаривать, а о том, чтобы поскорее лечь спать.
Офицеры – единственные люди, располагающие досугом, и только общение с ними способно хоть немного скрасить жизнь. Они устраивают скачки, балы и пикники; если кто в этой стране и ухаживает за женщинами, так только военные. Они словоохотливы, гостеприимны, хлебосольны. Мы в Англии на удивление мало знаем о своей армии. В Индии же армия – самая заметная примета общественного пейзажа, и я ей многим обязан.
Должен сказать, что принимали меня, где бы я ни оказывался, с искренним сердечным гостеприимством. Вооруженный рекомендательными письмами, я путешествовал по всей стране, и каждый считал своим долгом поселить меня у себя; никто ни о чем меня не спрашивал, слугам приказывали отнести мои веши ко мне в комнату так, словно это следовало само собой. И вместе с тем, хотя жил я со своими хозяевами одной жизнью, я постоянно чувствовал себя посторонним. Все были ужасно заняты. Вскоре я привык, что на следующее утро после моего приезда мне говорилось; «Ну-с, мистер, вынужден препроводить вас заботам своей жены; мне пора на работу». И действительно, в десять мой хозяин уходил на работу, а возвращался не раньше пяти – половины шестого усталый, выжатый, как лимон. С моей стороны было бы неслыханной наглостью лезть с разговорами к такому занятому человеку. Даже в холодную погоду работать так, как работают англо-индийцы, очень тяжело, в жару же – просто невыносимо. В Индии мужчины стареют быстро, и мне не раз доводилось видеть молодых людей лет двадцати пяти-двадцати шести с морщинами на лице и с сединой на висках. Когда сидишь за обеденным столом, мужские лица поражают решительностью и энергичностью – особенно лица молодых людей… <…> Здесь никто не ведет светских бесед, не шутит и не балагурит, как в Англии. Все здесь работают не покладая рук и говорят и думают только о работе. С приближением старости переутомленные, перегруженные мозг и тело начинают сдавать, и жизнь становится и вовсе невыносимой. Мало кто из живущих в Индии англичан довольны собой, хотя работа – опять работа! – вызывает у них неизменный энтузиазм. Впрочем, надо отдать им справедливость – работу они не превозносят.
Вы ведь знаете, что ответил моряк на вопрос проповедника, любит ли он свою профессию. Моряк осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на палубу, на мачты, потом заглянул в трюм, оглядел свои изрезанные шрамами руки и сказал: «Как не любить! Приходится, черт возьми!» Примерно так же рассуждают и англо-индийцы. Им приходитсялюбить свою работу. <…>
Местные жители находятся от англо-индийцев в полной, унизительной зависимости. Что бы ни делалось, должно делаться под надзором и под непосредственным руководством англичанина – в противном случае работе этой грош цена. Указания и советы, которые английский плотник, портной, кузнец или строитель схватывают налету, в Индии приходится повторять по много раз, прежде чем местный житель вникнет в смысл сказанного; в процессе работы бестолковый работник раз десять обратится к своему работодателю за разъяснениями и дополнительными инструкциями… Приехав в Индию впервые и листая местные газеты, я сделал вывод, что все индийцы независимы и самодостаточны, однако теперь думаю иначе. Англо-индийцы никогда не говорят о независимости индийцев и очень часто – о их беспомощности. Все англичане, с которыми мне довелось встретиться, твердят одно и то же: своей нерасторопностью индиец способен свести с ума любого, даже самого выдержанного английского работодателя. Вот вам пример. На днях клерку из местных поручили переписать несколько машинописных страниц для джентльмена, в чьем доме я остановился. Клерк получил, как здесь принято выражаться, английское образование, и по-английски изъяснялся совершенно свободно. Так вот, исключительно из-за собственной безалаберности он пропустил тристрочки на первой странице, однуна второй и двена третьей, отчего переписываемый текст лишился всякого смысла; вдобавок в тексте не оказалось ни одной точки. Я видел этот текст собственными глазами, и если бы такую работу мне сдал в Англии шестнадцатилетний подросток, нанятый за пятнадцать шиллингов в неделю, я бы рассчитал его, не задумываясь. Этот же клерк был тщеславен, как павлин, и в разговоре со мной рассуждал о «политическом будущем Индии». Может быть, он – исключение из правила. Очень хочется в это верить.
Любая работа, выполняемая местными жителями, никуда не годится. Двери свисают с косяков, окна вставлены косо, крыша протекает. Полы и плинтусы укладываются кое-как, лесоматериал расходуется не экономно и без толку. Любые петли и замки, да и любые скобяные изделия выглядят, с английской точки зрения, откровенным издевательством. Во всей Индии, насколько я могу судить, не сыщешь ни одной до конца закрученной гайки, ни одного накрепко сбитого бруса, ни одной мало-мальски приличной слесарной или столярной работы – и это конечно же весьма печально. Газеты на английском языке, за исключением двух бомбейских, где в типографиях используется пар, напечатаны, хоть печать и осуществляется под надзором европейцев, из рук вон плохо; о газетах же на местных наречиях говорить и вовсе не приходится. Такой печати постыдился бы и расклейщик дешевых афиш. Очень смешно читать высокопарные рассуждения местных мыслителей, набранные таким образом, что сразу видно: в английские типографские машины туземцы играют, как в игрушки. <…>
Все здесь делается небрежно, бестолково, как придется. У англо-индийцев есть для этого очень выразительное слово – «кутча». В Индии все «кутча», то есть сделано «с кондачка», чего английский рабочий никогда бы не допустил. Зато говорить местные жители – мастера. Говорят они с утра до ночи, причем, как правило, на безупречном английском языке, и их любимая тема – «неумение местных жителей работать». <…>
Язык, на котором говорят англо-индийцы – особая статья. Гималайские горы они называют «холмами»; если человек умирает, про него говорят, что он «откинул копыта»; про человека, который заболел, даже если он заболел серьезно, скажут всего-навсего: «Ему нездоровится». Когда мать оплакивает смерть своего первенца, про нее говорят, что «ей немного не по себе». Англо-индийцам – еще больше, чем американцам, – свойственно все преуменьшать, они все воспринимают как должное, и если кто-то – офицер ли, чиновник – совершит какой-то героический поступок, они только и скажут: «Что ж, недурно». Для них это высшая похвала. Вывести англо-индийца из себя, чем-то его поразить, по существу, невозможно.
Англо-индиец – человек чудной, и ради чего он живет, мне, честно говоря, не вполне понятно. Развлекаться он не умеет, жизнь ведет пресную, невыразительную, хотя бывает, конечно, по-всякому. Анекдоты он рассказывает в основном «с бородой» – их он вынес еще из Англии, анекдоты же из индийской жизни понимаешь, только если прожил в Индии несколько лет. У него и недостатков-то настоящих нет, табак, правда, он курит такой крепости, что от него голова идет кругом. Вообще, почти все англо-индийцы курят очень много, и все, от мала до велика, ездят верхом. Пешком они не ходят, в седле же держатся превосходно. Меня они развлекали, как могли, но жить их жизнью – нет, увольте! <…>
Не бойся я проявить неблагодарность к мужчинам и женщинам, скрасившим мое пребывание в Индии, я бы, подводя итог, сказал, что все англо-индийцы – сущие бедолаги. И в то же время, даже если бы мне пришлось отвечать за свои слова, я не смог бы в точности объяснить, отчего я считаю их бедолагами. Мне их, и мужчин и женщин, искренне жаль, хотя я знаю, они терпеть не могут, когда их жалеют. Они ведь о себе самого высокого мнения, и у них есть для этого все основания – во всяком случае, если речь идет о трудолюбии. Но жить красиво они так и не научились – возможно потому, что для красивой жизни им не хватает времени. Странная страна. Если вам удалось отговорить молодого человека, собравшегося в Индию, считайте, что вы сделали доброе дело.
P. S. В этом письме я писал в основном про англо-индийцев, а не про местных жителей. Вы же хотели узнать про индийцев. Скажу Вам откровенно, у меня с ними отношения не сложились, отказываюсь понимать людей, которые в состоянии вместе с ними жить и работать. Про тех же, кого мне удалось наблюдать, сказать могу только одно: покуда Господь вновь не сотворит небо и землю, покуда не обрушится на нас новый Вселенский потоп, – они не исправятся. Слишком уж много они говорят и слишком мало делают.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Киплинг-путешественник. Из книги «Бразильские очерки»
Мне посчастливилось объехать на маленькой моторной лодке острова, прячущиеся за ослепительной зеленью и густыми деревьями в алых и золотых тюрбанах. Дикие заросли гуавы перемежались с зарослями королевского бамбука, заросшие пастбища сбегали из лесов к петляющему вдоль островов озеру. Острова окружали нас со всех сторон, и от этого мы совершенно не понимали, куда плывем. Лавируя между ними, мы заплывали в крошечные озера, бывшие частью одного большого озера. Один раз мы уткнулись в обвешенный лианами берег, где в бледно-зеленом свете по изумрудной скале, едва слышно журча и переливаясь серебром на солнце, сбегал небольшой водопад. А между тем волшебные острова были не более чем вершинами небольших холмов, озера же еще два десятилетия назад были долиной; долину запрудили, чтобы обеспечить водой гидроэлектростанцию, подающую электричество в Рио.
И в эту самую минуту из воды бесшумно выплыла и взбежала на берег гигантская четырехфутовая крыса с тупой головой и настороженным взглядом. Нам сказали, что зовут ее капибараи что гнусный этот грызун является разносчиком карапата, не дающего покою скоту. Сей джентльмен оказался клещом размером в горошину, его собратьев я немало повидал на коровах и быках в Азии – точно таких же коровах и быках, с горбом и всем прочим, что пасутся на здешних пастбищах. Таким образом, и карапата, и Священная корова, что пасется в местах, где ее меньше всего ожидаешь увидеть, и капибарас головой, как у аллигатора, и жаркий, пряный запах лесов – все эти чудеса, которыми полнился день, словно бы повторялись, накладывались на чудеса прошлых времен. А завершился день в бунгало плантатора Ассама: крошечные, переливающиеся, точно драгоценные камни, птицы носились вокруг вечнозеленой жимолости, пока их не сменили летучие мыши, а ночные цветы не вложили душу в звездное небо. На завтрак ели ледяные куски манго, после чего детвора резвилась, наподобие форели, в большом бассейне, не обращая никакого внимания на тело крошечной ядовитой змеи, которая вывалилась из желоба. «Чего там! Она ж мертвая!» – отозвался четырнадцатилетний сын хозяина и с этими словами вновь нырнул в бассейн за тарелками. Счастливая жизнь повсюду одинакова: дети скачут на лошадях и плавают, будто только этим от рождения и занимаются, а взрослые предаются степенной беседе на залитой лунным светом веранде. И как же все это правильно истолковать? И что из всего этого следует?
В большой город съехались уцелевшие на войне южноамериканские солдаты и офицеры. Радостные, чистосердечные, они, вместе с тем, таили в себе горькие, ностальгические чувства, которые прятали за весельем и жизнерадостным смехом. «Шутки шутками, но как сложилась их жизнь?» Если отбросить все намеки и местные каламбуры, на которые они не скупились, то ответ на этот вопрос был однозначен: «Хорошо сложилась. Жизнь у нас, и правда, хорошая. Конечно, мы ворчим, жалуемся, но в целом лучшей доли не пожелаешь. Недостатка ни в чем не испытываем, а вот искушений много, не важно, есть деньги или нет». Вот такими отговорками приходилось довольствоваться. В другом месте собрались англичане – мужчины, женщины и дети пришли отдохнуть в клуб после рабочего дня. Здесь разговор шел, пожалуй, более откровенный. Однако местный обычай, увы, запрещает подвергать людей допросу: «Как вы в самом деле живете? Что вы можете сказать о здешней жизни, о бизнесе, торговле, прислуге, детских болезнях, образовании и т. д.?» В результате река человеческих лиц безмятежно течет мимо и остается только гадать, что скрывается за ее подернутыми рябью водами.
Бразильцы, с которыми мне довелось встретиться, интересуются жизнью, не прячутся от нее, но не она является для них высшей ценностью. Их Бог, шутят они, – бразилец. Он дал им все, что они хотели, а когда понадобилось, – даже больше. К примеру, в год, когда был собран слишком большой урожай кофе, Он в нужный момент наслал мороз, урожай сократился на четверть, и лихорадка на рынках стихла. В стране имеется все, в чем только есть необходимость, и это «все» ждет своего часа. Во время войны, когда бразильцам неоткуда было брать металл, волокно и все прочее, они показали все, что им было нужно, индейцу и спросили его: «Не знаешь, где найти эти вещи?» И индеец им не отказал. Но одно дело владеть железом и волокном, а другое – отдавать их производство под концессии; к этому бразильцы пока не готовы. Бразилия – огромная страна, половина или треть ее территории еще совершенно девственна. Когда-нибудь ею займутся. Спустя какое-то время у землевладельца возникнет законное отвращение к покупателям и продавцам товара, и это составит благородную основу национального достояния.
Изысканные ритуалы приветствий и прощаний, распространенные здесь среди простых людей, свидетельствуют о том же. Жизнь сложна и скоротечна, и бразильцы упиваются всевозможным церемониалом. С другой стороны, распространенная во многих странах учтивость вызвана причиной более чем серьезной. Я поинтересовался, существует ли эта причина здесь. О да. Конечно. Здешнему народу больше всего претят грубость, отсутствие уважения, оскорбление, «брошенное в лицо». Такое поведение бразильцев возмущает. Иногда приводит в бешенство. Тогда – жди беды. Вот почему взаимная предупредительность является здесь неукоснительным правилом, которое соблюдается всеми – и сильными мира сего, и людьми самыми незначительными.
В этом я убедился во время карнавала, когда Рио совершенно взбесился. Жители города облачались в самые диковинные карнавальные костюмы, набивались в автомобили, были куплены тонны серпантина; если умело эту бумажную ленту бросить, она растянется еще футов на тридцать. И три дня и три ночи все только и делали, что носились по городу, собирались в толпы, забрасывали соседей этими бумажными лентами и обливали друг друга отвратительными пахучими духами. (Я и сам вскоре овладел искусством бросаться серпантином, потренировавшись сначала на пятерых ангелах в оранжево-черном одеянии, потом на набившихся в машину, загримированных под чертей мальчишках и, наконец, на стоявшем в стороне одиноком божестве в бирюзово-серебряном костюме.) Тротуары были забиты прохожими, все до одного были в карнавальных костюмах, и у каждого в руках имелся серпантин. Представители городских организаций и гильдий передвигались по городу на огромных платформах в окружении кавалеристов-любителей. Сквозь толпу в ритме чарльстона, сотрясая землю и воздух мерным топотом ног и пением нараспев древних, как мир, мелодий, отгородившись от толпы веревкой, вышагивали ровными рядами негры и негритянки, разодетые во все цвета радуги. Чем не Африка?
С платформ высотой сорок футов, плывших над бурным морем голов, выкрикивались вещи, о которых бы пресса писать не осмелилась, во всеуслышание поносилась, к примеру, нерадивая железнодорожная компания, изображенная на полотнище в виде двух бодающихся, на манер баранов, одинаковых паровозов. Было полное ощущение того, что толпа овладела городом, мы увязали в ней, с трудом сквозь нее продирались, она же оглашала улицы громкими криками, несла невесть что и закидывала все вокруг конфетти. Серпантин, напоминая обломки домов после наводнения, свисал с веток деревьев, покрывал бахромой улицы, точно водоросли – морской берег, лежал густым слоем на крышах автомобилей, которые походили на возы с сеном на оперной сцене. И при этом не было и намека на беспорядок, спиртным не пахло ни от кого. В два часа ночи авенида шириной в сорок футов была от тротуара до тротуара завалена серпантином и конфетти. В пять утра, спустя всего три часа, улицы были пусты – ни серпантина, ни разодетых толп. Не осталось даже головной боли от многоголосого шума!
Уже потом мне объяснили, что чем-чем, а спиртным бразильцы не увлекаются, да и порядок на улицах соблюдают, мусор не разбрасывают. Как и все, кто вынужден в жаркую погоду работать по дереву, иметь дело с шерстью, тростником и ратангом, они привыкли к чистоте; борьба с лихорадкой приучила их в свое время к опрятности. Сегодня жителю города не поздоровится, если в его мусорных баках заведутся москиты – муниципальные власти заставят его платить. Вот почему дурного запаха в Рио не бывает практически нигде.
Здешние молодые писатели ориентируются на Францию и, открывая для себя свою страну, восхищаясь ею, вдохновляясь ее успехами, пишут с галльской продуманностью и точностью.
Мне довелось слушать речь в их Академии на литературном португальском, и в этой речи ощущались достоинство, гармония и ясность многовековой культуры. Так, в тональности стеклянной арфы скрывается двойная тайна – огня и воды. Спустя некоторое время я слушал популярную песенку, ее на дружеской вечеринке исполняла под аккомпанемент мандолины какая-то девушка. («Думаю, эта песенка с Севера, из Сухой земли, где по ночам принято петь быкам и коровам».) Снаружи шел теплый, пахучий дождь, и его шепот удивительно сочетался с духом старого дома, со старой мебелью, с бесценным гладким серебром и, каким-то магическим образом, – с естественностью и уравновешенностью гостей. Блики света падали на бледное лицо девушки, а три-четыре молодых человека, сидевшие у нее за спиной, бренчали на мандолинах, выбиваясь порой, как это здесь принято, из ритма. Все сидевшие в комнате знали припев; простое, рвущее сердце причитание в переводе не нуждалось. Затем молодые люди заиграли громкую, надсадную негритянскую мелодию (не имеющую, впрочем, ничего общего с «черным битом»), которая, как видно, тоже была всем известна. Мелодия эта родилась в непревзойденной Байе, где, думается, старое сердце этой земли бьется громче, чем в других местах. Мне мнилось, будто я слышу, как в такт струнам мандолины глухо стучат барабаны Западного берега, при этом сидевшие за столом отбивали ногами ритм, их лица светились от ассоциаций, навеваемых рифмованными словами. (Вероятнее всего, айи напевали им эти мелодии, когда они были детьми.) В эти минуты я почувствовал себя ближе к Бразилии, чем когда-либо раньше. Я поделился этим чувством близости со здешним приятелем и добавил:
– Но найти с вами общий язык не так-то просто.
– Не потому ли, что вы всегда воспринимаете нас испанцами? Мы не испанцы. По происхождению мы португальцы, мы пришли сюда из Португалии, которой больше нет. А была когда-то, должно быть, замечательная страна. Сейчас она мертва, но свой отпечаток на нас она наложила. <…>
За вычетом французов, я никогда не встречал народа, который бы столь же хорошо видел свои собственные недостатки и умел превращать их в достоинства…
К развлечениям, как и к жизни, бразилец относится спокойно, он торопится, когда говорит и жестикулирует, – но не когда думает. Он досконально изучил представителей всех национальностей, свивших себе гнездо под его небом за много-много лет. К английскому предпринимателю он привык, и здесь осели английские семьи, много семей, давным-давно связавших себя с национальным достоянием этой страны. Эти люди с двумя языками и двумя головами действуют в качестве добровольных переводчиков и послов при финансовых и коммерческих затруднениях. Старые опытные торговые фирмы посылают в Бразилию таких англичан, которые сумеют найти с местными жителями общий язык. Дело в том, что бразилец еще не дорос до «безличного» бизнеса. Если ты ему пришелся по душе, если он испытывает к тебе человеческую симпатию, он ради тебя в лепешку расшибется. Если же ты ему не понравился – пальцем не пошевелит. Если он плохо тебя знает, но чувствует, что за душой у тебя что-то есть, то сходиться с тобой повременит. Он будет, не считаясь со временем, выжидать и за тобой наблюдать. Времени же у бразильцев сколько угодно. <…>