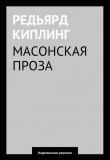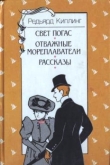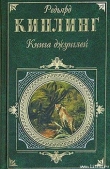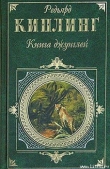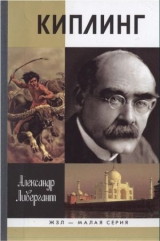
Текст книги "Киплинг"
Автор книги: Александр Ливергант
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Легкомысленный, порой даже ернический тон писем («нечто вроде маленькой войны», «война – нечто среднее между покером и воскресной школой», «в жизни не видел ничего более смешного, чем эта война») не должен вводить в заблуждение. В этих письмах намечены основные тезисы того, что Киплинг и как журналист, и как поэт, и как прозаик пишет об Англо-бурской войне. Их, этих тезисов, собственно, всего два. Во-первых, мы, англичане, плохо подготовлены, беспечны и в отношении к противнику преступно мягкотелы. Особой «мягкотелостью», скажем от себя, англичане, как известно, и в этой войне, и в других особо не отличались – чего стоят одни концлагеря для мирного населения, в которых умерли от голода и болезней многие тысячи африканеров. Во-вторых, буры, напротив, подготовлены отлично, хитры, коварны, жестоки, ведут на манер индейцев продуманные партизанские действия, противостоять которым британские регулярные части не в силах.
Об этом же – писавшиеся в те годы стихи и рассказы; и те и другие, надо признать, качества не самого высокого. В «Друге» в самом начале войны были напечатаны стихи Киплинга о героизме ирландских солдат – и приурочены, понятное дело, ко Дню святого Патрика. Беннет Бэрли вспоминает, как Киплинг сочинял эти стихи на обратном пути с линии фронта в Блумфонтейн: «Бубнит что-то себе под нос с отрешенным видом, точно Роберт Бернс».
В мае 1900 года, вскоре после возвращения из Южной Африки, Киплинг пишет довольно слабый рассказ «Бюргер Свободного государства», где ополчается против «двуликих Янусов» из Блумфонтейна – тех, кто старался угодить и вашим (англичанам) и нашим (африканерам). Этот рассказ он, по обыкновению, прежде чем печатать, прочел вслух своей главной ценительнице тете Джорджи, однако ура-патриотический «Бюргер» впечатления на нее не произвел, а вернее, произвел, но плохое. Дело в том, что горячо любившие друг друга тетка и племянник находились «по разные стороны баррикад» – тетя Джорджи принадлежала к тем самым «наивным лондонцам», на которых жаловался Конланду Киплинг. Когда 1 июня 1902 года был наконец-то подписан Верейнигингский мирный договор и война завершилась победой британского оружия, тетя Джорджи, которая придерживалась пробурских взглядов и была принципиальной противницей этой войны, не побоялась в день всеобщего ликования вывесить из окна «Норт-Энд-хаус» черный флаг с надписью: «Мы убийцы и в придачу захватчики». Джорджи сильно рисковала, собравшаяся под ее окнами толпа могла бы ее проучить, и наверняка бы проучила, не вмешайся племянник: прибежав из «Вязов», Киплинг сумел успокоить людей, его харизма оказалась сильнее тетушкиного инакомыслия.
Инакомыслием, впрочем, грешил, при всем своем патриотизме, и сам Киплинг. Осенью 1901 года, когда война еще продолжалась, он публикует в «Таймс» поэму «Островитяне», где вновь сетует на легкомыслие, беспечность своих соотечественников, неумение и нежелание воевать, на их мелкие обывательские интересы. Поэма изобилует такими обидными для отечества строками, как: «Вы оказались игрушкой в руках маленького народа; мало кто из вас оказался пригоден к бою». Или: «Вы кичились своей невиданной силой, вы выставляли напоказ свою железную гордость и при этом виляли хвостом перед молодым народом, перед теми, кто умеет стрелять и держаться в седле!»
«Англия – затхлое местечко, – с горечью пишет он в это же время Сесилу Родсу. – Затхлое интеллектуально, нравственно и физически». В стихотворении «Урок», напечатанном в «Таймс» 29 июля 1901 года, Киплинг повторяет свою излюбленную мысль, которая звучит и в «Простых рассказах с гор», и в «Книгах джунглей», и во многих балладах: «Это было нашим заблуждением, нашим величайшим заблуждением – и теперь мы должны извлечь из него урок. У нас сорок миллионов причин для неудач, но оправдания нет ни единого. А потому чем больше мы будем работать и чем меньше болтать, тем большего добьемся. Мы получили великий урок – и благодаря ему еще можем стать великой страной».
Среди произведений, написанных Киплингом в эти годы, есть, разумеется, и удачи. Это хорошо известная по-русски и как стихотворение, и как песня «Пыль» (по-английски «Сапоги») и рассказ «Пленный». Его герой, американский авантюрист, сражающийся на стороне буров, попадает к англичанам в плен (а его прототип, знакомый Киплинга по Кейптауну, тоже американец, наоборот, воюет за англичан) и рассказывает автору про командира буров Ван Зила и про британского генерала. Ван Зил не хочет сражаться, однако сражается отлично, генерал же уважает буров и с ужасом ждет конца войны – он хочет, чтобы как можно больше солдат и офицеров участвовали в «генеральной репетиции Армагеддона». В рассказе английские офицеры придерживаются «пробурских» взглядов, тогда как африканеры считают своими главными врагами вовсе не британцев, а инакомыслящих из Капской колонии, которые используют в своих целях и буров, и англичан. Подобные парадоксы – вовсе не плод воображения автора, а реальность сложного хитросплетения интересов воюющих сторон. Реальность, которую Киплинг, как и полагается писателю, лишь укрупнил и оттенил, не вдаваясь в подробности.
Между тем «сила подробностей», за которую хвалил Эдгара По Достоевский, – важная черта дарования Киплинга. И проявилась эта черта в романе, над которым Киплинг работает с перерывами больше семи лет и который вчерне заканчивает в самый разгар войны, в августе 1900 года. В романе «Ким».
Глава двенадцатая «КИМ», КОТОРЫЙ «КОНЧИЛ СЕБЯ САМ»
С чего начался «Ким», киплинговский opus magnum?
Возможно, с «Матушки Матьюрин», уже известного читателю романа из англо-индийской жизни, который не вышел в свет, поскольку (вспоминает миссис Хилл) не понравился Джону Локвуду, а то, что не нравилось отцу, не могло понравиться и сыну: вкусу Киплинга-старшего Киплинг-младший доверял всегда и беспрекословно. «Матушка Матьюрин», как мы знаем, так и осталась ворохом исписанной бумаги, однако ее сюжет, благодаря все той же Эдмонии Хилл, нам известен, и в канве этого незаконченного повествования просматривается некоторый намек на будущего «Кима».
Главная героиня, старая ирландка, содержательница курильни опиума в Лахоре, разбогатев, посылает свою дочь в Англию; получив там образование, девушка выходит замуж за английского чиновника, назначенного на работу в Индию, и возвращается в родные края. В результате, комментирует миссис Хилл, не только в правительственных кругах знали, о чем говорят на индийском базаре, но и на базаре были в курсе того, что собираются предпринять власти. Что заимствует из этого сюжета Киплинг для своего «Кима»? Не так уж мало – тайну рождения, ирландские корни героя, его разыскную деятельность.
А возможно, «Ким» начался со случайного разговора в аллахабадском клубе, где кто-то из знакомых рассказал Киплингу занятную историю. Когда в 1880 году уже известный нам по Англо-бурской войне и по тому военных мемуаров фельдмаршал, а в ту пору генерал Робертс вернулся из похода в Афганистан, его солдаты обнаружили среди патанов (переселившихся в Индию афганцев) говорившего на пушту английского юношу. Как впоследствии выяснилось, ребенком его украли и увели в горы, и хотя в английских частях служил его родной дядя, молодой человек вернуться к сахибам наотрез отказался и предпочел остаться с теми, кто его воспитал. Чужой становится своим – мотив «Книги джунглей», да и многих произведений писателя.
При желании можно связать «Кима» и с судьбой преуспевающего адвоката, владельца обеих индийских газет, где работал Киплинг, Уильяма Реттигана, ибо он, как и герой романа Кимбол О’Хара, был сыном безграмотного солдата-ирландца из расквартированного в Индии полка. Ким, правда, в отличие от Реттигана, не заканчивал кембриджский Кингз-колледж и Гёттингенский университет, не входил в законодательный совет при генерал-губернаторе, однако начинали они совершенно одинаково.
Чем-то вроде предисловия к будущему роману и послесловия к «Матушке Матьюрин» может служить рассказ «Хранить как доказательство» из «Простых рассказов с гор», где герой, Макинтош Джелалуддин, выпускник Оксфордского университета, приезжает в Индию, женится на местной жительнице, спивается и становится мусульманским факиром. Всю свою жизнь он пишет книгу, которую передает перед смертью автору рассказа в виде кипы бумаг, увязанных в грязную тряпку. «Если эту книгу когда-нибудь напечатают, – пишет в заключении Киплинг, любивший, как мы помним, мимикрировать, „прикрыться“ чужим авторством, – то, может быть, кто-то и вспомнит этот рассказ, который я публикую как доказательство того, что автор „Книги о матушке Матьюрин“ – не я, а Макинтош Джелалуддин» [27]27
Пер. Ю. Кагарлицкого.
[Закрыть].
Шел «Ким» тяжело, куда тяжелее, чем более слабые «Свет погас», «Наулака», «Отважные капитаны». Да и работает над романом Киплинг урывками. Отчасти из-за следовавших друг за другом несчастий. Начат роман был в 1894 году в «Наулахе». «Смутный замысел книги об ирландском мальчишке, родившемся в Индии и втянувшемся в туземную жизнь, возник у меня еще в „Райском коттедже“», – вспоминает Киплинг в автобиографии. Начат и брошен. В 1898 году умирает Бёрн-Джонс, в том же году сходит с ума сестра, годом позже умирает старшая дочь писателя и тяжело заболевает он сам – тут не до «Кима». В конце этого же 1899 года Киплинг, завершив «Прохвоста», вновь берется за роман, но тут начинается трехлетняя война с бурами…
А отчасти из-за исключительной, чуть ли не патологической требовательности к тому, что он пишет. Про стоящую под его письменным столом корзину для бумаг Киплинг, нисколько не рисуясь, говорил: «Вот куда идет большая часть того, что я пишу». «Я не знаю другого автора, который бы так упорно переделывал и переделывал текст, добиваясь того, чтобы он понравился ему самому, – писал его американский редактор Джозеф Роджерс. – По-моему, „Ким“ переписывался не меньше пяти раз, причем три раза уже после того, как был набран… Гранки второго набора были испещрены исправлениями на полях… эти гранки привели в ужас наборщиков, тем более что Киплинг был очень придирчив и требовал, чтобы каждое слово и каждый знак препинания в точности соответствовали тому, что он написал». «Прочтите свой черновик, добросовестно обдумайте каждый абзац, фразу и слово, вымарывая все лишнее», – советовал начинающим авторам Киплинг, который многие свои вещи, задуманные как роман, безжалостно и, кстати, не всегда правомерно сокращал до рассказа. Сократил, пусть и не до рассказа, он и «Кима»: в первоначальном виде роман был чуть ли не втрое больше…
Когда в августе 1900 года роман был в общих чертах завершен, Джон Локвуд, с которым Киплинг постоянно обговаривал, «обкуривал», как он выражался (оба курили трубки), детали будущей книги и который спустя два года будет иллюстрировать «Кима» для собрания сочинений сына, поинтересовался: «Это ты его кончил, или он кончил себя сам?» И узнав, что «Ким» «кончил себя сам», выразил надежду, что в таком случае роман не столь уж и плох. В отношении сына Джон Локвуд всегда был настроен позитивно.
Это сейчас «Ким» считается вместе с «Книгами джунглей» лучшим произведением Киплинга, в конце же 1900 года, когда роман еще только увидел свет, мнение Киплинга-старшего, выведенного в «Киме» в образе белобородого англичанина из Дома Чудес, разделяли немногие – как немногие, очень немногие разделяли в годы Англо-бурской войны оголтелый патриотизм писателя. Арнольду Беннету, к примеру, роман решительно не понравился: «„Ким“ меня убил». Холодно отозвался о нем и Генри Джеймс, полагавший, и не без оснований, что четвероногие удаются Киплингу лучше, чем люди [28]28
Джеймс сказал однажды, что в своих книгах Киплинг переходит от англо-индийцев к туземцам, от туземцев – к солдатам, от солдат – к четвероногим, от четвероногих – к рыбам, от рыб – к машинам и винтикам. В одном из писем Джеймс замечает, что утратил надежду на то, что из Киплинга-рассказчика «произрастет когда-нибудь английский Бальзак».
[Закрыть]. Был сдержанно принят «Ким» и в США, где после «Отважных капитанов» окончательно возобладала распространенная точка зрения, что Киплинг – признанный мастер рассказа, большая же форма ему не дается.
Действительно, не дается. Но «Ким» – исключение, и сегодня с этим едва ли кто поспорит. Во всяком случае, такие авторитетные и придирчивые ценители литературы, как Томас Стернз Элиот, Марк Твен, английский прозаик конца прошлого века Энгус Уилсон и его однофамилец Колин Уилсон, известные индийские критики Нирад Чаудхури и Баскар Рао, единодушно считают «Кима» «величайшей книгой Киплинга» (Т. Элиот), «самым колдовским произведением Киплинга» (Э. Уилсон), «лучшим рассказом об Индии по-английски» (Н. Чаудхури). И, хотя речь идет о довольно обветшалом жанре плутовского романа или «романа большой дороги» – произведением и сегодня, спустя 120 лет, нисколько не устаревшим, необычайно увлекательным и мастерски написанным.
Увлекательным – прежде всего конечно же благодаря индийскому экзотическому материалу. Во-вторых, потому, что, по некоторым формальным признакам, «Ким» еще и шпионский роман. Шпионско-плутовской роман странствий – такая вот гремучая смесь. В роли своеобразного Дон Кихота в книге Киплинга выступает престарелый буддийский лама. В роли Санчо Пансы – его проводник, совершающий с ним вместе паломничество, мальчик-ирландец Ким, он же – агент английской разведки Кимбол О’Хара. Эта «донкихотская» пара путешествует по Великому Колесному Пути (индийской «большой дороге»), по Северной Индии, той самой, которую автор, в бытность свою репортером «Гражданской и военной газеты» и «Пионера», проехал вдоль и поперек. Наблюдательный, живой, оборотистый ирландский мальчишка и мудрый, наивный, веротерпимый (не чета полковому пастору Беннетту) тибетский лама одновременно и принадлежат Индии, и в то же время разглядывают ее словно со стороны. Они здесь и свои и чужие; не будь они чужими – и они не увидели бы всего того причудливого, многоцветного индийского калейдоскопа рас, каст, обычаев, суеверий, слились бы с ними.
С Индией они не сливаются, зато «сливаются» друг с другом. Ким в результате становится Другом Всего Мира – если помните, так звали в Лахоре индийские слуги маленького Радди. Лама же – последователь Срединного пути, где нет ни высоких, ни низких, не возносится над миром, а приближается к нему. «Материалист» Ким спасает от физической гибели старика-тибетца, занятого поисками Реки Чудодейственного Исцеления, которая, он верит, способна освободить от Колеса Всего Сущего. «Идеалист» тибетец, в свою очередь, спасает Кима, этого «маленького чертенка», как он его называет, от гибели духовной.
Занятно, что как раз когда Ким готов объять душой все человечество, когда после Гималаев для него перестают существовать касты и религии, а есть лишь духовные силы, объединяющие все сущее – он становится агентом английской разведки, проходит проверку для участия в «Большой игре» Британии на Востоке. Будь роман написан не Киплингом, подобный финал воспринимался бы парадоксом, причем парадоксом довольно грустным, да и к тому же натянутым. У Киплинга же с его стойкой идеей цивилизаторского бремени белого человека в таком финале нет ровным счетом ничего парадоксального; он – в порядке вещей. Изворотливый, ловкий, смышленый, азартный маленький ирландец, с детства любивший «игру ради самой игры» и повинующийся «инстинкту слушать и наблюдать» [29]29
Здесь и далее перевод М. Клягиной-Кондратьевой.
[Закрыть], является, если вдуматься, «органичным элементом» британской секретной службы, стоящей, по Киплингу, на страже порядка в стране. В стране «древнего благочестия и современного прогресса», для которой Pax Britannica, опять же по Киплингу – неоспоримое благо.
Вначале 1890-х годов уже упоминавшийся Ричард Ле Гальенн писал про прозу Киплинга, что «главное в ней – сюжет, герои же – не более чем вешалки, на которые накидывается забавное происшествие, анекдот из жизни». «Бессюжетный» (это слова самого Киплинга) «Ким» эту теорию опровергает. Верно, забавных происшествий в романе предостаточно, но ведь и колоритных персонажей тоже сколько угодно. Взять хотя бы «краснобородого барышника» афганца Махбуба Али, набожного мусульманина, богатого, жадного и предприимчивого торговца лошадьми и, по совместительству, агента Разведывательного управления под шифром С.25.1.Б., усердно молившегося Аллаху и регулярно посылавшего в правительство секретные донесения о путешественниках неанглийской национальности и о торговле оружием. Или старика-индуса, в прошлом туземного кавалерийского офицера, участника десятков кавалерийских схваток. Бывший вояка, он не расстается с военной формой, с готовностью сообщает всем желающим о своих многочисленных ранениях и орденах, стоит «прямо, как шомпол», и, вытащив кавалерийскую саблю и раскачивая ее на худых коленях, рассказывает нескончаемые истории о сипайском восстании, после чего «садится на низенькую лошаденку, положив руку на рукоятку большого меча… и свирепо глядит куда-то поверх плоской равнины на север». А вот полковой капеллан англиканского вероисповедания преподобный Беннетт. Облаченный в черный костюм с золотым крестом на часовой цепочке и в черную мягкую широкополую шляпу, он из последних сил плетется за войсками. Соображает, впрочем, он лучше, чем передвигает ногами. Беннетт убежден: между ним и католическим священником отцом Виктором «лежит непроходимая пропасть», но «всякий раз, как англиканской церкви предстоит решать задачу, имеющую отношение к человеку, она охотно зовет на помощь церковь римско-католическую».
Сам Киплинг называл «Кима» «плутовским бессюжетным романом, навязанным извне». Как понимать последние два слова? Кем навязан и почему? Видимо, – ностальгическим чувством к своей индийской музе. Киплинг любит в своих книгах расставаться с прошлым. В рассказе «Мэ-э, паршивая овца…» писатель расстался, причем без всякого сожаления, с пансионом Саутси. В «Прохвосте и компании» – с закрытой школой Юнайтед-Сервисез, про которую написал весело, занятно, но больше не напишет никогда и ничего. В поэтическом сборнике «Пять народов», о котором еще будет сказано, – с Южной Африкой и Англо-бурской войной. В «Киме» – с Индией. Не увлекательный сюжет (лучше сказать, сюжеты, ведь книга дробится на отдельные законченные эпизоды, сквозного сюжета в романе, по существу, нет), не духовное родство ирландского мальчишки и престарелого буддиста, не богатейшая кунсткамера запоминающихся персонажей, а Индия, многоликая, диковинная, непознаваемая Индия – вот самая большая, как нам кажется, удача этой книги.
Низко стелющийся в вечернюю пору солнечный свет, заставляющий сиять каждый дюйм на Великом Колесном Пути. Бредущий сквозь многоцветную толпу прямо по трамвайным рельсам огромный мышиной масти брахманский бык. Толпы «длинноволосых, остро пахнущих санси, несущих на спине корзины, полные ящериц и другой нечистой пищи». Нападающие с наступлением темноты на уединенные плантации свирепые аки. Взлохмаченные сикхские подвижники с диким взглядом в синей клетчатой одежде и в синих высоких конических тюрбанах. Лавки, набитые разнообразными костюмами, чалмами, деревянными Буддами, четками, разноцветными платками, шалями и кинжалами с резными ручками. Пестро разодетые, веселые, спешащие на ярмарку жители деревень, «вереница которых волновалась, точно спина торопливой гусеницы». Свадебные процессии, «сопровождаемые музыкой, криками, запахами ноготков и жасмина, еще более резкими, чем запах пыли». Бродячие фокусники «с полудрессированными обезьянами, или слабым, задыхающимся медведем, или женщиной, которая, привязав к ногам козлиные рога, плясала на канате». Продавцы воды из священного Ганга, шарлатаны, знахари, буддийские монахи, гадалки, цыгане, читатели гороскопов, мелкие чиновники, ремесленники и полковые капелланы. Младшие офицеры из английских колониальных войск, застывшие за массивным столом из мангового дерева в слабо освещенной изнутри палатке, к которой в кромешной тьме бесшумно подкрался и принюхивается к паланкину леопард. Караван-сараи, где путники, валясь от усталости, разгружают тюки и узлы, черпают из колодца воду для ужина, ухаживают за громко ржущими дикоглазыми жеребцами и опустившимися на колени верблюдами, пинают ногами угрюмых караванных собак, ругаются, кричат, спорят. Похожие на крепость железнодорожные вокзалы, где валяющиеся вповалку пассажиры третьего класса похожи на закутанные в саван трупы, а вагоны наполняют голову, как выразился старый тибетец, «грохотом дьявольских барабанов».
После «Кима» грохот индийских барабанов уже, надо полагать, не наполнял голову писателя. С Индией, где «много красоты и немало мудрости», Киплинг, написав «Кима», распрощался навсегда.
Глава тринадцатая «БОГОМ ЗАБЫТОЕ МЕСТО»
Десятилетие между войнами, Англо-бурской и Первой мировой, в жизни писателя не богато событиями, однако картина существования Киплингов в эти годы, известная нам из автобиографии самого писателя, его писем, дневника Кэрри и воспоминаний дочери Элси и домашней учительницы Элси и Джона Дороти Понтон, представляет немалый интерес – прежде всего потому, что в это время Киплинги наконец-то обрели постоянное пристанище, «дом своих мечтаний», стали полноценными англичанами, не «колониальными жителями», а сельскими сквайрами, и хотя Киплинг пошутил однажды в письме Чарльзу Элиоту Нортону, что «из всех зарубежных стран, где мне довелось побывать, Англия – самая замечательная», в эти годы «зарубежной страной» Англия быть для него перестала.
Осенью 1902 года, спустя три месяца после окончания бурской войны, Киплинги осуществляют свою давнишнюю мечту и уезжают из навевающего горькие воспоминания Роттингдина. Однажды, еще в августе 1900 года, Редьярд и Кэрри в поисках нового дома доехали на поезде (автомобиль – отечественный, не американский – в очередной раз сломался) до Этчингема, где узнали, что неподалеку от деревушки Бэруош, на берегу реки, продается поместье в тридцать три акра с каменным домом «Бейт-менз» времен короля Якова «в хорошем состоянии». Несмотря на то, что состояние дома при ближайшем рассмотрении оказалось, как это часто бывает, не совсем хорошим, дом Киплингам сразу понравился. И хотя Редьярд и Кэрри стали себя отговаривать: ни один, дескать, здравомыслящий человек не станет хоронить себя заживо в этом Богом забытом месте, они очень расстроились, когда оказалось, что, пока они раздумывали, покупать дом в Бэруоше или снимать, он был сдан и освободился лишь спустя два года.
После того как в августе 1902 года сделка наконец совершилась и «Бейтменз» за девять с половиной тысяч фунтов перешел к Киплингам, бывший владелец дома поинтересовался, как они собираются добираться до станции. «До „Бейтменза“ целых четыре мили, – пояснил он, – к тому же дорога идет в гору. Мне приходилось запрягать две пары лошадей». Когда же выяснилось, что у Киплингов есть машина, хозяин с недоверием заметил: «Автомобиль, говорите? Этот транспорт не больно-то надежен». Редьярд и Кэрри от души рассмеялись: и как только хозяин «Бейтменза» догадался, что «ланчестер», пришедший к тому времени на смену «локомобилю», вышел из строя? Спустя несколько лет продавец дома признался Киплингу, что, знай он, что Киплинг ездит на машине, да еще на «Джейн Кейкбред Ланчестер», да еще с шофером, – он запросил бы за дом вдвое больше.
Как бы то ни было, 3 сентября 1902 года, продав «Наулаху» по бросовой цене Кэботам, а мебель и прочую обстановку отдав доктору Конланду, Киплинги въехали в «Бейтменз» – дом, в котором они прожили всю оставшуюся жизнь и который в двадцатые годы стал своеобразным местом поклонения, чем-то вроде нашей Ясной Поляны. А въехав, сразу же испытали облегчение. «Мы обошли все комнаты, – вспоминает Киплинг в автобиографии, – и не обнаружили ни малейших следов былых печалей, подавленных горестей, не испытали никаких угроз». Олицетворением «былой печали» был разве что портрет маслом покойной Джозефин, который привез из проданной «Наулахи» Мэтью Ховард, а утешением – фраза из Евангелия от Иоанна, вырезанная Джоном Локвудом сыну на каминной полке: «Приходит ночь, когда никто не может делать». Предостережение отца сын воспринял буквально и по ночам не работал никогда.
Дом («самый собственный дом», с гордостью и любовью называл его Киплинг) был мрачноватым – серым, каменным, с зарешеченными окнами, обшитым изнутри темным деревом и заросший лишайником, отчего в нем всегда царил полумрак. Над дверью значилось: «1634 год от Рождества Христова». Внизу в холле в ненастные дни (то есть большую часть года) горел огромный камин. На второй этаж, где располагались спальня, гостевые и кабинет, вела старая, рассохшаяся от времени дубовая лестница. Кабинет, где писатель трудился без малого 35 лет, заслуживает описания более подробного. Это была большая квадратная комната с книжными полками до потолка и с массивным письменным столом березового дерева, под которым стояла огромная корзина для использованных бумаг, всегда полная доверху исписанными черновиками. На столешнице, по правую и левую руку стояли два больших глобуса, на одном из них знаменитый летчик сэр Джон Сэлмонд начертил однажды белой краской маршрут первого авиаперелета из Лондона в Австралию. Большую часть стола занимала приобретенная хозяином дома на Стрэнде огромная оловянная чернильница, на которой Киплинг выцарапал заглавия рассказов и книг, которые сочинил, обмакивая в нее перо – писал он тонкой серебряной перьевой ручкой и только последние годы пользовался пишущей машинкой. Бумаги и большие блокноты из голубовато-белых листов, в которых Киплинг писал и которые покупал, в какой бы части света ни оказывался, придавливались маленьким, но тяжелым гипсовым котом и кожаным крокодилом. Рядом с котом и крокодилом располагались подставка с набором курительных трубок и изящный лакированный поднос для перьев и авторучек, на нем же лежали испачканная чернилами складная линейка и всевозможные кисточки: Киплинг унаследовал от отца любовь к рисованию, живописи, любил рисовать буквы, рисовал на полях рукописей, разрисовывал книжки, театральные программки, приглашения на банкеты, рисовал фигурки к сочиненным им лимерикам.
На письменном столе отсутствовали разрезной нож для книг, разбросанных по всему дому – Киплинг относился к книгам, в том числе и к альбомам по живописи и к кулинарным пособиям, которые любил листать, без особого почтения и страницы разрывал пальцем, – а также карандаши, которые надоели писателю, еще когда он работал редактором в «Гражданской и военной газете». Стояла на столе и обтянутая холстом коробка с надписью «Заметки», где хранились незаконченные рассказы и стихи, наброски, черновики; коробку эту после смерти писателя Кэрри сожгла. Напротив письменного стола под прямым углом к небольшому камину стоял диван, на котором Киплинг часто лежал, опершись на локоть, что-то про себя сочиняя или читая, или над чем-то раздумывая. Потом вскакивал, закуривал (курил он много, по 30–40 сигарет в день), подбегал к столу и, отбивая по столешнице пальцами дробь, записывал придуманное. Лежа на этом диване, он читал детям вслух Вальтера Скотта, Джейн Остин, Теккерея. Когда же сочинял стихи, то ходил взад-вперед по комнате и что-то напевал. Иногда выходил из кабинета на лестницу и громко, требовательно звал детей или Кэрри («Нет, вы только послушайте!») и, покатываясь со смеху, громко, прекрасно поставленным голосом читал им вслух только что написанное: «Никто на свете не извлекает больше удовольствия из сочиненного мною, чем я сам».
В свое время местный викарий поселил в «Бейтмензе» своего бейлифа – церковного старосту, – и тот мирно прожил в доме сорок лет, оставив его в том же виде, в каком он был до него. Лужайка за домом сбегала уступами к забору из красного кирпича, из него же были выстроены две хмелесушилки со старой серебристо-серой голубятней на крыше одной из них. По другую сторону дома находился сад с розами – гордость миссис Кэрри Киплинг – и грушевым деревом, которым гордился посадивший его мистер Редьярд Киплинг.
За забором, у самого подножия сада, протекала узкая, мелкая речушка, которая, впрочем, весной широко разливалась, а разлившись, издавала какие-то странные всхлипывающие звуки, по поводу чего в здешних местах существовала легенда. Во времена королевы Елизаветы, гласила легенда, в единственную дочь местного плавильщика Ричарда Мойеса влюбился его работник француз Жан Крапо. Мойес о браке дочери с французом и слышать не хотел и Крапо из мастерской выгнал. Однажды ночью, когда речушка вышла из берегов, Мойес услышал за дверью шаги. Обнаружив, что комната дочери пуста, плавильщик схватил меч, бросился к реке и увидел на мосту обнимающихся влюбленных. Читатель без труда догадается, чем кончилось дело. Мойес бросился с мечом на француза, но его дочь встала между ними, приняла смертельный удар, предназначавшийся ее возлюбленному, и со стоном упала в реку, которая поэтому, выходя из берегов, с тех пор жалобно всхлипывает… Но проза жизни, как это обычно и бывает, восторжествовала над поэзией: Киплинги использовали «рыдающую речушку» для турбины, для чего соорудили плотину, направлявшую речку в мельничный канал. Соорудили конечно же не собственными руками, а с помощью жителей окрестной деревни.
На холме за лесом находилась деревушка Бэруош с одной-единственной улицей, про немногочисленных жителей которой было известно лишь, что они потомки «честных», как сказал бы Лермонтов, контрабандистов и овцекрадов. Приобщаться к цивилизации они начали лишь на протяжении трех последних поколений. Про одного из таких потомственных браконьеров и пьяниц, который посвящал Киплинга в азы своей «профессии», рассказывая о различных разновидностях браконьерства, от отравления рыбы в прудах до искусства ткать шелковые сети для ловли форели, писатель говорил, что такие люди ближе к природе, чем «целый сонм поэтов». У многих из них Киплинг обнаружил изобретательность и творческую жилку и приспособил их к работе по камню, дереву, прокладке труб и тому, что сегодня назвали бы «эстетическим оформлением участка». Брались жители деревни, естественно, и за работу не «эстетическую»: подрывали фундамент мельницы для установки турбины, проводили в доме электричество, рыли колодцы, чистили пруды, прокладывали трубы через мельничную плотину, пересаживали деревья.
В то время как мужья трудились на земле Киплингов, а в свободное время занимались контрабандой, браконьерством и пьянством, их жен властно тянуло на мистику. Киплинги – не только младшие, но и старшие, – с неподдельным интересом слушали нескончаемые истории деревенских женщин про магию, колдовство, приворотное зелье, про полуночные ритуалы с убийством черного петуха в доме местной колдуньи…
Хватало работы и самим Киплингам. Хозяин дома не только писал стихи и прозу, но сажал деревья, разводил пчел, рыл вместе с рабочими канавы. А еще, неустанно ползая по полу, играл с детьми в медведя, а позже, когда они выросли – в гражданскую войну, разыгрывал с ними «Сон в летнюю ночь», где сам исполнял роль ткача Основы, Джон подвизался в роли Пака, а Элси – Титании. И, как и в «Наулахе», принимал многочисленных гостей и соседей.