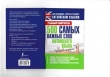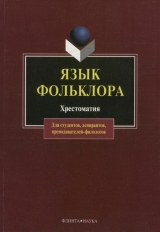
Текст книги "Язык фольклора. Хрестоматия"
Автор книги: Александр Хроленко
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В.А. Воскресенский
Об изучении отечественного языка // Семья и школа, 1879, № 1, янв., кн. II
Богатство народного языка в лексическом и формальном отношении изумительно [39].
Общее впечатление, производимое былиной, скорее приведет к мысли о бедности и формальном однообразии народного языка. Тавтология отдельных слов и целых предложений занимает особенно видное место в числе факторов, вызывающих подобное впечатление. Язык Крылова поражает, напротив, богатством и разнообразием форм. Ближайшее рассмотрение факторов представляет дело в ином виде: в былине, не считая фонетических частиц (де, то, та, ту, да), являющихся по требованию стиха, различных слов больше,чем у Крылова (в обоих случаях мы считаем и коренные и производные слова). Разнообразие форм этимологических, а следовательно и синтаксических, – так как с каждою формою связано значение в акте мысли, – значительно превосходит разнообразие языка басни… [39].
Связь и последовательность предложений в народном языке так наглядна, сознается так непосредственно, что язык почти не нуждается в союзах, В былине всего трисоюза (чтобы, и, а), в басне четырнадцать…[40].
Итак, народный язык, представляя материал богатый в лексическом и грамматическом отношении, отличается от литературного конкретностью, проистекающей из непосредственности всего народного мировоззрения [41].
Все, чего с литературной точки зрения недостает сложному и простому предложению, восполняется обилием форм отдельного слова, в которых преимущественно и выражаются особенности народного слова [41].
Фр. Миклошич
Изобразительные средства славянского эпоса // Древности. Труды славянской комиссии Московского археологического общества Т. 1. М., 1895
Каждая эпическая песня [имеет?] столько же вариантов, сколько певцов, через уста которых она прошла; песня, пока живет, находится в состоянии непрерывного созидания; она и древня, и молода в одно и то же время: древня по первоначальному зерну, так как оно восходит ко времени воспетого события, и молода в своей настоящей форме [205].
Певец не может отступить от формы песни, господствующей в его народе [206].
Народный певец не может быстро отделяться от овладевшего им представления; поэтому он несколько раз повторяет одну мысль или несколько мыслей [208].
Многие постоянные эпитеты не прибавляют никакого признака существительному [219].
Постоянный эпитет делает предмет более наглядным, указывая оживляющий его признак. Он – не простое украшение. Употребление таких эпитетов не может быть представлено произволу и не следует думать, будто певец берет, какой ему вздумается, из эпической запасной кладовой готовых выражений [220].
Два эпитета, по-видимому, не очень часто встречаются в русском эпосе [227].
Вместо сложного прилагательного притяжательного нередко являются его составные части, прилагательные и существительные: кроваточка рыбий зуб; столы дорог рыбий зуб; подворотина рыбий зуб; сапожки зелен сафьян; семь теремов златы верхи; утушка золоты крылья; тур золоты рога. При этом: кровать слоновых костей. Кирша Дан. 9. [227].
А.А. Потебня
Из записок по теории словесности. Харьков, 1905
На относительно первобытной ступени связи музыки и поэзии, напр. в русской народной песне, можно усмотреть, как музыкальный период и его части соответствуют синтаксическому; но тут же усматривается разница в средствах и целях поэзии и музыки [14–15].
По количеству частей музыкального периода можно судить о количестве синтаксических частей размера; но угадать, каковы именно будут эти последние, невозможно, ибо, напр., та же музыкальная фраза соответствует в одном случае определению и определяемому (червоная калинонька), в другом обстоятельству и подлежащему + сказуемое (там дiвчина журилася).
Невозможно точное соответствие напева и лексических значений слов песни [15].
Искусство сводит разнообразие явлений к относительно немногим символическим формам… [62].
Элементарная поэтичность языка, т. е. образность отдельных слов и постоянных сочетаний, как бы ни была она заметна, ничтожна сравнительно с способностью языков создавать образы из сочетания слов, все равно, образных или безобразных [104].
…Форма не есть нечто вполне отделимое от содержания, а относится к нему органично, как форма кристалла, растения, животного к образовавшим её процессам [108].
Мы видим у себя вытеснение народных песен высокого художественного и нравственного достоинства произведениями лакейской, солдатской и острожной музы. Мы должны предположить вместе с этим в той среде, где это происходит, понижение эстетического чутья. Но мы не видим, чтобы это было условлено свойствами самой народной поэзии и самой литературы [110].
Языки создаются тысячелетиями, и если бы, напр. в языке русского народа, письменность коего лет 900 была лишена поэзии, не было поэтических элементов, то откуда взялось бы их сосредоточение в Пушкине, Гоголе и последующих романистах? Откуда быть грозе, если в воздухе нет электричества? [116]
Положение, что цивилизация и народная поэзия противоположны и несовместимы, – ошибочно [122].
Да, это так: народ не может воспевать Венского конгресса или административных и судебных преобразований такого-то царствования; но неужели любовь или печаль и радость стали по нынешним цивилизованным временам так сложны, что воспевающая ихнародная поэзия стала вообщеневозможной? [126]
В известных произведениях народной, т. е. устной и безличной поэзии, мы должны быть готовы встретить подготовку литературных явлений; наоборот, первоначальные продукты литературы должны во многом напомнить настроение мысли, свойственное народной поэзии [1 39].
Отсюда видно нередко неизбежное и непоправимое зло того способа закрепления народно-поэтических произведений письменностью и издания в свет, при коем нам даётся лишь несколько точек движения, недостаточных для определения промежуточного пути. Для истории и теории народной поэзии необходимо возможно большее число вариантов, выхваченных из течения в возможной конкретности и точности [144].
Язык, вероятно, навсегда останется первообразом и подобием такого гуртового характера народно-поэтического творчества [144].
Лишь прозрачность языка даёт содержанию возможность действовать легко, сильно, художественно [146].
И так, и при господстве письменности нормальный рост языка есть незаметное изменение, подобно изменению образов в народной поэзии [146].
В народной поэзии, несмотря на неизвестное множество промежуточных форм, мы большею частью не можем установить разницы между вариантами и новой песней [147].
В народной поэзии, при самом первом появлении произведения в устах одного лица это произведение носит столь слабую печать индивидуальности в выборе содержания, выражений, размера, музыкального мотива, что бессознательно усвояется окружающими и бессознательно же, хотя непременно, варьируется ими в известных пределах [159].
Важность грамматической формы состоит в её функции, которая, конечно, должна иметь место прикрепления [165].
Об эпитетах
Всякое определительное, уменьшая объём и увеличивая содержание понятия, приближает это понятие к конкретности… [211].
Epitheton ornans производит не устранение из мысли видов, не заключающих в себе признака, им обозначенного, а замещение определенным образом одного из многих неопределенных. Поэтому epitheton ornans может означать признак общий всему роду, с точки зрения прозаической ясности, изменений… [211].
Если epitheton ornans означает признак видовой (resp. свойственный предмету не постоянно, а временно), то он не только не запрещает, а напротив побуждает под видом разуметь род, под временным постоянное: «а всядем братие на свои бръзыякомони, да позрим синего Дону» (Дон не всегда представляется синим). Таким образом, epitheton ornans есть троп, синекдоха (от частного к общему, от одного признака к предмету) [212].
Точка зрения синтаксическая, с которой под эпитетом разумеют только прилагательное определительное, удерживаемая в пиитике и риторике, вносит в эти учения чуждую им категорию [215].
С точки зрения пиитической к эпитетам следует отнести всякие парные сочетания слов, изображающие вещи, качества, действия их признаком… [215].
Славянские песни <…> употребляют сравнительные союзы в кратких сравнениях (усочек, як колосочек; брiвоньки тонкi, як шнурочок и т. п.); но общая грамматическая форма развитых сравнений в этих песнях есть <…> бессоюзие. Развитость сравнительных союзов в славянских языках показывает, что бессоюзие в рассматриваемом случае не есть необходимость, вынуждаемая скудостью мысли, как было некогда до образования чисто-формальных союзов во всех арийских языках, а сознательный поэтический приём. Смысл, эффект этого приёма тот, что образ в употреблении представляется не воспоминанием, а наличным впечатлением.Кроме этого, впечатление наличности и конкретности образа может установиться и другими средствами, напр. олицетворением, обращением к нему, как к лицу [277].
Лирика говорит о будущем и о прошедшем (предмете, объективном) лишь настолько, насколько оно волнует, тревожит, радует, привлекает или отталкивает. Из этого вытекают свойства лирического изображения: краткость, недосказанность, сжатость, так называемый лирический беспорядок [531].
Всякое понимание слова есть в известном смысле новое его сознание, и всякое слово, как действительный акт мысли, есть точный указатель степени развития мысли… Пусть те, впрочем умные люди, которые полагают, что наш язык недалеко ушёл от языка дикарей, и что, говоря им, мы как бы продолжаем рубить каменными топорами и с трудом добывать огонь трением <…>, будут хоть последовательны и признают, что и вообще мы недалеко ушли от дикарей. Если же последнее несправедливо, то и первое – лишь следствие недоразумения, принимающего прозрачную глубь языка, которая открывается исследователю, за близость дна [599].
А.А. Потебня
Из записок по русской грамматике. Т. 3. М.: Просвещение: 1968
Дело изменяется, как скоро изображаемые утопичными действия мысли поставить на почву языка.
Со стороны словесного выражения, в котором оставил следы действительный исторический ход мысли, суждения (т. е., между прочим, сочетание подлежащего и сказуемого, определяемого и определения) не тождесловны.
В то время (1861–1862 гг.) и до этого я, под влиянием сочинения Костомарова (Об ист. зн. р. н. п.) и отчасти Буслаева, был занят постоянными выражениями славянской народной поэзии и мог заметить, что обычные сочетания, как «брови – соболь»,«лицо – белый снег», «кременьчеловек», мр. «козаче соболю»(см. Объясн. мр. п., II, 343), «козаче хрещатий барвшку»,«дiвчина горлиця»,«уроди, боже, серебростебло, серебростебло женцев1 зерно», суть суждения вовсе не подходящие под формулу а=а.А между тем едва ли кто решится отрицать то, что подобные выражения важны в развитии мысли, ибо это образцы образного, поэтического мышления [61].
Это – то воззрение, которое доныне господствует относительно тропов и фигур вообще: сначала говорилось просто, прозаически, а потом почему-то стало говориться образно, поэтично, необычно. Это – взгляд потомка, которому свой образ мысли, своя обстановка кажутся так естественны, что уровень мысли и обычая предков он готов считать (и действительно считает, как некоторые учёные – мифы) неправильным, болезненным отклонением от этой естественности [217].
Как вообще в развитии мысли и языка образное выражение древнее безобразного и всегда предполагается им, так, в частности, понятия действия, качества суть относительно поздние отвлечения. По вышесказанному суждения аналитические, состоящие в разделении мыслимого на вещь и её качества и действия, стали возможны лишь в силу того что им предшествовали суждения синтетические, состоящие в сочетании двух равно субстанциальных комплексов. Таким образом, существительное с определительным прилагательным предполагает сочетание двух существительных, притом сочетание паратактическое, ибо подчинение одного из этих существительных другому хотя и не устраняет двойственности субстанций, но направлено к их объединению.
<…> Союз между сопоставляемыми существительными лишь в редких случаях может быть понят как выражение последовательности восприятия вещей, сопоставленных в пространстве. По-видимому, так должно было быть понято ив предполагаемом бровии соболь, очии сокол (=соболиные, сокольи), чтобы мог возникнуть гиперболический образ:
У нашей княгини души…
Со бровей соболь бежит,
Со очей сокол летит, Шейн, Рус. нар. пес, 518.
С этим ср. песенный приём, который я назвал «овеществлением образа, превращением символа в обстановку» (Объясн. малорус, пес, I и II, указатель), напр. «калина-девица», отсюда – «девица подкалиной» [218].
В разных течениях языка, иногда личных, иногда более общих, различна степень потребности этих (с точки позднейшего, преимущественно письменного гипотактического языка) плеонастических частиц, заполняющих собою пробелы мысли, В немерной речи они более бросаются в глаза, чем в мерной, (В начале стиха или полустишия эксплетивные частицы менее заметны с позднейшей точки, чем внутри полустиший: чем теснее ожидается связь, тем более поражает её нарушение.) Чем строже стихотворный размер, напр, серб, десятисложный, чем реже встречаются в нём союзы эксплетивные, напр. в серб, и,тем более выделяются и обособляются, как остатки старины, обороты кита и сватови.Наоборот, тем труднее выделить обороты кита и сватовив особый разряд, чем чаще эксплетивные союзы в случаях, например, атрибутивного сочетания существительного и прилагательного или объективного сочетания падежа с родительным принадлежности.
Такое иплеонастичное в серб, и мр. редко; но оно часто у некоторых певцов свр. былин [219].
Образец хлеб-соль.
Частное значение возводится к общему или так, что одно частное получает значение общее (напр., virtus в значении добродетели вообще, достоинства, качества: (ut)ob еа, quod una caeteris excellebat, omnes nominatae sint, Cic; защита, оборона,praesidium, propugnaculum), или так, что общее означается двумя или несколькими частными. В 1-м случае путь обобщения не указан, во 2-м обозначены посредствующие точки. Этот второй способ считается характеристичным для китайского языка, в коем, напр., нет простого слова для добродетель,но это значение выражается перечислением четырёх главных добродетелей; для значения «соседство» – сочетание: переулки – улицы – соседство – дома;для значения «расстояние» – сочетание противоположных частных: далеко – близко;также для «вес» – тяжело – легко;для «разговор» – вопрос – ответ(Steinthal, Character., 124).
Что этот способ был свойствен славянским языкам в древности, видно из немногих, но древних образцов сложения слов по способу, называемому индийскими грамматистами д вин два: братъсестра,дв. ч. муж. р.; братъсестрома,мужеженъми (Mikl., Сг. И, 378).
Већ ме боли и срце и душа
Све за тобом дан и ноћ мислећи,
Cве за тобом дан – ноћ уздишући,
ђ. Раjков., Срп. нар. пес.
СЬ сторила мила майка
Пуста сина кукавица
Да ми кукат денє ноще, Милад., 3 1 8.
Хотя эти слова значат не более чем «брат и сестра», как пара, «муж и жена», т. е. не выходят за объём, определённый их сложением, но тем не менее они обобщают входящие в них частные (как несложное geschwister), рассматривая их как одно и располагая приписывать этим частным, как совокупности, лишь общие признаки.
В устной словесности, а отчасти и просторечии довольно часты не сложения, как выше, а сближения грамматически самостоятельных слов, указывающие, как думаю, на то, что некогда и наши языки широко пользовались приёмом обобщения, подобным китайскому.
а) Образец отец-мать(= родители). Частные различны по значению, но не противоположны и не устраняют друг друга в мысли: отец-мать =«отец имать» с точки зрения общих им свойств и действий, в силу чего сказуемое и определительные, согласованные a potiori с муж. р., стоят в един. ч. отец-матьмолодца у себя во любви держал;у чужеваотца-матери, Чулк. (Бусл., Ист. гр., § 240, пр. 12).
В мр. Та не знае отец-мати, яка в мене гадка, Голов., II, 254; Нам отець-мати позволяли,Зап. о Ю. Р., 1,29;
Втець-мати не знали. Голов., II, 402; Отця-маткуштнть и поважати, Зап. о Ю.Р., I, 31 [415].
Двандвав прилагательных: древо тонковысоко, Шейн, Рус. нар. пес. 389; Через Дона досочка тонка гибка лежала, ib. 403 (Колядка); бела румяна.
Хлеб-соль,a potiori – людская пища. Атрибут в един, согласуем с муж. р. «моего хлеба-соли», или с жен., если 1-е слово неизменно: моей хлеб-соли, моей хлеб-солью (Бусл., Ист. гр., § 240, пр. 12). Мр. хлiба соли спокойно вживати. Зап. о Ю.Р., 1, 20; Не усе один коку хлiб-сiль бог дае, що пану, що усякому чоловшу? Квит., Ш. Л. (П, 254).
Род-племя– вообще родственники: и весьрод-племя отрекалися, Чулк. (Бусл., Ист. гр., § 240, пр. И), причём сказуемое во множ. могло бы стоять при каждом из сложенных слов как при собирательном. Это сочетание не трудно различимых синонимов, как рать-сила(как у Бусл., 1 с), а слов различных по значению, ибо род– ближайшие, племя– дальнейшие родственники: Которого ты рода, коего племени? Кир., 1, 91. Так и в серб. Кажи ми се, moj сужань невольни, Од кога си родаи племена,Н. Беговип, С.н.п., 1, 52.
Бой-грабежъ:похвалился на монастырскихъ служекъ … боемъ-грабежемъи смертнымъ убивствомъ, Шуйск. ак., 1697 (Бусл., Ист. гр., § 240, пр. 2). Это не атрибутивное сочетание, как трава-ковыль, ворон-птица(как у Бусл., 1. с), а сочетание равно частных: бой(битье без смертоубийства) и грабежъ(насилие над личностью и имуществом).
Его лук-колчанпо бедрам бьется, Кир., III, 100. На столах питья-кушаньяпоплескалися, Кир., IV, 26 (то и другое безразлично, причём из сказуемого видно, что кушанья разумеются жидкие). Один смур кафтан на мне во сто рублей. Кушачок-колпачок(= остальная одежда) во тысячу, А стрел колчан во две тысячи, Кир., 1, 26-7. Князья-бояре собиралися, Кир., 1, 56 (= князья и бояре, ib. 58); Собирал всех князей-бояр и сильных могучих богатырей, Кир, 1, 63; Собиралися князья-бояры, Сильные могучие богатыри и вся поленица удалая, Кир, 1, 66; На многие князи и бояра, Кир, П, 18 (Кирша Дан,), 67 et passum. Все луга-болотавода поняла, Шейн, Рус. нар. пес, 340. Во лесах было во дремучих. Что брала-то девка грибы-ягоды,ib. 341. Пышка-лепешка(что-нибудь в этом роде) в печи сидела, на нас глядела, ib. 370. Кишки-желудкив печи сидят, ib. 371.
Пыль-туман
Ой не пыль в поле запылилася,
Не туман с моря подымается:
Подымалися гуси-лебеди, Кохановская, Неск.р.п., 65.
Пыль-пыль по дорожке,
Туман-туман по дубровке,
Да по этой-то дорожке,
Да по этой-то широкой, [416].
Андреян-сударь едет, Шейн, Рус. нар. пес, 412.
Не пили-тумани вставали,
Икав повчок малий невеличок, Ант. и Драг., 1, 113.
Daj-ћeћ wam Boћe – szcziskоe – zdorowie, Kolberg
Pokucie, I, 97, 98.
Мр. Будут до нei куми-побратиминаiжджати, M., 355 (те и другие, безразлично = знакомые, приятели). У чистому полi поховайте, звiру-птищ на поталу не подайте, Ант. и Драг., 1, 114, 128. Дае коню овса-сiн а(= оброку), Козаченьку меду-вина,М., 74; Та добреж Toбi, пане, мед-винокружати, А меш вороному у кола стояти, 4 yб.,V, 871. Перед дiвчиною напитки-наiдки,М., 95. Був ти менi кормилцем-поi лцем,Манжура. Сказки. Ты-ж було сир-сметанупии, а менi сироватки даси, то я iм-iм та ще и напъюся (плаче зять по тещi), Манжура.
Срi бро-злато,деньги, богатство (часто): есть у тебе, сину, срiбла-злата много (s. вм. срибла золотого), купи coбi, сину, коня вороного, Чуб., V, 868.
Рута-мъята,оба растения с одинаковым символическим значением девства и пр.: Ой чому ти рути-мъяти не полеш? Чуб., IV, 70; По садочку хожу я, хожу, руту-мъяту сажу я, сажу, Рута та мъята тай не принялася, Чуб., V, 506.
Зажурилися гори-й-долини,
Що не зродили жито-пшеницю,
Ино зродили виноградонько, Колядки, passim.
Ср. болг.: със свой эжь и пий, ама ззманіє-даваніє не прави, Пам. и Обр., 390 (= серб.: али кашта не мщеъа], не MHJeinaj).
Изредка тот же приём и в других частях речи: Шенк. «торопись, доделывай криво-прямо(так и так, как-нибудь) да и полно», Подвысоц., Словарь. Сюда же мр. так-сяк,как-нибудь. Ох ти сякий-такий!(неопределенная замена различных ругательных слов). Як жив-здоровбудеш, Ант. и Драг., 1, 115. Костян-деревъянчерез гору свині гнав (загадка: гребень). Возьмить мене постріляйте-порубайте,И звіру та птиці на поталу не подайте, Ант. и Драг., 1, 107; орда … моіх братів догонила, Стріляла-рубала,А може живих у полон займала, ib. 130. Ср.: чи моіх братів постреляно, чи іх порубано, чи іх живих у руки забрано, ib. 131. 3-е частное значение: ой вишию вималюю на славу рукавця, М., 21, 20.
(Си одключи шарена ковчега, И си собра малу-многуазно, Мила д., 308. В другом смысле (ни мало ни много?): Що п`рви кяръ (добыча) тіе кяросале? К`де идетъ отъ царя улефе, Малу-многутриста м`ски (мулов) азно, «Си-то си 'и въ ц`рковь навраті'е, Милад., 334; неясно ib.318 (що во мене сЬ к`лнете малу-многу жими Дойка).) [417].
б) Образец калина-малина, красная смородина.Между тем как в случае а) обобщение значения вытекает из отношения соединительного (то и то), здесь – из разделительного: или то, или другое, но нечто в том же роде. В народной поэзии нередки сопоставления слов и оборотов, которые, будучи поняты в смысле атрибутивном, дают contradictionem in adjecto и заставляют предположить в певце большую глупость или большое невежество. Однако невозможно предположить, чтобы здравомыслящий человек не знал разницы между общеизвестными вещами или, зная её, называл известное растение в одно и то же время и калиной, и малиной, и смородиной. Остаётся думать, что сопоставление несовместимых частностей не есть нарушение логического закона, а способ обозначения понятия высшего порядка, способ обобщения, нередко – идеализация в смысле изображения предмета такого рода (напр., дерева, кустарника), но необычайного, чудесного, прекрасного. Ср. Grau, teurer freund, ist alle theorie und дгьп des lebens goldner baum (Gцthе, F), или Хлестаков: «под сень струй». В моем сочинении «Объяснения мр. п.», П, 795 (указатель) этот приём назван сочетанием синонимов,но это неверно, ибо сочетание весьма различимых частных «калина-малина» отлично от таких, как путь-дорога.
Так: И поехал Константинушка ко городу Угличу.
…Спрашивает себе сопротивника…
А Углицки мужики (т. е. угличане) были лукавые,
Город Углич крепко заперли,
И взбегали на стену белокаменну,
Сами они его обманывают:
«Гой еси удалой доброй молодец!
«Поезжай ты под стену белокаменну;
«А и нету у нас царяв орде, короляв Литве,
«Мы тебя поставим царёмв орду, королёмв Литву».
Кирша Дан., Кир., III, 121.
Буквальный смысл образа, именно, что город Углич или княжество Углицкое есть и Орда и Литва, а владетель его есть царь в Орде и король в Литве, – нелепость; но значение его – мы поставим тебя правителемнашего государства,ибо царь-король =государь, правитель, орда-Литва =государство. Выражение «король в Литве» (он же и «король Ляховинский», Кир, Ш, 58) могло возникнуть лишь после 1386 г., т. е. после избрания Ягайла на королевство польское. Т. о., в следующей серб, песне цар-краль– одно лицо, царевина-кральевина– одно царство: Расти, расти, чедо Moje iobo, Да би ли ми до коньа дораст'о, Да отмемо цару царевину Исветломе кралу кральевину: Царевина – твoja очевина, Кралевина – твоja дедовина, Б. М., Срп. н.п. у Срему, 7, Цару икралу hendiadys [418].
(В болгарской песне) мать припевает сыну в колыбели:
Нани ми нани, сине богоец!
Ти да му зе'иш на краль – от кральство,
Ти да му зе'иш на цар – от царство,
Да му седниш кралю на столнина,
Да му седниш цару на царщина, Милад., 96.
…Посылает меня (Добрыню) солнышко
Солнышко Владимир князь да столен киевский
Во ту да в матушку (в) каменну Москву,
Во каменну Москву да вхоробру Литву
За той меня (за) данью (да) за почлиной, Гильф., Был., 579,
т. е. не в Москву ив Литву, а в (соседнее) государство, или «в такое-то» государство. Но так как нужно назвать как-нибудь определенно владетеля этого государства, то вслед за таким обобщением (Москва-Литва = государство) появляется частное «король храбро-литский» как синекдоха:
Да и поехали ко матушке к каменной Москвы,
К каменной Москвы к хороброй Литвы,
Ко тому ли королю храбро-литскому…
…Приезжают они в хоробру Литву,Гильф., Был., 587.
Это так, как когда после неопределённого числа (два-три) ставится определённое (три), о чём см. ниже. Отдалённая богатаяродина Дюка обозначается так:
А во той было Индеюшкибогатый
Да во той было Корелыво проклятый,
А был молодой боярин Дюк Степанович, Гильф., Был., 78,
и в той же былине многократно: 80, 82 (4 раза) и пр., причём, как выше, неопределённое и общее «Индея-Корела» заменяется определённым, синекдохическим «Индея»:
Я похвастал знать Индеей да богатою,
Да похвастал я Корелой да проклятою;
У нас было во Индеиво богатый, и пр., ib. 82-3.
А подходят под Индею под богатую,
А подходят под Корелу под проклятую,
Думали: «Индеяперепаласи».
Ажио их Индеяне спугаласи, ib. 85.
Во ихной во Индеив богатоей,
Во ихной во Корелыво проклятоей
Во ихной во деревеньки во Галичи
Отходили от заутренье от раннею, ib. 122, [419],
т. е. в отдаленной богатой стороне, в городе (иронически названном деревенькою) Галиче.
Сочетание богатойИндии и Корелы основано на том, что и Корела– богатая:
Из-за моря, моря синего,
Из славна Волынца – красна Галичья,
Из той Корелы богатыя…
Выезжал удача добрый молодец,
Молодой Дюк, сын Степановичь, Кирша Дан.,
Кир., Ш, 101; ср. ib, 81.
Из-за моря, моря синего,
Из-за Синегоморя, из-за Черного
Подымался Батый царь, Кир., IV, 38,
т. е. если Синееморе принято в значении собственном (Хвалынское), то = из-за моря вообще.
Между Кум-реки между Тереку
Между тех было трёх Кумских отножинок,
Объясн. мр. п., П, 319 (= река вообще).
Таким образом, неопределенная даль, служащая исходною точкою мысли певца, может быть обозначена или чем-либо одним:
Из-за гор было высокшх, Кир., III, 100;
Из-за моря, моря синего, ib. 101.
Из-за лесу, лесу темного, н. п.,
или перечислением многих несовместимых предметов:
Из-под дуба, дуба было сырого
Из-под вяза, вяза с-под черленого,
Из-под кустышка да с-под ракитова,
С-под ты березы с-под кудрявыя,
Из-под камешка было из-под белого
Пала-выпадала мать Непра-река, Гильф., Был., 172.
Как с-под еланичку да с-под березничку
Да с-под частого молодого с-под олешничку
Выходил каликушка немаленький, ib. 584,
т. е. не из-под елового, березового иольхового лесу, а «из-под лесу» (вообще, ибо не рассмотришь вдали, какой он),
Из-за лесу, лесу темного,
Из-за садику зеленого
Выходила туча грозная, Шейн, Рус. нар. пес, 343.
… родила, Во сыром бору хоронила Что под белою (под) березой, Дапод горькою (под) осиной, Шейн, Рус. нар. пес, 403, т. е. не под березой иосиной, а под деревом вообще, причём [420] упоминание горькойосины имеет символическое значение: горе горькое.
Ох далече, ох далече во чистом поле,
А еще того подале во раздодьице
Выбегало тут стадечко звериное,
Что звериное, звериное-змеиное,
Наперед то выбегает Скипер-зверь, Кир., П, П, 2.
Стадо звериное-змеиное,потому что (в другом варианте) «Скимен-зверь» – «зашипела, вор-собака, по змеиному», ib. 1.
Из-за гор было высокиих
Не ясен соколтут вылетывал,
Молодой кречеттут выпархивал;
Выезжал тут добрый молодец, ib. Ш, 100,
т. е. не сокол-кречет,а …
Есть у меня (да) ещё бурушка,
Есть у меня (да) коурушка,
Трех годов жеребушечка, ib. Ш, 2.
(бури коурмасти различные, см. Даль, Словарь; ещё менее совместимы масти сказочного коня: «сивка-бурка, вещая коурка»).
И я золотохороню, Чисто сереброхороню, Я у батюшки в терему, Я у матушки в высоком (т. е. не золотои серебро,а безразлично – «дорогой перстень»).
Пал-пал перстень В калину-в малину,В черную смородину,
Шейн, Рус. нар. пес, 373;
Калинушка-малинушка – лазоревый цвет;
Веселая беседушка, где миленький пьёт,
Шейн, Рус. нар. пес, 396.
См. также Объясн. мр. п., П, 344.
(Как чужая-то жена – лебедь белая моя,
А своя шельма жена – полынь горькая трава,
Полынь горькая трава, стрекучая крапива,
Шейн. Рус. нар. пес, 353.
Вспоить-вскормить, Кир., Ш, 14.
Я идете на стара планина, Донесете ледове-снягове,Да и'турим на клето-то сурце… (чтобы испытать, умерла ли?), Милад., 100. На поезд напали «Татари цурни Арапи», Милад., 320)
А я млада младешенька замешкалася
За утками, за гусями, за лебедями,
За вольную за пташечкой за журушкой,
Шейн, Рус. нар. пес, 396 [421]
(не перечисление, а идеализация, как и часто в вр. и мр. песнях гуси-лебеди,в мр. песне: Ой утята (гуся-та) – лебедяталетять до кринищ).
(Как журушка по бережку похаживала)
Шелковую лист-травушкузащипывала, ib. 396
Уж ты ель моя елушка, зеленая сосенушка!
Все ли на тебе сучки веточки? Шейн, ib. 457, 451.
Грушица ты грушицамоя, Груш и ца зеленый винограде.Под грушицей светлица стоит…, Шейн, Рус. нар. пес, 163.
Груша-яблоньсадовая – кора золотая (Объясн. мр. п., П, 462; чудесное дерево колядки).
Бр. Гапулька … Ситы-рашотыдоставала, Мамкину волю рассивала, Шейн, Бр. п., 470. Седлаю (я) … Синца-воронцасам свойго, Шейн, Матер., I, ч. П, 53, А ци яго сивцы-воронцыпристали, ib.l, ч. П, 63.
Мр, В колядке хозяйка посылает слуг поймать «дивноє звiрє тура-оленя» (Объясн. мр. п., II, 325, 337). Так как одни колядки говорят о чёрном (в вр, было гнедом), а другие о сивом олене, та я предполагаю (1.с.), что обобщение «тур-олень» возникло из взаимодействия этих колядок. Подобным образом в серб. одни песни называют чудесное дерево (о коем см. мои Объясн. мр. п., П, гл. XV et pass.) бором(сосною), другие явором,третьи яблоней,и это объясняет появление сложения и обобщения в: Oj jaвope,зелен боре!Диван ти си род родио: На двʼjе гране двʼjе j абуке …(Объясн. мр. п., П, 311). Мр. тур-оленьмогло бы появиться в колядке, и помимо упомянутого сложения из соединительного сочетания, какое в вр. былине Кирша Дан. (Кир., IV, 79):
Они соболи, куницы повыловили …
Туры, олени(по) выстреля(= и)ли …
т. е. и туров, и оленей. Так, я думаю вр. змея-скоропея (Майк., Вр. закл., 486 et pass.), как одно, возникло из змея искоропея (= скорпий; серб, змиjе иjaкрепи), атаманы-молодцы– наверно из атаманыи молодцы(т. е. старшина и молодь козацкая, чернь). Но в мр. песнях соединительное сочетание тур-оленьне встретилось.
Что до того, будто мр. тур-оленьесть заимствование из непонятного болг. сур iєлен (Cумцов, Культурн. переживания, 5, 10), то оно и не нужно при существовании в мр. песнях памяти о туре и об олене и, как предположение фантастическое, маловероятное.
А в Римi, в Римi, в Єрусалимi…
Божоя мати; в полозi лежить, Г., П, 11, 42,
т. е. в городе, с коим связана мысль о чем-то священном (стр. 422).
Турки-татари,Г., IV, 44; Дунай-море,ib. 44 et pass. Болг. вишни-черешни,Мил., 348.