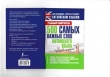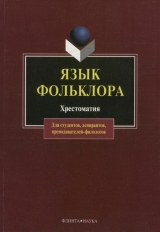
Текст книги "Язык фольклора. Хрестоматия"
Автор книги: Александр Хроленко
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Е.В. Барсов
Причитания Северного края, собранные Е.В. Барсовым. Ч. 1. М., 1872
Похоронные плачи в настоящее время представляют единственный род произведений, в которых продолжает жить и сказываться народное, поэтическое творчество. <…> Отсюда само собою понятно значение «Плачей» и в науке о языке. Если важны здесь древние выражения и эпическое построение речи, то не менее драгоценны для науки и те разнообразные видоизменения и сочетания, какие может принимать русское слово, то под влиянием народного творчества, то по требованию местных говоров. Кроме древних выражений и оборотов, указанных нами во Введении, особенности языка издаваемых Плачей относятся: 1. к произношению, 2. словообразованию, 3. словоизменению и наконец 4. к словосочинению [XXII].
I
Произношение
Многие слова и выражения являются здесь своеобразными, единственно, от того, что под влиянием местного говора гласные и согласные буквы легко переходят в них одна в другую [XXII].
II
Словообразование
Не особенности только местных говоров отражаются в плачах; здесь мы встречаемся со множеством таких имён и глаголов, которые обращают на себя внимание особенностями своего образования: народное творчество не только свободно пользуется готовым запасом оборотов и выражений обыденной речи, но, под влиянием известного образа, для точного, единобытного его очертания легко создаёт новые слова или словам обдержным даёт новую форму [XXIV–XXV].
Но самую главную особенность глаголов, встречающихся здесь, составляет то, что большая часть ихобразована с надставкою предлогов. Эти предлоги, превращая глагольные виды и залоги, вместе с тем служат к более или менее наглядному изображению степени и силы действия. К одному и тому же глаголу иногда наставляется несколько предлогов [XXVI].
III
Словоизменение
В отношении изменения слов в наших причитаниях прежде всего бросается в глаза то, что имена существительные, прилагательные и наречия постоянно превращаются в уменьшительную и сравнительную форму. Областное наречие, удаленное от центров цивилизации, естественно, сохраняет в своей первобытности выражения родственных и приязненных отношений в семье и обществе [XXVII].
IV
Словосочинение
В описательных оборотах количественные числительные употребляются в неопределенном значении:
Он не гордой был, свет, да разговорной,
Столько що ста был, свет, да с целой тысящи
(201, 102, 105)
Допускается нередко фигура повторения:
Богодана буде матушка,
Не желанна, не ласкова,
Не ласкова, не упадчива (71, 41–43).
Стоит тюрма заключевная,
Заключевная тюрма, подземельная (89, 18–19) [XXXII].
Для большей определительности предмета к одному и тому же существительному прилагается несколько прилагательных:
Во победном, сиротскоем живленьице.
Во бобыльной, во сиротской живу жирушке (12, 16–17).
Нередко соединяются два синонимические выражения: путь-дороженька, пора-времечко (14, 56), шутки-шмоночки (280, 33). Ещё чаще соединяются выражения одного и того же корня: единым единешенька (37, 21), молодым молодешенек (71, 36), тиха тишинка (143, 50), глядеть да углядывать (270, 84), трудным трудиться (293, 7), далеким далекошенька (270, 84).
Одно и то же наречие качественное для усиления степени качества повторяется в двух тождественных предложениях; сравните – в одном – в положительной степени, в другом – в страдательной, например:
Жаль тошнешенько мне братца сдвуродимаго,
Потошние соколочка златокрылаго (194, 4–5) [XXXIII].
П.В. Евстафиев
Древняя русская литература. Вып. 1 // Устная народная словесность. СПб., 1877
Язык былинвсегда простой, тот самый, который ежедневно употребляется народом. В складе речи не видно того, что в литературных произведениях называется слогом,т. е. тою, или другою оригинальною манерою выражения, настолько отличною манерою, что по ней часто можно узнать автора. Былинный язык всегда одинаков, даже если сравнить старинные былины с другими сравнительно новейшего происхождения. Одинаковость слога как в старых, так и в новых былинах объясняется тем, что былины сохраняются в памяти народа, а не в письме, передаются в живой речи, а не в книге, следовательно – при переходе рассказов от поколения к поколению, из местности в местность, слова, выражения и приёмы устаревшие не удерживаются, а заменяются теми, которые принадлежат живой речи последнего поколения. При сравнении с языком литературным язык народных былин естественно отличается многими словами и выражениями не литературными, а чисто простонародными (современными или старинными) [31].
Язык и тон русских народных сказок.И язык, и тон народных сказок имеют все те же качества, какими отличаются другие поэтические произведения народного эпоса. Хотя сказки в прозе, но язык живописен, т. е. всякий предмет и всякое явление рисуется в сказке сообразно с впечатлениями, производимыми ими на душу человека. С внешней стороны язык русских народных сказок представляет те или другие отличия по наречиям: сказки великорусские, малорусские, белорусские. Но эти отличия незначительны, они не мешают всякому русскому человеку понимать их. Тон народных сказок, вообще говоря, отличается таким же светлым спокойствием, как и тон народных былин. В частности же, и язык, и тон народных сказок бывают различны, смотря по тому, принадлежат ли сказки к более древним или к более новым. Наиболее чистым, поэтическим языком и наиболее ровным тоном отличаются сказки древнейшего происхождения, мифического содержания [59].
Кроме тона, лирические песни отличаются от прочих народных песен тем, что представляют наибольшее развитие характеристических особенностей языка народной поэзии. В лирических песнях более, нежели в остальных, язык замечателен нежностью, задушевностью и образным выражением мыслей и чувств. Различные душевные состояния рисуются при помощи красивых и притом совершенно невычурных уподоблений, взятых прямо из природы. Солнце красное, сокол ясный, белая лебедь, кукушечка, травушка-муравушка, ласточка-касаточка и т. п. служат очень удачными способами сразу провести в душу то или другое впечатление человека и его душевных настроений. Постоянные эпитетыи изобилие ласкательных и уменьшительных слов, чем вообще отличается язык народной поэзии, в лирических песнях встречаются в особенном изобилии [78].
С. Шафранов
О складе народно-русской песенной речи, рассматриваемой в связи с напевами. СПб., 1879
В народно-русских песнях оба творчества, музыкальное и поэтическое, действуют с совершенною свободою, не стесняя себя взаимными ограничениями; любой слог текста, при распевании, может быть протянут, сколько то требуется напевом, а в произношении, отдельном от напева, каждый слог произносится снова как в обыкновенной речи [39].
…Главною заботою творца нашей народной песни <…> было не дать напеву заслонить собою текст, а напротив, усилить средствами напева впечатление речи, содействуя тому и различными своеобразными риторическими способами [40].
…В параллелизме,свойственном народно-русской песенной речи почти в такой же мере, как и в библейской, г, Олесницкий не хочет видеть своеобразной поэтической формы, которою, по нашему мнению, существенно отличается от версификаций просодических, движущихся в ритмических оковах (количественной и тонической), версификация стилистическая,основывающаяся на особенностях слога и на своеобразном поступальном движении речи [108–109].
Народно-русский песнеслагатель идёт почти обратным путём: напев творится в душе его под исключительным наитием чувства, следовательно, по одному содержанию речи, в полной независимости от звуковой стороны,и уже самая речь прилаживается напеву, вполне подчиняясь ему, но подчиняясь только при пении. Здесь гласная, в обиходной речи неударяемая, и следовательно, произносимая коротко, может быть выполняема протяжно, и наоборот, гласная ударяемая, и следовательно, произносимая протяжно, может быть пропета короткою нотою [130].
Склад народно-русской песенной речи объясняется самою сущностию двусоставной природы песни, как произведения музыкального и вместе с тем поэтического, в котором и музыка, и речь, сливаясь в дружном действии на слушателя, не стесняют себя взаимно, а сохраняют каждая свою свободу и свои средства [131].
Народно-русский песенный склад речи мы неоднократно уже называли стилистическим,желая тем указать на его отличие от версификаций просодических,и название это само собою оправдается при подробном разборе особенностей песенной речи; собственно же песенный склад речи, как русский, так и всякий другой, всего бы приличнее прямо назвать поэтическим,потому что именно поэтичностью, и только ею одною, ему и следует отличаться от прозы, от склада обиходной речи [137],
…Форма народно-песенной речи есть форма стилистическая,заключающаяся в соразмерении предложения с напевом, в соглашении состава речи с составом мелодии [160].
Приступая к изложению стилистических особенностей народно-русской поэтической речи, мы должны начать с главнейшей из них – с песенных повторений…[164].
…Между тем песенные повторения в устной народной поэзии составляют одну из существенных её форм, и если их выпустить из текста тех песен, в которых они в пении выполняются, то песенные стихи утратят отличительное свойство своей песенности – не могут быть пропеты по данной мелодии [165].
…Возникнув ради удовлетворения стилистической потребности речи, именно для поддержания её вразумительности, форма повторения получила потом более обширное применение, в качестве фигуры усиления речи. Далее увидим, что форма эта стала наконец употребляться уже для одного украшения речи, когда песнеслагатель-певец, как бы любуясь удавшимся выражением своего чувства, повторяет его, как говорится, на все лады,то есть выполняя разными мотивами той же мелодии. Но и помимо того, разного рода повторения речи, задерживающие её течение, доставляют чувству возможность высказаться исподволь,а вместе с тем, как уже выше замечено, задерживают внимание слушателя, не допускают его скользить мыслию по содержанию песни, а заставляют принять в нём участие, вглядеться в каждый песенный образ, продумать каждую мысль певца, прочувствовать каждое его чувство [202–203].
…Форма повторения есть столь излюбленная форма песенного изложения, что в некоторых песнях не ограничивается удвоенным музыкальным выполнением отдельных слов, фраз, колен и стихов, но доходит до повторения самой песни всей целиком, от начала до конца, с изменением только нескольких слов, и даже до двукратного, троекратного и т. д. повторения [204].
Переходим к рассмотрению параллелизма,другой поэтической формы, которою наша народная песенная речь, почти не менее, чем древнееврейская, отличается от склада всех поэзии просодических. Говоря о параллелизме, не следует упускать из виду, что это есть стилистическая форма речи и к ритму, к которому её многие относят, не имеет никакого отношения [207].
Итак, параллелизм, как и повторения, не суть излишние и праздные украшения речи, а возникли из потребности, как это вообще можно сказать об украшениях и во всех других искусствах: начало красоты – потребность, и если не всё, необходимое для разумного существа, прекрасно, то всё прекрасное – необходимо [208].
И.А. Бодуэн де Куртене
Отзыв о сочинении на тему «О языке русских былин» // Известия и учёные записки Казанского ун-та. Казань, 1879, январь-февраль
Случаи, характеристические для языка былин, не всегда поставлены на первом плане, и представляемая автором картина этого языка во многих местах является недостаточно рельефного. Общерусские особенности смешиваются иногда с былинными. А так как не во всех былинах один язык, то, при более тщательном исследовании языка былин, следовало бы разделить его особенности по диалектическим категориям, по говорам и их видоизменениям, пожалуй, даже по личным, индивидуальным оттенкам. В особенности в «Памятниках и образцах», изданных П-м Отделением Императорской Академии наук, есть былины, по свойственному им языку, весьма различного характера [340].
В.А. Воскресенский
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 2, кн. II
Одну из важнейших особенностей народного языка представляет тавтология (тождесловие). Она обнимает или отдельные слова, или целые предложения [97].
В обоих случаях тавтология представляет: 1) неизменное повторение одного и того же слова или нескольких слов, одного и того же предложения или нескольких предложений; 2) повторение одного и того же корня, входящего в образование различных членов предложения или главных членов двух предложений – главного и придаточного;3) соединение подобозначащих слов (синонимов) или предложений.Тавтологию первого рода назовём повторением,второго – тождесловием,третьего – подобословием[97–98].
Устранив повторение предлогов, <…> мы внесём туманность и неопределенность в отношения между членами предложения и уничтожим связанную с описанием картинность представления…
Повторение служебных слов, отчасти обусловливаемое и песенным складом былины, служит для более точного выражения отношений между членами предложения…
…Флексии в народном языке не выработались до определенности, свойственной языку литературному, и для народного ума недостаточно ясно выражают управление и согласование членов предложения; порядок последних, важный в литературной речи, в народной не представляет правильности, помогающей усвоению содержания, – по всему этому релятивные (служебные) части речи приобретают в народном языке большую важность, чем в языке литературном: они являются существенно необходимыми дополнениями личных, родовых и падежных окончаний…
Повторение знаменательных слов <…>, равносильное логическому ударениюлитературной речи, сосредоточивает внимание слушателя на понятии, представляющем особенную важность в ряду других членов предложения [99].
Итак, уважение к преданию,сочувствие к любимым образам и картинам, родственно связанным с народным миросозерцанием, пассивность восприятия и передачи,чувство меры, поддерживаемое напевом, – все это взятое достаточно объясняет естественность и необходимость дословного повторения(тавтологии) частиц и отдельных слов, предложений и целых картин [102–103].
…Не только два сказителя поют неодинаковую одну и ту же былину, несмотря на то что один из них усвоил былину от другого или оба от третьего, но и один и тот же сказитель во второй раз поет несколько иначе, чем в первый; вообще говоря, даже лучший певец не пропоет былины из ноты в ноту одинаково двух раз кряду [103].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1897, № 3, кн. II
(Тождесловие. – А.Х.)не касаясь суффиксов, выражается в повторении корня, образующего различные члены в одном и том же или двух различных предложениях…[183].
Тавтологию корней… нельзя считать первоначальным явлением в языке; она могла возникнуть только тогда, когда первоначальное понятие расширилось, обняло больший круг явлений и приняло в свое содержание новые признаки, затуманившие и отодвинувшие на задний план тот первоначально главный, корень которого вошел в образование слова [184].
Тавтология, присоединяя признак (определение), утраченный предметом, восстанавливает в последнем то живое впечатление, которое коренится в названии предмета [184–185].
Подобословие есть соединение синонимов,т. е. различныхслов, выражающих сходные понятия(дань – пошлина, зелыцица – кореныцица) [187].
…Стосковался – сгоревался– одно душевное состояние, не получившее в сознании народа такой определенности, при которой одно обозначение не допускало бы другого…
Материальное развитие языка выражается, во-первых, в стремлении к точнейшему определениюсодержания понятия, то есть к ограничению или такому расширению, при котором исчерпывались бы все признаки данного понятия, и, во-вторых, в создании слов для новых, возникших в сознании народа понятий [189].
Тавтологию можно назвать отрицательнымвыражением анализа, подобословие – положительным:в первом случае указывается на появление нового оттенка в представлении, во втором – новый оттенок находит выражение в слове (синоним). Отрицательная работа должна предшествовать положительной: тавтологию (слов и корней) следует считать особенностью более древней, чем подобословие…
…Синонимическое соединение обнимает внешние и внутренние (субъективные и объективные) признаки представления, односторонне выражаемого каждым из синонимов, отдельно взятым [190].
В двучленной тавтологии нельзя не заметить стремления соединить внутренние признаки представления… с внешними… В трехчленной – рядом с такими является третье, более общее и до некоторой степени соединяющее особенности первых…
Особенное богатство народного языка проявляется в четырехчленной тавтологии:
Закатилося сугревное-меженное-теплое, красное солнышко.(Г. 580) [191].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 4, кн. II
Сжатое предложение, образовавшееся вследствие опущения каких-либо членов предложения или союзов, называется эллиптическим,или, короче, эллипсисом…
Если связь и последовательность мыслей ясна сама собою, как это обыкновенно и бывает в безыскусственном языке, необходимость в союзе исчезает: он опускается, речь становится короче, выражение ее – сильнее [273].
Отсутствие союзов в народном языке объясняется простотою и однообразием отношений между представлениями [274].
Тавтология и сравнение принадлежат песенному и былевому языку; описание и эллипсис – языку, как органу мысли вообще. Первые связаны с художественными требованиями, зависят от характера содержания и касаются изложения;последние – с логическими, или, правильнее, с логико-психическими, обусловливаются характером мышления и касаются выражениямысли…
Сжатость в литературной речи – искусственная, в народной – естественная форма представления отношений, пока еще не подвергнувшихся рассудочному анализу [275].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 5, кн. II
Определение обыкновенно выражает существенное или высшее качество предмета…
Эпитеты тесно связаны с идеальными воззрениями народа, являются важнейшей, если не единственной, формою последних…
Неподвижность и неизменность определений указывает на устойчивость и неизменность народных идеалов [349].
Тури золотыерога – два сосуществующие факта: представление первого вызывает представление второго, без всякой мысли о их формальной зависимости. Эпитет златорогий (108 Ай же тур да златорогий.Г. 28) указывает на дальнейшую работу мысли: самостоятельность представления, выраженного приложением, должна утратиться; оно уже мыслится не само по себе, а как данное в другом представлении и без него значения не имеющее [351].
Иногда из именительного является совершенно своеобразная прилагательная форма:
Ты бери-тко земли да сыро-матерой.Г, 820 (Ср. Матьсыраземля).
Прилагательный эпитет (сыра), отделившись от своего определяемого (земля), обратился в составную часть прилагательного относительного, образовавшегося из существительного эпитета (сыро-матерой) [353].
…Слияние (типа купець – жена, стольне – киевской, окиянь – море. – А.Х.),соединяя в одно целое близкие представления, возбуждает более сильное, хотя и менее определенное значение [354].
Эпитеты создают особый, замкнутый в себе, мир, не легко поддающийся влияниям живой действительности [355].
Шаткость эпитетов и их непостоянство указывают на упадок народной поэзии, на ослабление в ней народного, безличного, начала, на большее участие индивидуального… [355].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 9, кн. II
Идеальные представления, выразившиеся главным образом в эпитетах, окончательно дорисовываются уменьшительными и увеличительными формами…[138].
…Суффикс, внося большую определенность в представление, низводит его на степень видового понятия по отношению к его первообразному…
Глагольные приставки в данных случаях внешне соответствуют суффиксам уменьшительных: они ослабляютдействие, смягчаютего губные формы:
По целой версты конь поскакивал,
По колен в земелюшку угрязывал,
Он с земелюшки ножки выхватывал(Г. 507).
Иногда и существительные, кроме суффиксов, принимают обычные в глаголах приставки… – победуш-ка… [140].
Особенности русского народного языка // Семья и школа, 1879, № 10, кн. II
Особенности миросозерцания, ума и чувства народа в изобразительном языке его находят полное и своеобразное выражение. Самое тщательное изучение культурных форм народной жизни не дает нам ясного представления о характере народа, если мы не научимся понимать его живое слово: изучение народного слова должно быть первым шагом к изучению народного духа [227].