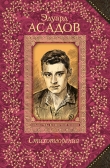Стихотворения. Четыре десятилетия
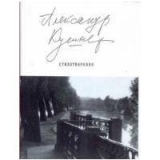
Текст книги "Стихотворения. Четыре десятилетия"
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Бог, на плечи ягненка взвалив,
По две ножки взял в каждую руку.
Он-то вечен, всегда будет жив,
Он овечью не чувствует муку.
Жизнь овечья подходит к концу.
Может быть, пострижет и отпустит?
Как ребенка, несет он овцу
В архаичном своем захолустье.
А ягненок не может постичь,
У него на плече полулежа,
Почему ему волны не стричь?
Ведь они завиваются тоже.
Жаль овечек, барашков, ягнят,
Их глаза наливаются болью.
Но и жертва, как нам объяснят
В нашем веке, свыкается с ролью.
Как плывут облака налегке!
И дымок, как из шерсти, из ваты.
И припала бы к Божьей руке,
Да все ножки четыре зажаты.
Почему одежды так темны и фантастичны?..
Почему одежды так темны и фантастичны?
Что случилось? Кто сошел с ума?
То библейский плащ, то шлем. И вовсе неприличны
Серьги при такой тоске в глазах или чалма!
Из какого сундука, уж не из этого ли, в тщетных
Обручах и украшеньях накладных?
Или все века, художник, относительны, – и, бедных,
Нас то в тогу наряжают, то мы в кофтах шерстяных?
Не из той ли жаркой тьмы приводят за руку в накидке,
Жгучих розах, говорят: твоя жена.
Ненадежны наши жизни, нерасчетливы попытки
Задержаться: день подточен, ночь темна.
Лишь в глазах у нас все те же красноватые прожилки
Разветвляются; слезой заволокло.
Ждет автобус отступающихся в луже на развилке
С ношей горестной; ступают тяжело.
И в кафтане доблесть доблестью и болью боль останутся,
И в потертом темном пиджаке;
Навсегда простясь, обнять потянутся
И, повиснув, плачут на руке.
Камни кидают мальчишки философу в сад…
Камни кидают мальчишки философу в сад.
Он обращался в полицию – там лишь разводят руками.
Холодно. С Балтики рваные тучи летят
И притворяются над головой облаками.
Дом восьмикомнатный, в два этажа; на весь дом
Кашляет Лампе, слуга, серебро протирая
Тряпкой, а все потому, что не носом он дышит, а ртом
В этой пыли; ничему не научишь лентяя.
Флоксы белеют; не спустишься в собственный сад,
Чтобы вдохнуть их мучительно-сладостный запах.
Бог – это то, что не в силах пресечь камнепад,
В каплях блестит, в шелестенье живет и в накрапах.
То есть его, говоря осмотрительно, нет
В онтологическом, самом существенном смысле.
Бог – совершенство, но где совершенство? Предмет
Спора подмочен, и капли на листьях повисли.
Старому Лампе об этом не скажешь, бедняк
В Боге нуждается, чистя то плащ, то накидку.
Бог – это то, что, наверное, выйдя во мрак
Наших дверей, возвращается утром в калитку.
Кавказской в следующей жизни быть пчелой…
Кавказской в следующей жизни быть пчелой,
Жить в сладком домике под синею скалой,
Там липы душные, там глянцевые кроны,
Не надышался я тем воздухом, шальной
Не насладился я речной водой зеленой.
Она так вспенена, а воздух так душист!
И ходит, слушая веселый птичий свист,
Огромный пасечник в широкополой шляпе,
И сетка серая свисает, как батист,
Кавказской быть пчелой, все узелки ослабив.
Пускай жизнь прежняя забудется, сухим
Пленившись воздухом, летать путем слепым,
Вверяясь запахам томительным, роскошным.
Пчелой кавказской быть, и только горький дым,
Когда окуривают пчел, повеет прошлым.
Бессмертие – это когда за столом разговор…
Л. Дубшану
Бессмертие – это когда за столом разговор
О ком-то заводят, и строчкой его дорожат,
И жалость лелеют, и жаркий шевелят позор,
И ложечкой чайной притушенный ад ворошат.
Из пепла вставай, перепачканный в саже, служи
Примером, все письма и все дневники раскрывай.
Так вот она, слава, земное бессмертье души,
Заставленный рюмками, скатертный, вышитый рай.
Не помнят, на сколько застегнут ты пуговиц был,
На пять из шести? Так расстегивай с дрожью все шесть.
А ежели что-то с трудом кое-как позабыл –
Напомнят, – на то документы архивные есть.
Как бабочка, ты на приветный огонь залетел.
Синеют ли губы на страшном нестрашном суде?
Затем ли писал по утрам и того ли хотел?
Не лучше ли тем, кто в ночной растворен темноте?
Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа…
Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа
Могли себя найти на прустовской странице
Средь вымышленных лиц, где сложная канва
Еще одной петлей пленяет, – и смутиться
Той славы и молвы, что дали им на вход
В запутанный роман пожизненное право,
Как если б о себе подслушать пенье вод
И трав, расчесанных налево и направо.
Представьте: кто-нибудь из них сидел, курил,
Читал четвертый том и думал отложить – и
Как если б вдруг о нем в саду заговорил
Боярышник в цвету иль в туче небожитель.
О музыка, звучи! Танцовщик, раскружи
Свой вылепленный торс, о, живопись, не гасни!
Как весело снуют парижские стрижи!
Что путаней судьбы, что смерти безопасней?
Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой…
Вот статуя в бронзе, отлитая по восковой
Модели, которой прообразом гипсовый слепок
Служил – с беломраморной, римской, отрытой в одной
Из вилл рядом с Тиволи, долго она под землей
Лежала, и сон ее был безмятежен и крепок.
А может быть, снился ей эллинский оригинал,
До нас не дошедший… Мы копию с копии сняли.
О ряд превращений! О бронзовый идол! Металл
Твой зелен и пасмурен. Я, вспоминая, устал,
А ты? Еще помнишь о веке другом, матерьяле?
Ты все еще помнишь… А я, вспоминая, устал.
Мне видится детство, трамвай на Большом, инвалиды,
И в голосе диктора помню особый металл,
И помню, кем был я, и явственно слишком – кем стал,
Все счастье, все горе, весь стыд, всю любовь, все обиды.
Забыть бы хоть что-нибудь! Я ведь не прежний, не тот.
К тому отношения вовсе уже не имею.
О, сколько слоев на мне, сколько эпох, – и берет
Судьба меня в руки, и снова скоблит, и скребет,
И плавит, и лепит, и даже чуть-чуть бронзовею.
Поэзия – явление иной…
Поэзия – явление иной,
Прекрасной жизни где-то по соседству
С привычной нам, земной.
Присмотримся же к призрачному средству
Попасть туда, попробуем прочесть
Стихотворенье с тем расчетом,
Чтобы почувствовать: и правда, что-то есть
За тем трехсложником, за этим поворотом.
Вот рай, пропитанный звучаньем и тоской,
Не рай, так подступы к нему, периферия
Той дивной местности, той почвы колдовской,
Где сердцу пятая откроется стихия.
Там дуб поет.
Там море с пеною, а кажется, что с пеньем
Крадется к берегу, там жизнь, как звук, растет,
А смерть отогнана, с глухим поползновеньем.
В полуплаще, одна из аонид…
В полуплаще, одна из аонид –
Иль это платье так на ней сидит? –
В полуплюще, и лавр по ней змеится,
«Я – чистая условность, – говорит, –
И нет меня», – и на диван садится.
Ей нравится, во-первых, телефон:
Не позвонить ли, думает, подружке?
И вид в окне, и Смольнинский район,
И тополей кипящие верхушки.
Каким я древним делом занят! Что ж
Все вслушиваюсь, как бы поновее
Сказать о том, как этот мир хорош?
И плох, и чужд, и нет его роднее!
А дева к уху трубку поднесла
И диск вращает пальчиком отбитым.
Верти, верти. Не меньше в мире зла,
Чем было в нем, когда в него внесла
Ты дивный плач по храбрым и убитым.
Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как
Сказать нельзя – на том конце цепочки
Нас не простят укутанный во мрак
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,
Расслышать нас встающий на носочки.
В Италию я не поехал так же…
В Италию я не поехал так же,
Как за два года до того меня
Во Францию, подумав, не пустили,
Поскольку провокации возможны,
И в Англию поехали другие
Писатели. Италия, прощай!
Ты снилась мне, Венеция, по Джеймсу,
Завернутая в летнюю жару,
С клочком земли, засаженным цветами,
И полуразвалившимся жильем,
Каналами изрезанная сплошь.
Ты снилась мне, Венеция, по Манну,
С мертвеющим на пляже Ашенбахом
И смертью, образ мальчика принявшей.
С каналами? С каналами, мой друг.
Подмочены мои анкеты; где-то
Не то сказал; мои знакомства что-то
Не так чисты, чтоб не бросалось это
В глаза кому-то; трудная работа
У комитета. Башня в древней Пизе
Без нас благополучно упадет.
Достану с полки блоковские письма:
Флоренция, Милан, девятый год.
Италия ему внушила чувства,
Которые не вытащишь на свет:
Прогнило все. Он любит лишь искусство,
Детей и смерть. России ж вовсе нет
И не было. И вообще Россия —
Лирическая лишь величина.
Товарищ Блок, писать такие письма,
В такое время, маме, накануне
Таких событий… Вам и невдомек,
В какой стране прекрасной вы живете!
Каких еще нам надо объяснений
Неотразимых, в случае отказа:
Из-за таких, как вы, теперь на Запад
Я не пускал бы сам таких, как мы.
Италия, прощай!
В воображенье
Ты еще лучше: многое теряет
Предмет любви в глазах от приближенья
К нему; пусть он, как облако, пленяет
На горизонте; близость ненадежна
И разрушает образ, и убого
Осуществленье. То, что невозможно,
Внушает страсть. Италия, прости!
Я не увижу знаменитой башни,
Что, в сущности, такая же потеря,
Как не увидеть знаменитой Федры.
А в Магадан не хочешь? Не хочу.
Я в Вырицу поеду, там в тенечке,
Такой сквозняк, и перелески щедры
На лютики, подснежники, листочки,
Которыми я рану залечу.
А те, кто был в Италии, кого
Туда пустили, смотрят виновато,
Стыдясь сказать с решительностью Фета:
«Италия, ты сердцу солгала».
Иль говорят застенчиво, какие
На перекрестках топчутся красотки.
Иль вспоминают стены Колизея
И Перуджино… эти хуже всех.
Есть и такие: охают полгода
Или вздыхают – толку не добиться.
Спрошу: «Ну что Италия?» – «Как сон».
А снам чужим завидовать нельзя.
Горячая зима! Пахучая! Живая!..
Горячая зима! Пахучая! Живая!
Слепит густым снежком, колючим, как в лесу,
Притихший Летний сад и площадь засыпая,
Мильоны знойных звезд лелея на весу.
Как долго мы ее боялись, избегали,
Как гостя из Уфы, хотели б отменить,
А гость блестящ и щедр, и так, как он, едва ли
Нас кто-нибудь еще сумеет ободрить.
Теперь бредем вдвоем, а третья – с нами рядом
То змейкой прошуршит, то вдруг, как махаон,
Расшитым рукавом, распахнутым халатом
Махнет у самых глаз, – волшебный, чудный сон!
Вот видишь, не страшны снега, в их цельнокройных
Одеждах, может быть, все страхи таковы!
От лучших летних дней есть что-то, самых знойных,
В морозных облаках январской синевы.
Запомни этот день, на всякий горький случай.
Так зиму не любить! Так радоваться ей!
Пищащий снег, живой, бормочущий, скрипучий!
Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей.
На самом деле, мысль, как гость…
На самом деле, мысль, как гость,
Заходит редко, чаще – с нами
Тоска, усталость, радость, злость
Иль безразличие. Часами,
Нет, не часами, – днями! – тьма
Забот, рассеянье, обрывки
Фраз, вне сознанья и ума,
Заставки больше, перебивки.
Вцепился куст в земную пядь,
И сучья черные кривы…
Нельзя же мыслями назвать
Все эти паузы, наплывы…
Зато какое торжество,
Блаженный миг неотразимый,
Когда – заждались мы его! –
Гость входит чудный, нелюдимый.
Как мы в уме своем уверены…
Как мы уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона
Не устремимся, злонамеренны,
Безвольно, страстно, исступленно,
Нарочно, нехотя, рассеянно,
Полусознательно, случайно…
Кем нам уверенность навеяна
В себе, извечна, изначальна?
Что отделяет от безумия
Ум, кроме поручней непрочных?
Без них не выдержит и мумия
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белою
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью – что я делаю? –
Последний, сладкий страх глотая.
Без этой краски, приливающей…
Без этой краски, приливающей
К лицу, без судороги подкожной
Кому нужна душа, без тающей
Улыбки нежной, осторожной?
Мысль, только мысль? Но мысль – и та еще,
Как знать, представится ль возможной?
Ей, мысли, нужно раздражение,
Телесный нужен отголосок,
Она мертва без отношения,
Без жил, прожилок и железок.
Ей тоже важно наваждение
Сосновых смол и свежих досок.
Сердцебиение, дыхание,
Мысль дремлет без их учащенья.
Среди безвкусного питания
Она так любит угощенье
Объемом, запах, осязанье.
О, сшибка чувств и мыслей сутолока –
Над смертью легкий мост висячий!
Древесный средь земного сумрака
Глядит во тьму глазок незрячий.
Душа есть смех, есть плач, есть судорога,
Есть вздох, и нет ее иначе.
Смысл жизни – в жизни, в ней самой…
Смысл жизни – в жизни, в ней самой.
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.
Лет двадцать пять должно пройти.
Душа, цепляясь по пути
За все, что высилось и висло,
Цвело и никло, дорасти
Сумеет, нехотя, до смысла.
А горы, то их нет, то вот они опять…
А горы, то их нет, то вот они опять,
Курчавые, пришли, с подробностями всеми!
Кто складки им сумел шерстистые придать
И тучку поселить меж ними, как в эдеме?
Надолго ли? На час, покуда воздух свеж.
Останьтесь! – говорим. Но скучно им в низине.
И зной пугает их, и ты им надоешь,
И море, и шоссе, и яблоки в корзине.
Нет, нет, я их боюсь, мне этой высоты
Не выдержать, письма в разводах и нажимах.
Их тайнопись темна; зачем же хочешь ты,
Чтоб я на них смотрел, безлюдных, нелюдимых?
Другое дело – холм, предшествовавший им,
Раскинувшийся так безвольно у подножья.
Вот кто доволен всем: и морем раздвижным,
И стекловидным сном, и воздухом, и дрожью.
А горы, постояв, уходят, крутизну
Убрав свою с небес и луч на ней раскосый,
И разве что намек полдневный на луну
Субстанцией своей похож на них, белесый.
МИКЕЛАНДЖЕЛО
Ватикана создатель всех лучше сказал: «Пустяки»,
Если жизнь нам так нравится, смерть нам понравится тоже,
Как изделье того же ваятеля»… Ветер с реки
Залетает, и воздух покрылся гусиною кожей.
Растрепались кусты… Я представил, что нас провели
В мастерскую, где дивную мы увидали скульптуру.
Но не хуже и та, что стоит под брезентом вдали
И еще не готова… Апрельского утра фактуру,
Блеск его и зернистость нам, может быть, дали затем,
Чтобы мастеру мы и во всем остальном доверяли.
Эта стать, эта мощь, этот низко надвинутый шлем…
Ах, наверное, будет не хуже в конце, чем в начале.
БЕЛЫЕ СТИХИ
Не я поклонник белого стиха.
Поэзия нуждается в преградах,
Препятствиях, барьера – превзойти
Наш замысел ей помогает рифма:
Прыжок – и мы в кусты перемахнули
И пролетели через ров с водой.
Что губит белый стих? Один и тот же
Мотивчик: вспоминается то «Вновь
Я посетил», то «Моцарт и Сальери».
Открытие берется напрокат,
Как рюмочки иль свадебный сервиз,
Весь в трещинах, перебывав во многих
Неловких и трясущихся руках.
И если то, что я сейчас пишу,
Читается с трудом, то по причине,
Изложенной здесь, уверяю вас.
Хотя, конечно, два-три виртуоза
Сумели так разнообразить этот
Узор своим необщим речевым
Особенным изгибом, что не вспомнить
Никак нельзя такое, например:
«Раз вы уехали, казалось нужным
Мне жить, как подобает здесь в разлуке:
Немного скучно и гигиенично».
А все-таки и здесь повествованье
Живет за счет души и волшебства.
В туманный день лицейской годовщины
Я приглашен был школой-интернатом
На выступленье в садике лицейском
У памятника. Школьники читали
Стихи, перевирая их. Затем
Учительница: «Представляю слово, –
Сказала, – ленинградскому поэту, –
Так и сказала громко: представляю, –
Он нам своих два-три стихотворенья
Прочтет», – что я и сделал, не смутясь.
По-видимому, школьники ни слова
Не поняли. Но бронзовый поэт,
Казалось, слушал. Так и быть должно,
Тем более что все стихи всегда –
Про что-то непонятное, не станет
Нормальный человек писать стихи.
«Друзья мои, прекрасен наш союз»? –
Еще понятно; все, что дальше, – дико:
«Он как душа неразделим и вечен».
И как это? «Под сенью дружных муз»?
Когда б не Александр Сергеич, в ссылке
Томившийся, погибший на дуэли,
Перечивший царю и Бенкендорфу,
Никто бы нас не звал на торжества…
Подписанную затолкав путевку
В карман нагрудный, я побрел к вокзалу
В задумчивости, разговор ведя
Таинственный… не то кивок в ответ,
Не то пожатье бронзовой десницы…
И только тут увидел лип и кленов
Сплошную, как в больнице, наготу.
И только тут подобие волненья
Почувствовал или намек на смысл.
Стоял на тихой улочке, на самом
Ее углу – прелестный, с мезонином,
Старинный домик, явно подновленный,
Ухоженный, с доской мемориальной.
Так вот он, дом Китаевой! Так вот
Где парочка счастливая, но втайне
На гибель обреченная, жила
В холерном 31-ом… Я вошел,
Купил билет… Безлюдье и сверканье.
Как царский камердинер был бы этим
Роскошеством приятно удивлен!
Дом никогда таким нарядным не был.
Но, впрочем, мебель сборная, картинки
На стенах, текст, составленный тактично,
Меня никто, ничто не задевало,
Вот только полукруглая одна
Верандочка, стеклянная игрушка,
Построенная для игры в лото
И чтенья вслух, скрипучая, сквозная,
Непрочная, верандочка, залог
Другой какой-то, невозможной жизни,
Кусочек рая, выступ, выход, – как
Его искал потом он, – неприметный,
Такой простой, засыпанный сухими
Сережками, стручками, – не нашел!
Все гудел этот шмель, все висел у земли на краю…
Все гудел этот шмель, все висел у земли на краю,
Улетать не хотел, рыжеватый, ко мне прицепился,
Как полковник на пляже, всю жизнь рассказавший свою
За двенадцать минут; впрочем, я бы и в три уложился.
Немигающий зной и волны жутковатый оскал.
При безветрии полном такие прыжки и накаты!
Он в писательский дом по горящей путевке попал
И скучал в нем, и шмель к простыне прилипал полосатой.
О Москве. О жене. Почему-то еще Иссык-Куль
Раза три вспоминал, как бинокль потерял на турбазе.
Захоти о себе рассказать я, не знаю, смогу ль,
Никогда не умел, закруглялся на первой же фразе.
Ну, лети, и пыльцы на руке моей, кажется, нет.
Одиночество в райских приморских краях нестерпимо.
Два-три горьких признанья да несколько точных замет –
Вот и все, да струя голубого табачного дыма.
Биография, что это? Яркого моря лоскут?
Заблудившийся шмель? Или памяти старой запасы?
Что сказать мне ему? Потерпи, не печалься, вернут,
Пыль стерев рукавом, твой военный билет синеглазый.
ДОЖДЬ
Я помню дождь и помню, как мы спали
Под шум дождя; в раю, увы, едва ли
Бывает дождь; дожди у нас везде
Идут весной; я вспомню о дожде.
Я вспомню, как он в окна наши бился,
Какой мне сон тогда счастливый снился,
Как просыпался я – и на моей
Руке дремала ты, как воробей.
Как он ходил, как бегал он по жести!
Как нам жилось легко и чудно вместе!
Смешливый дождь, рыдающий взахлеб!
Всемирный нам не страшен был потоп.
Кто виноват, что выпал век суровый?
Я вспомню дождь, весенний дождь кленовый
И тополиный, клейкий, в золотых
Разводах, дождь – усладу для живых.
Блаженный дождь; в аду, увы, едва ли
Бывает дождь; куда бы ни попали
Мы после смерти, будет как зимой:
Звук отменен, завален тишиной.
Засыпан вечным снегом или зноем.
Я вспомню дождь с его звучащим строем,
Высоким, струнным, влажным, затяжным
И милосердным, выстраданным им.
Если бы жить, никого не любя…
Если бы жить, никого не любя!
Плащ – товарищ, другого – не надо.
Он от ветра укроет тебя,
Прорезиненной тканью скрипя,
От дождя и пытливого взгляда.
Тот свободен, кто так одинок.
Что ему телефонный звонок?
Он как хвост не трясется овечий.
Сто дверей перед ним, сто дорог,
Вавилонская башня наречий.
Где я? Кто меня сделал таким, –
Страх за ближнего, дрожь и смятенье, –
Суеверным, пугливым, как дым,
По пригоркам ползущий ночным,
Обвивающий сны и виденья?
Боже мой! Никого не любить!
Мостовыми крутыми бродить.
Не равны ли все вещи на свете?
Подвернувшийся куст теребить:
Что кудряшки, что веточки эти.
Но душа моя в рабстве своем
С каждым часом теплей, с каждым днем,
С каждой болью сердечной и страхом.
И когда-нибудь станет огнем,
И сгорит, и взовьется над прахом!
Вот счастье – с тобой говорить, говорить, говорить…
Вот счастье – с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость – весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!
До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться
В заставленной комнате с креслом и круглым столом.
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.
Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли бы заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться
С заветного счета. О, радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное, наговориться!
За тысячи лет золотого молчанья, за весь
Дожизненный опыт, пока нас держали во мраке.
Цветочки на скатерти – вот что мне нравится здесь.
О Тютчевской неге. О дивной полуденной влаге.
О вилле, ты помнишь, как двое порог перешли
В стихах его римских, спугнув вековую истому?
О стуже. О корке заснеженной бедной земли,
Которую любим, ревнуя к небесному дому.
Смотри: речной валун как бы в сплошном дыму…
Смотри: речной валун как бы в сплошном дыму,
Белесом, голубом, слоеном, золотистом –
То тени мелких волн проходят по нему,
Как будто на него набросив бахрому,
Так чудно отразясь на сумрачном, зернистом.
На все это смотреть так больно одному!
Я обернусь к тебе и за руку возьму.
Что было – грубый холст, то стало вдруг батистом.
Тебя я не отдам! На свете этом мглистом
Мне страшно без тебя, текучем, каменистом,
Дымящемся в лучах, сползающих во тьму.
Страх и трепет, страх и трепет, страх…
Страх и трепет, страх и трепет, страх
За того, кто дорог нам и мил.
Странно жить, с улыбкой на устах,
Среди белых, среди темных крыл.
С самой жаркой, кровной стороны,
Уязвимо-близкой, дорогой –
Как мы жалки, не защищены,
Что за счастье, вечный страх какой!
Кто б ты ни был, знаешь, как я груб,
Толстокож, привычен ко всему,
Как хочу почувствовать за дуб, –
Не за плющ, что вьется по нему.
Но средь сучьев, листьев и ветвей,
Потакая гибкому плющу,
Не в своей я власти, а в твоей,
Весь в твоей, ты видишь, трепещу!
И задобрить пробую беду,
И, пугаясь тени, как во сне,
Сам ищу в потемках руку ту,
Что из мрака тянется ко мне.