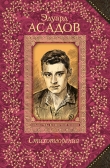Стихотворения. Четыре десятилетия
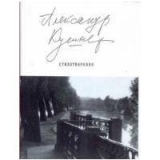
Текст книги "Стихотворения. Четыре десятилетия"
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Что за радость – в обнимку с волной,
Что за счастье – уткнувшись в кипящую гриву густую,
Этот дивный изгиб то одной обвивая рукой,
То над ним занося позлащенную солнцем другую,
Что радость лежать,
Что за счастье – ничком, в развороченной влаге покатой,
Эту вогнутость глады, готовую выпуклой стать,
Без единой морщины, и скомканной тут же, и смятой!
Он еще это вспомнит, зарывшийся в воду пловец,
Эта влажная прелесть пройдет у него перед взором
Нежной ночью, построившей свой мотыльковый дворец
С поцелуями и разговором,
Он поймет, почему так шумит и томится волна,
И на берег ночной набегает,
И на что она ропщет и сетует так, не видна
В темноте, и камнями скрипит, и песок загребает.
Морская тварь, трепЕща на песке…
Морская тварь, трепЕща на песке,
В конвульсиях, сверкала и мертвела,
И капелька на каждом волоске
Дрожала… Кто ей дал такое тело
Граненое, – спросить хотелось мне, –
Скульптурное, хоть ставь сейчас на полку?
Баюкать сокровенное на дне,
Во тьме его лелеять втихомолку!
Мерещился мне чуть ли не укор.
Все таинства темны и целокупны.
Готический припомнил я собор,
Те статуи, что взгляду недоступны.
Ремонтные леса нужны, чтоб влезть
Знаток сумел к ним, сумрачным, однажды.
Достаточно того, что это есть.
А ты б хотел, чтоб видел это каждый?
Где воздух, где вода? – все стало белым паром…
Где воздух, где вода? – все стало белым паром,
Сверкает и дрожит, – и лодочка, мой друг,
С гребцом, сидящим в ней, подвешена недаром
На удочку его, кривую, как на крюк.
Я больше ничему не удивляюсь. Море
Спроси его, само не знает, где оно.
Ты тоже о себе в счастливом разговоре
Не помнишь: все в другом, как соль, растворено.
Мы в яркой этой мгле, мы в мареве молочном
Затеряны. Смотри, как воздух влаге рад,
Каким он зыбким стал, трепещущим, проточным,
Сверкающим, парным, надев ее наряд.
Так было в первый день, счастливый день творенья,
А все, что с давней той поры произошло, –
Лишь трепет, лишь надрыв, лишь горечь разлученья,
Прощанье каждый раз и – в этом смысле – зло.
Из моря вытащив, поджаривают мидий…
Из моря вытащив, поджаривают мидий,
В их створках каменных, на медленном огне.
Я есть не буду их. Мне жаль, что я их видел.
А море блеклое лежит как бы во сне,
Как бы сомлевшее, наполовину паром
Став, небо выпито, и цвет отдав ему.
Подростки угольным пугая взгляд загаром,
Сидят на корточках в волосяном дыму.
Быть может, обморок за сон я принял? Вялый
Пульс еле дышащей волны неразличим.
Дымок цепляется за ломкий, обветшалый
Тростник и прядкою сухой висит за ним.
Уйдем! Останемся! Я толком сам не знаю,
Чего мне хочется… Сквозь чувство тошноты
И этот, вытекший, я, мнится, понимаю
Мир, и мертвею с ним, и нет меж нас черты.
Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный…
Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный,
Как сбрасывает он, обвисшую кору,
Сухой, неосторожный!
Для запахов никак я слов не подберу.
А в знойной вышине как будто десять шапок,
Так зеленью кустистой он накрыт.
Не память, не любовь, всего сильнее запах,
Который ускользнуть навеки норовит.
Вот то, чему и впрямь на свете нет названья.
Нельзя определить, понять через другой,
Сравнить… вот вещь в себе… молчит воспоминанье,
Воображенье спит… напрасен оклик твой.
Не отзовется тот, кто терпким, вездесущим,
Когда под ним стоишь, склонялся, обступал.
Он там, вдали от нас, прекрасен и запущен,
Как бы волшебный круг сплошной образовал,
Магический… зато когда-нибудь, хоть в жизни
Совсем другой, вернись под пышный свод –
И он тебе вручит и нынешние мысли,
И знойный этот день в сохранности вернет.
ДВОРЕЦ
В этих креслах никто никогда не сидел,
На диванах никто не лежал,
Не вершил за столом государственных дел,
Малахитовый столбик в руках не вертел
И в шкатулке наборной бумаг не держал;
Этот пышный, в тяжелых кистях, балдахин
Не свисал никогда ни над чьей головой,
Этот шелк и муслин,
Этот желто-зеленый, лиловый прибой;
Это Рим, это Греция, это Париж,
В прихотливо-капризный построившись ряд,
Это дивная цепь полуциркульных ниш,
Переходов, колонн, галерей, анфилад,
Этот Бренна ковровый, узорный, лепной,
Изумрудный, фиалковый, белый, как мел,
Камерона слегка потеснивший собой,
Воронихин продолжил, что он не успел, –
Это невыносимо.
Способность души
Это выдержать, видимо, слишком мала,
Друг на друга в тиши,
Чуть затихнут шаги и придвинется мгла,
Смотрят вазы, подсвечники и зеркала.
Здесь, как облако, гипсовый идол в углу;
Здесь настольный светильник, привыкнув к столу,
Наступил на узор, раззолоченный сплошь,
Так с ним слившись, что, кажется, не отдерешь.
Есть у вещи особое свойство – светясь
Иль дымясь, намекать на длину и объем.
Я не вещи люблю, а предметную связь
С этим миром, в котором живем.
И потом, если нам удалось бы узор
Разгадать и понять, почему
Он способен так властно притягивать взор,
Может быть, мы счастливей бы стали с тех пор,
Ближе к тайне, укрытой во тьму.
Эти залы для призраков, это почти
Итальянская вилла, затерянный рай,
Затопили дожди,
Завалили снега, невозможно зайти,
Не шепнув остающейся жизни: прощай!
Рукотворный элизий с расчетом на то,
Чтобы, взглядом смущенным скользнув по нему,
Проходили гуськом; в этой спальне никто
Не лежал в розовато-кисейном дыму.
А хозяева этих небес на земле,
Этих солнечных люстр, этих звездчатых чаш
Жили ниже и, кажется, в правом крыле.
Золочено-вощеный предметный мираж!
Все же был поцелован однажды среди
Этих мраморных снов я тайком, на ходу.
Мы бродили по залам и сбились с пути.
Я хотел бы найти,
Умерев, ту развилку, паркетину ту.
Это чудо на фоне январских снегов,
Афродита, Эрот и лепной виноград,
Этот обморок, матовость круглых белков,
Эта смесь всех цветов, и щедрот, и веков,
А в зеркальном окне – снегопад,
Эти музы, забредшие так далеко,
Что дорогу метель замела,
Ледяное, сухое, как сыпь, молоко,
Голубая защита стекла, –
В этом столько же смелости, риска, тоски
Или дикости, – как посмотреть, –
Сколько в жизни, что ждет, потирая виски,
Не начну ль вспоминать и жалеть
Об исчезнувшей.
Нет, столько зим, столько лет,
И забылось, и руку разжал.
И потом, разве снег за окном поредел?
И к тому ж в этих креслах никто не сидел
И в шкатулке бумаг не держал.
Тарелку мыл под быстрою струей…
Тарелку мыл под быстрою струей
И все отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды, – одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей…
Смыть, смыть, стереть, добраться до бела,
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.
Но выяснилось: желто-голубой
Цветочек неделим и несмываем.
Ты ж просто недоволен сам собой,
Поэтому и мгла стоит за краем
Тоски, за срезом дней, за ободком,
Под пальцами приподнято-волнистым…
Поэзия, следи за пустяком,
Сперва за пустяком, потом за смыслом.
Есть вещи: ножницы, очки, зонты, ключи…
Есть вещи: ножницы, очки, зонты, ключи…
Полумистическое их существованье
Ввергает в оторопь… попробуй отучи
От уклоненья их, ущерба, прозябанья.
Всегда отсутствуют, когда они нужны.
Где был ты, градусник, когда тебя искали?
Иль там, за пологом, сильней, чем мы, больны –
И ты поэтом не усидел в пенале?
Что делать с ножичком? Советовали нам
Цветную ленточку подвесить к ножке стула,
Чтоб сила некая, гуляя по ногам,
В пыли, нечистая, пропажу нам вернула.
Я, впрочем, связи тут не вижу никакой.
Но знают женщины здесь больше, чем мужчины:
В обмен на ленточку получишь ножик свой.
Причем здесь логика, кому нужны причины?
Вещами ведает какой-то младший дух,
Положит в тумбочку и трижды перепрячет,
Бубнит и шастает, жалеет он старух,
С детьми считается и умников дурачит.
Откуда пыли столько в доме?..
Откуда пыли столько в доме?
Как юношеский пушок.
На телефоне, на альбоме.
Откуда иней и снежок, –
Мы твердо знаем. Пыль откуда?
О, еженощный, мягкий слой!
Какое женственное чудо,
Мучитель вкрадчивый какой!
Вдоль полок палец по привычке
Скользит во власти забытья.
Как хорошо лежат частички,
Таинственного бытия,
Реснички, ниточки, ворсинки…
Как нежен хаос, волокнист!
Как страхи все видны, заминки
Того, кто на руку нечист.
Нужней солдата и героя
Хозяйка, женщина, жена.
Ты видишь: жизнь была б, как Троя,
Давным-давно погребена,
Забыта, в эпос легендарный
Глубоко спрятана, когда б
Не вечный труд неблагодарный.
Опять сильнее тот, кто слаб.
РАЗВЕРНУТЫЙ УЗОР
1
Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон…
Сам собой этот перечень лег в стихотворную строчку.
О, какой безобразный, какой соблазнительный сон!
Поиграй, поверти, подержи на руке, как цепочку.
Ни порвать, ни разбить, ни местами нельзя поменять.
Выходили из сумрака именно в этом порядке,
Словно лишь для того, чтобы лучше улечься в тетрадь,
Волосок к волоску и лепные волнистые складки.
Вот теперь наконец я запомню их всех наизусть.
Я диван обогнул, я к столу прикоснулся и к стулу.
На таком расстоянье и я никого не боюсь.
Ни навету меня не достать, ни хуле, ни посулу.
Преимущество наше огромно, в две тысячи лет.
Чем его заслужил я, – никто мне не скажет, не знаю.
Свой мир предо мной развернул свой узор, свой сюжет,
И я пальцем веду по нему и вперед забегаю.
2. ПЕРЕД СТАТУЕЙ
В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая вода.
Только год он и царствовал, бедный,
Подозрительный… здесь досаждают ему холода,
Лист тяжелый дубовый на голову падает, медный.
Кончик пальца в застойной воде я смочил дождевой
И подумал: еще заражусь от него неудачей.
Нет уж, лучше подальше держаться от этой кривой,
Обреченной гримасы и шеи бычачьей.
Что такое бессмертие, память, удачливость, власть –
Можно было обдумать в соседстве с обшарпанным бюстом.
Словно мелкую снасть
Натянули на камень – наложены трещинки густо.
Оказаться в суровой, размытой дождями стране,
Где и собственных цесарей помнят едва ли…
В самом страшном своем, в самом невразумительном сне
Не увидеть себя на покрытом снежком пьедестале.
Был приплюснут твой нос, был ты жалок и одутловат,
Эти две-три черты не на вечность рассчитаны были,
А на несколько лет, но глядят, и глядят, и глядят.
Счастлив тот, кого сразу забыли.
3
Перевалив через Альпы, варварский городок
Проезжал захолустный, бревна да глина.
Кто-то сказал с усмешкой, из фляги отпив глоток,
Кто это был, неважно, Пизон или Цинна:
«О, неужели здесь тоже борьба за власть
Есть, хоть трибунов нет, консулов и легатов?»
Он придержал коня, к той же фляжке решив припасть,
И, вернув ее, отвечал хрипловато
И, во всяком случае, с полной серьезностью: «Быть
Предпочел бы первым здесь, чем вторым или третьим в Риме…»
Сколько веков прошло, эту фразу пора забыть!
Миллиона четыре в городе, шесть – с окрестностями заводскими.
И, повернувшись к тому, кто на заднем сиденье спит,
Укачало его, спрошу: «Как ты думаешь, изменился
Человек или он все тот же, словно пиния или самшит?»
Ничего не ответит, решив, что вопрос мой ему приснился.
Представь себе: еще кентавры и сирены…
Представь себе: еще кентавры и сирены,
Помимо женщин и мужчин…
Какие были б тягостные сцены!
Прибавилось бы вздора и причин
Для ревности и поводов для гнева.
Все б страшно так переплелось!
Не развести бы ржанья и напева
С членораздельной речью – врозь.
И пело бы чудовище нам с ветки,
И конь стучал копытом, и добро
И зло совсем к другой тогда отметке
Вздымались бы, и в воздухе перо
Кружилось… Как могли б нас опорочить,
Какой навлечь позор!
Взять хоть Улисса, так он, между прочим,
И жил, – как упростилось все с тех пор.
Гудок пароходный – вот бас, никакому певцу…
Гудок пароходный – вот бас; никакому певцу
Не снилась такая глубокая, низкая нота;
Ночной мотылек, обезумев, скользнет по лицу,
Как будто коснется слепое и древнее что-то.
Как будто все меры, которые против судьбы
Предприняты будут, ее торжество усугубят.
Огни ходовые и рев пароходной трубы.
Мы выйдем – нас встретят, введут во дворец и полюбят.
Сверните с тропы, обойдите, не трогайте нас!
Гудок пароходный берет эту жизнь на поруки.
Как бы в три погибели, грузный зажав контрабас,
Откуда-то снизу, с трудом, достают эти звуки.
На ощупь, во мраке… Густому, как горе, гудку
Ответом – волненье и крупная дрожь мировая.
Так пишут стихи, по словцу, по шажку, по глотку,
С глазами закрытыми, тычась и дрожь унимая.
Как будто все чудища древнего мира рычат –
Все эти драконы, грифоны, быки, минотавры…
Дремучая смесь и волшебный, внимательный взгляд,
И, может быть, даже посмертные бедные лавры.
Паучок на окне, – ну что бы ему у земли…
Паучок на балконе, – ну что бы ему у земли
Где-нибудь провисать среди розовых клумб и самшита,
А не здесь, на ветру, словно видеть морскую скалу, корабли
И морскую волну так уж важно, – соткал деловито
И, увы, нерасчетливо дивную, тонкую сеть
Меж двух прутьев железных.
Что, приятно сновать по стежкам нитяным и висеть
Выше всех? Сколько сил, сколько хищных трудов бесполезных!
Должен быть же какой-то искусству предел!
Золотая, слепая зараза…
Паутинка дрожит, как оптический чудный прицел
Для какого-то тайного, явно нездешнего глаза.
Замер… серенький, впроголодь, трудно живущий… рывком
Пробежал. Вот меня-то как раз и не нужно бояться!
Не смахну рукавом.
Неприметное, как я люблю тебя, тихое братство!
За дачным столиком, за столиком дощатым…
За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!
За старым столиком… слова свое значенье
Теряют, если их раз десять повторить.
В саду за столиком… почти развоплощенье…
С каким-то Толиком, и смысл не уловить.
В саду за столиком… А дело в том, что слишком
Душа привязчива… и ей в щелях стола
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна все отдать за толику тепла.
В объятьях августа, увы, на склоне лета!..
В объятьях августа, увы, на склоне лета
В тени так холодно, на солнце так тепло!
Как в узел, стянуты два разных края света:
Обдало холодом и зноем обожгло.
Весь день колышутся еловые макушки.
Нам лень завещана, не только вечный труд.
Я счастлив, Дельвиг, был, я спал на раскладушке
Средь века хвойного и темнокрылых смут.
Как будто по двору меня на ней таскали:
То я на солнце был, то я лежал в тени,
С сухими иглами на жестком одеяле.
То ели хмурились, то снились наши дни.
Казалось вызовом, казалось то лежанье
Безмерной смелостью, и ветер низовой
Как бы подхватывал дремотное дыханье,
К нему примешивая вздох тяжелый свой.
В лазурные глядятся озерА…
В лазурные глядятся озера…
Тютчев
В лазурные глядятся озерА
Швейцарские вершины, – ударенье
Смещенное нам дорого, игра
Споткнувшегося слуха, упоенье
Внушает нам и то, что мгла лежит
На хОлмах дикой Грузии, холмится
Строка так чудно, Грузия простит,
С ума спрыгнУть, так словно шевелИтся.
Пока еще язык не затвердел,
В нем рЕзвятся, уча пеньЮ и вздохам,
РезЕда и жасмин… Я б не хотел
Исправить все, что собрано по крохам
И ластится к душе, как облачкО,
Из племени духОв, – ее смутивший
Рассеется призрАк, – и так легко
Внимательной, обмолвку полюбившей!
В любительском стихотворенье огрехи страшней, чем грехи…
В любительском стихотворенье огрехи страшней, чем грехи.
А хор за стеной в помещенье поет, заглушая стихи,
И то ли стихи не без фальши иль в хоре, фальшивя, поют,
Но как-то все дальше и дальше от мельниц, колес и запруд.
Что музыке жалкое слово, она и без слов хороша!
Хозяина жаль дорогого, что, бедный, живет, не спеша,
Меж тем, как движенье, движенье прописано нам от тоски.
Все благо: и жалкое пенье, и рифм неумелых тиски.
За что нам везенье такое, вертлявых плотвичек не счесть?
Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть!
Как будто по илу ступаю в сплетенье придонной травы.
Сказал бы честно: не знаю, – да мне доверяют, увы.
Уж как там, не знаю, колеса, немецкую речку рыхлят,
Но топчет бумагу без спроса стихов ковыляющий ряд, –
Любительское сочиненье при Доме ученых в Лесном,
И Шуберта громкое пенье в соседнем кружке хоровом.
ВОСПОМИНАНИЯ
Н. В. была смешливою моей
подругой гимназической (в двадцатом
она, эс-эр, погибла), вместе с ней
мы, помню, шли весенним Петроградом
в семнадцатом и встретили К. М.,
бегущего на частные уроки,
он нравился нам взрослостью и тем,
что беден был (повешен в Таганроге),
а Надя Ц. ждала нас у ворот
на Ковенском, откуда было близко
до цирка Чинизелли, где в тот год
шли митинги (погибла как троцкистка),
тогда она дружила с Колей У.,
который не политику, а пенье
любил (он в горло ранен был в Крыму,
попал в Париж, погиб в Сопротивленье),
нас Коля вместо митинга зазвал
к себе домой, высокое на диво
окно смотрело прямо на канал,
сестра его (умершая от тифа)
Ахматову читала наизусть,
а Боря К. смешил нас до упаду,
в глазах своих такую пряча грусть,
как будто он предвидел смерть в блокаду,
и до сих пор я помню тот закат,
жемчужный блеск уснувшего квартала,
потом за мной зашел мой старший брат
(расстрелянный в тридцать седьмом), светало…
1979
И В СКВЕРИКЕ ПОД ВЯЗОМ…
Бог, если хочешь знать, не в церкви грубой той
С подсвеченным ее резным иконостасом,
А там, где ты о нем подумал, – над строкой
Любимого стиха, и в скверике под вязом,
И в море под звездой, тем более – в тени
Клинических палат с их бредом и бинтами.
И может быть, ему милее наши дни,
Чем пыл священный тот, – ведь он менялся с нами.
Бог – это то, что мы подумали о нем,
С чем кинулись к нему, о чем его спросили.
Он в лед ввергает нас и держит над огнем,
И быстрой рад езде в ночном автомобиле,
И может быть, живет он нашей добротой
И гибнет в нашем зле, по-прежнему кромешном.
Мелькнула, вся в огнях, – не в церкви грубой той,
Не только в церкви той, хотя и в ней, конечно.
Старуха, что во тьме поклоны бьет ему,
Пускай к себе домой вернется в умиленье.
Но пусть и я строку заветную прижму
К груди, пусть и меня заденет шелестенье
Листвы, да обрету покой на полчаса
И в грозный образ тот, что вылеплен во мраке,
Внесу две-три черты, которым небеса,
Быть может, как теплу сочувствуют и влаге.
Трагедия легка: убьют или погубят…
Трагедия легка: убьют или погубят –
Искуплен будет мрак прозреньем и слезой.
Я драм боюсь, Эсхил. Со всех сторон обступят,
Обхватят, оплетут, как цепкою лозой,
Безвыходные сны, бесстыдные невзгоды,
Бессмертная латынь рецептов и микстур,
Придет грузотакси, разъезды и разводы,
Потупится сосед, остряк и балагур.
Гуляет во дворе старик больным ребенком,
И жимолость им вслед пушистая шумит.
Что ж, лучше алкашом он были или подонком?
Всех бед не перечесть, не высказать обид.
Есть ужасы, что нам, должно быть, и не снились.
Под шторку на окне просунутся лучи.
Ты спишь? Не за тебя ль в соседней расплатились
Квартире толчеей и криками в ночи?
Надгробие. Пирующий этруск…
Надгробие. Пирующий этруск.
Под локтем две тяжелые подушки,
Две плоские, как если бы моллюск
Из плотных створок выполз для просушки
И с чашею вина застыл в руке,
Задумавшись над жизнью, полуголый…
Что видит он, печальный, вдалеке:
Дом, детство, затененный дворик школы?
Иль смотрит он в грядущее, но там
Не видит нас, внимательных, – еще бы! –
Доступно человеческим глазам
Лишь прошлое, и все же, крутолобый,
Он чувствует, что смотрят на него
Из будущего, и, отставив чашу,
Как звездный свет, соседа своего
Не слушая, вбирает жалость нашу.
Есть два чуда, мой друг…
Есть два чуда, мой друг:
Это нравственный стержень и звездное небо, по Канту.
Средь смертей и разлук
Мы проносим в стихи неприметно их, как контрабанду,
Под шумок, подавляя испуг.
Не обида – вина
Жжет, в сравнении с ней хороша и желанна обида.
Набегает волна,
Камни, крабы, медузы – ее торопливая свита.
На кого так похожа она?
Пролетает, пища,
В небе ласточка, крик ее жалобный память взъерошит.
Тень беды и плаща
Вижу; снова никак застегнуть его кто-то не может,
Трепеща и застежку ища.
Кто построил шатер
Этот звездный и сердце отчаяньем нам разрывает?
Ночь – не видит никто наш позор.
Говорун и позер
Сам себе ужасается: совесть его умиляет.
Иглокожая дрожь.
Нет прощенья и нет пониманья.
Но, расплакавшись, легче уснешь.
Кто нам жалость внушил, тот и вызвездил мрак мирозданья,
Раззолоченный сплошь.
Ты не права – тем хуже для меня…
Ты не права – тем хуже для меня.
Чем лучше женщина, тем ссора с ней громадней.
Что удивительно: ни ум, как бы родня
Мужскому, прочному, ни искренность, без задней
Подпольной мысли злой, – ничто не в помощь ей.
Неутолимое страданье
В глазах и логика, тем четче и стройней,
Что вся построена на ложном основанье.
Постройка шаткая возведена тоской
И болью, – высится, бесслезная громада.
Прижмись щекой
К ней, уступи во всем, проси забыть, – так надо.
Лишь поцелуями, нет, собственной вины,
Несуществующей, признанием – добиться
Прощенья можем мы. О, дщери и сыны
Ветхозаветные, сейчас могла страница
Помочь волшебная, все знающая, – жаль,
Что нет заветной под рукою.
Не плачь. Мы справимся. Люблю тебя я. Вдаль
Смотрю. Люблю тебя. С печалью вековою.
Как писал Катулл, пропадает голос…
Как писал Катулл, пропадает голос,
Отлетает слух, изменяет зренье
Рядом с той, чья речь и волшебный образ
Так и этак тешат нас в отдаленье.
Помню, помню томление это, склонность
Видеть все в искаженном, слепящем свете.
Не любовь, Катулл, это, а влюбленность.
Наш поэт даже книгу назвал так: «Сети».
Лет до тридцати пяти повторяем формы
Головастиков-греков и римлян-рыбок.
Помню, помню, из рук получаем корм мы,
Примеряем к себе беглый блеск улыбок.
Ненавидим и любим. Как это больно!
И прекрасных чудовищ в уме рисуем.
О, дожить до любви! Видеть все. Невольно
Слышать все, мешая речь с поцелуем.
«Звон и шум, – писал ты, – в ушах заглохших,
И затмились очи ночною тенью…»
О, дожить до любви! До великих новшеств!
Пищу слуху давать и работу – зренью.