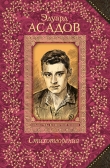Стихотворения. Четыре десятилетия
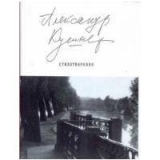
Текст книги "Стихотворения. Четыре десятилетия"
Автор книги: Александр Кушнер
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
И пыльная дымка, и даль в ореоле
Вечернего солнца, и роща в тумане.
Художник так тихо работает в поле,
Что мышь полевую находит в кармане.
Увы, ее тельце смешно и убого.
И, вынув брезгливо ее из кармана,
Он прячет улыбку. За Господа Бога
Быть принятым все-таки лестно и странно.
Он думает: если бы в серенькой куртке,
Потертой, измазанной масляной краской,
Он сунулся б тоже, сметливый и юркий,
В широкий карман за теплом и за лаской, –
Взовьются ли, вздрогнут, его обнаружа?
Придушат, пригреют? Отпустят на волю?
За кротость, за вид хлопотливо-тщедушный,
За преданность этому пыльному полю?
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
«Таврический сад»
«Дневные сны»
«Живая изгородь»
Небо ночное распахнуто настежь – и нам…
Небо ночное распахнуто настежь – и нам
Весь механизм его виден: шпыньки и пружинки,
Гвозди, колки… Музыкальная трудится там
Фраза, глотая помехи, съедая запинки.
Ночью в деревне, шагнув от раскрытых дверей,
Вдруг ощущаешь себя в золотом лабиринте.
Кажется, только что вышел оттуда Тезей,
Чуткую руку на нити держа, как на квинте.
Что это, друг мой, откуда такая любовь,
Несовершенство свое сознающая явно,
Вся – вне расчета вернуться когда-нибудь вновь
В эти края, а в небесную тьму – и подавно.
Кто этих стад, этой музыки тучной пастух?
Небо ночное скрипучей заведено ручкой.
Стынешь и чувствуешь, как превращается в слух
Зренье, а слух затмевается серенькой тучкой.
Или слезами. Не спрашивай только, о чем
Плачут: любовь ли, обида ли жжется земная –
Просто стоят, подпирая пространство плечом,
Музыку с глаз, словно блещущий рай, вытирая.
Ночной листвы тяжелое дыханье…
Ночной листвы тяжелое дыханье.
То всхлипнет дождь, то гулко хлопнет дверь.
«Ай, ай, ай, ай» – Медеи причитанье
Во всю строку – понятно мне теперь.
Не прочный смысл, не выпуклое слово,
А этот всплеск и вздох всего важней.
Подкожный шум, подкладка и основа,
Подвижный гул подвернутых ветвей.
Тоске не скажешь: «Встань, а я прилягу.
Ты посиди, пока я полежу».
Она, как тень, всю ночь от нас ни шагу,
Сказав во тьму: «За ним я пригляжу».
Когда во тьме невыспавшийся ветер
Находит нас, неспящих, чуть живых,
Нет ничего точнее междометий,
Осмысленней и горестнее их.
Кто мерил ночь неровными шагами,
Тот знает цену тихому «увы!».
Все, все, что знает жалкого за нами,
Расскажет ночь на языке листвы.
НОЧНАЯ БАБОЧКА
Пиджак безжизненно повис на спинке стула.
Ночная бабочка на лацкане уснула.
Где свет застал ее – там выдохлась и спит.
Где сон сморил ее – там крылья распластала.
Вы не добудитесь ее: она устала.
И желтой ниточкой узор ее прошит.
Ей, ночью видящей, свет кажется покровом
Сплошным, как занавес, но с краешком багровым.
В него укутанной, покойно ей сейчас.
Ей снится комната со спящим непробудно
Во тьме, распахнутой безжалостно и чудно,
И с беззащитного она не сводит глаз.
По рощам блаженным, по влажным зеленым холмам…
По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам,
За милою тенью, тебя поджидающей там.
Прекрасную руку сжимая в своей что есть сил.
Ах, с самого детства никто тебя так не водил!
По рощам блаженных, по волнообразным, густым,
Расчесанным травам – лишь в детстве ступал по таким!
Никто не стрижет, не сажает их – сами растут.
За милою тенью. «Куда мы?» – «Не бойся. Нас ждут».
Монтрей или Кембридж? Кому что припомнить дано.
Я ахну, я всхлипну, я вспомню деревню Межно,
Куда с детским садом в три года меня привезли, –
С тех пор я не видел нежней и блаженней земли.
По рощам блаженных, предчувствуя жизнь впереди
Такую родную, как эти грибные дожди,
Такую большую – не меньше, чем та, что была.
И мята, и мед, и, наверное, горе и мгла.
Страна, как туча за окном…
Страна, как туча за окном,
Синеет зимняя, большая.
Ни разговором, ни вином
Не заслонить ее, альбом
Немецкой графики листая,
Читая медленный роман,
Склоняясь над собственной работой,
Мы все равно передний план
Предоставляем ей: туман,
Снежок с фонарной позолотой.
Так люди, ждущие письма,
Звонка, машины, телеграммы,
Лишь частью сердца и ума
Вникают в споры или драмы,
Поступок хвалят и строку,
Кивают: это ли не чудо?
Но и увлекшись – начеку:
Прислушиваются к чему-то.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть…
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Проснулся с гоголевской фразой этой странной.
Там небо майское умеет розоветь
Легко и молодо над радугой фонтанной.
Нет лучше участи… Похоже на сирень
Оно, весеннее, своим нездешним цветом.
Нет лучше участи, – твержу… Когда б не тень,
Не тень смертельная… Постой, я не об этом.
Там солнце смуглое, там знойный прах и тлен.
Под синеокими, как пламя, небесами
Там воин мраморный не в силах встать с колен,
Лежат надгробия, как тени под глазами.
Нет лучшей участи, чем в Риме… Человек
Верстою целою там, в Риме, ближе к Богу.
Нет лучше участи, – твержу… Нет, лучше снег,
Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу.
Нет, лучше тучами закрытое на треть,
Снежком слепящее, туманы и метели.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть.
Мы не умрем с тобой: мы лучшей не хотели.
В тридцатиградусный мороз представить света…
В тридцатиградусный мороз представить света
Конец особенно легко.
Трамвай насквозь промерз. Ледовая карета.
Сухое, пенное, слепое молоко.
И в наших комнатах согреться мы не в силе.
Кроваво-красную не взбить в прожилке ртуть.
Весь день в России
За край и колется, и страшно заглянуть.
Так вот он, оползень! Они смешны с призывом
В мороз открытыми не оставлять дверей.
Сыпучий оползень с серебряным отливом.
Как в мире холодно, а будет холодней.
Так быстро пройден путь, казавшийся огромным!
Мы круг проделали – и не нужны века.
Мне все мерещится спина в дыму бездомном
Того нелепого, смешного седока.
Он ловит петельку, мешать ему не надо.
Не окликай его в тумане и дыму.
Я мифологию Шумера и Аккада
Дней пять вожу с собой, не знаю почему.
Всех этих демонов кто вдохновил на буйство?
То в плач пускаются, то в пляс.
Бог просит помощи, его приводят в чувство.
Табличка с текстом здесь обломана как раз.
Табличке глиняной нам не найти замену.
Жаль царств развеянных, жаль бога-пастуха.
Как в мире холодно! Метель взбивает пену.
Не возвратит никто погибшего стиха.
Что мне весна? Возьми ее себе!..
Что мне весна? Возьми ее себе!
Где вечная, там расцветет и эта.
А здесь, на влажно дышащей тропе,
Душа еще чувствительней задета
Не ветвью, в бледно-розовых цветах,
Не ветвью, нет, хотя и ветвью тоже,
А той тоской, которая в веках
Расставлена, как сеть;
ночной прохожий,
Запутавшись, возносит из нее
Стон к небесам… но там его не слышат,
Где вечный май, где ровное житье,
Где каждый день такой усладой дышат.
И плачет он меж Невкой и Невой,
Вблизи трамвайных линий и мечети,
Но не отдаст недуг сердечный свой,
Зарю и рельсы блещущие эти
За те края, где льется ровный свет,
Где не стареют в горестях и зимах.
Он и не мыслит счастья без примет
Топографических, неотразимых.
ПАВЛОВСК
Холмистый, путаный, сквозной, головоломный
Парк, елей, лиственниц и кленов череда,
Дуб, с ветвью вытянутый в сторону, огромной,
И отражающая их вода.
Дуб, с ветвью вытянутый в сторону, огромной,
С вершиной сломанной и ветхою листвой,
Полуразрушенный, как старый мост подъемный,
Как башня с выступом, военный слон с трубой.
И, два-три желудя подняв с земли усталой,
Два-три солдатика с лежачею судьбой,
В карман их спрятали… что снится им? Пожалуй,
Рим, жизнь на пенсии и домик типовой.
Природа, видишь ли, живет не наблюдая,
Вполне счастливая, эпох, веков, времен,
И ветвь дубовая привыкла золотая
Венчать храбрейшего и смотрит: где же он?
И ей на вышколенных берегах Славянки,
Где слиты русские и римские черты,
То снег мерещится и маленькие санки,
То рощи знойные и ратные ряды.
Твой голос в трубке телефонной…
Твой голос в трубке телефонной,
Став электричеством на миг,
Разъятый так и угнетенный,
Что вид его нам был бы дик,
Когда бы слово «вид» имело
При этом смысл какой-нибудь,
Твой голос, сжатый до предела,
Во тьме проделав долгий путь,
Твой голос в трубке телефонной
Неуследимо, в тот же миг,
Из тьмы, ничуть не искаженный,
Как феникс сказочный возник.
Уж он ли с жизнью не прощался,
Уж он ли душу не терял
И страшно перевоплощался
В толченый уголь и металл?
И этот кабель, и траншея,
И металлическая нить
Невероятней и сложнее
Души бессмертья, может быть.
И нашу занятость, и дымную весну…
И нашу занятость, и дымную весну,
И стрижку ровную, машинную газонов,
Люблю я плеч твоих худую прямизну,
Как у египетских рабов и фараонов.
В бумажном свитере и юбке шерстяной
Над репродукциями радужных эмалей
Как будто бабочек рассматриваешь рой,
Повадку томную Эмилий и Амалий.
И странной кажется мне пышнотелость дам,
Эмалевидная их белизна и нега.
Захлопни рыхлый том: они не знают там
Ни шага быстрого, ни хлопотного века.
Железо – красные тона давало им,
И кобальт – синие, и кисть волосяная
Писала тоненько, – искусством дорогим
Любуюсь сдержанно – чужая жизнь, иная!
На что красавица похожа? На бутыль.
Как эту скользкую могли ценить покатость?
Мне больше нравится наш угловатый стиль,
И спешка вечная, и резкость, и предвзятость.
В одном из ужаснейших наших…
В одном из ужаснейших наших
Задымленных, темных садов,
Среди изувеченных, страшных,
Прекрасных древесных стволов,
У речки, лежащей неловко,
Как будто больной на боку,
С названьем Екатерингофка,
Что еле влезает в строку,
Вблизи комбината с прядильной
Текстильной душой нитяной
И транспортной улицы тыльной,
Трамвайной, сквозной, объездной,
Под тучей, а может быть, дымом,
В снегах, на исходе зимы,
О будущем, непредставимом
Свиданье условились мы.
Так помни, что ты обещала.
Вот только боюсь, что и там
Мы врозь проведем для начала
Полжизни, с грехом пополам,
И ткацкая фабрика эта,
В три смены работая тут,
Совсем не оставит просвета
В сцеплении нитей и пут.
НОЧЬ
Бог был так милостив, что дал нам эту ночь.
Внизу листва шумела,
Бежала, пенилась, текла, струилась прочь,
Вздымалась, дыбилась, остаться не хотела.
Как будто где-то есть счастливее места,
Теплее, может быть, роднее.
Но нас не выманишь, как тех чижей с куста,
Они затихли в нем, оставь их, – им виднее.
Бог был так милостив, что дал нам этот век.
Кому не думалось про свой, что он – последний?
Так думал римлянин, так раньше думал грек,
Хотя не в комнатах топтались, а в передней.
Мне видеть хочется весь долгий, страшный путь,
Неведенью предпочитаю знанье.
Бог был так милостив, что, прежде чем уснуть,
Я дрожь ловил твою и пил твое дыханье.
При сотворении он был один, в конце
Свое смущение он делит вместе с нами,
И ночью тени на лице
Волнами пенятся, колышатся цветами.
На выбор смерть ему предложена была…
На выбор смерть ему предложена была.
Он Цезаря благодарил за милость.
Могла кинжалом быть, петлею быть могла,
Пока он выбирал, топталась и томилась,
Ходила вслед за ним, бубнила невпопад:
Вскрой вены, утопись, с высокой кинься кручи.
Он шкафчик отворил: быть может, выпить яд?
Не худший способ, но, возможно, и не лучший.
У греков – жизнь любить, у римлян – умирать,
У римлян – умирать с достоинством учиться,
У греков – мир ценить, у римлян – воевать,
У греков – звук тянуть на флейте, на цевнице,
У греков – жизнь любить, у греков – торс лепить,
Объемно-теневой, как туча в небе зимнем.
Он отдал плащ рабу и свет велел гасить.
У греков – воск топить, и умирать – у римлян.
СОН
В палатке я лежал военной,
До слуха долетал троянской битвы шум,
Но моря милый гул и шорох белопенный
Весь день внушали мне: напрасно ты угрюм.
Поблизости росли лиловые цветочки,
Которым я не знал названья; меж камней
То ящериц узорные цепочки
Сверкали, то жучок мерцал, как скарабей.
И мать являлась мне, как облачко из моря,
Садилась близ меня, стараясь притушить
Прохладною рукой тоску во мне и горе.
Жемчужная на ней дымилась нить.
Напрасен звон мечей: я больше не воюю.
Меня не убедить ни другу, ни льстецу:
Я в сторону смотрю другую,
И пасмурная тень гуляет по лицу.
Триеры грубый киль в песок прибрежный вдавлен –
Я б с радостью отплыл на этом корабле!
Еще подумал я, что счастлив, что оставлен,
Что жить так больно на земле.
Не помню, как заснул и сколько спал – мгновенье
Иль век? – когда сорвал с постели телефон,
А в трубке треск, и скрип, и шорох, и шипенье,
И чей-то крик: «Патрокл сражен!»
Когда сражен? Зачем? Нет жизни без Патрокла!
Прости, сейчас проснусь. Еще раз повтори.
И накренился мир, и вдруг щека намокла,
И что-то рухнуло внутри.
Как пуговичка, маленький обол…
Как пуговичка, маленький обол.
Так вот какую мелкую монету
Взимал паромщик! Знать, не так тяжел
Был труд его, но горек, спора нету.
Как сточены неровные края!
Так камешки обтачивает море.
На выставке все всматривался я
В приплюснутое, бронзовое горе.
Все умерли. Всех смерть смела с земли.
Лишь Федра горько плачет на помосте.
Где греческие деньги? Все ушли
В карман гребцу. Остались две-три горсти.
Какой, Октавия, сегодня ветер сильный…
Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!
Судьбу несчастную и злую смерть твою
Мне куст истерзанный напоминает пыльный,
Хоть я и делаю вид, что не узнаю.
Как будто Тацита читал эта крона
И вот заламывает ветви в вышине
Так, словно статую живой жены Нерона
Свалить приказано и утопить в волне.
Как тучи грузные лежат на косогоре
Ничком, какой у них сиреневый испод!
Уж не Тирренское ли им приснилось море
И остров, стынущий среди пустынных вод?
Какой, Октавия, сегодня блеск несносный,
Стальной, пронзительный – и взгляд не отвести.
Мне есть, Октавия, о ком жалеть (и поздно,
И дело давнее), кроме тебя, прости.
По эту сторону таинственной черты…
По эту сторону таинственной черты
Синеет облако, топорщатся кусты,
По эту сторону мне лезет в глаз ресница,
И стол с приметами любимого труда
По эту сторону, по эту… а туда,
Туда и пуговице не перекатиться.
Свернет, покружится, решится замереть.
Любил я что-нибудь всю жизнь в руке вертеть,
Пора разучиваться. Перевоспитанье
Тьмой непроглядною, разлукой, немотой.
Как эта пуговичка, я перед чертой
Кружусь невидимой, томленье, содроганье.
ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ
Никто не знает флага той страны.
В морском порту, где столько полосатых
И звездчатых, где синие видны,
И желтые, и в огненных заплатах,
Его лишь нет. Он бел, как облака.
Как майская земля, такой же черный.
Никто не знает флага, языка,
Ландшафт ее равнинный или горный?
Никто не знает флага той страны,
Что глиняного старше Междуречья.
Быть может, все мы там обречены
На хаттское и хеттское наречье.
Никто не знает флага, языка,
Он запылен, как кровельщика фартук.
Пока мы здесь, пока твоя рука
Лежит в моей, что Иштар нам, что Мардук?
Никто не знает флага той страны.
Оттуда корабли не приплывали.
Быть может, в языке сохранены
Праиндоевропейские детали.
Что там, холмы, могучая река?
Кого там ценят, Будду или Плавта?
Никто не знает флага, языка.
Ни языка, ни флага, ни ландшафта.
ПРОСТИ, ВОЛШЕБНЫЙ ВАВИЛОН
С огромной башней, как рулон
Небрежно свернутой бумаги.
Ты наш замшелый, ветхий сон.
Твои лебедки помню, флаги.
Мне стоит в трубочку свернуть
Тетрадь, газету, что-нибудь,
Как возникает искушенье
Твою громаду помянуть
И языков твоих смешенье.
Гляжу в окно на белый снег.
Под веком – век, над веком – век.
Где мы? В конце ль? У середины?
Как горд, как жалок человек!
Увы, из крови он, из глины.
Он потный, жаркий он, живой.
И через ярус круглый свой
Ему никак не перепрыгнуть.
Он льнет к подушке головой,
Он хочет жить, а надо гибнуть.
И если спишь на чистой простыне…
И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыл на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок, –
Под утюгом так высохла, на солнце? –
И если пальцев белый табунок
На простыне доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с криком или лаем,
И если спишь, чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.
Мне кажется, что жизнь прошла…
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались частности, детали.
Уже сметают со стола
И чашки с блюдцами убрали.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Остались странности, повторы.
Рука на сгибе затекла.
Узоры эти, разговоры…
На холод выйти из тепла,
Найти дрожащие перила.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Но это чувство тоже было.
Уже, заметив, что молчу,
Сметали крошки тряпкой влажной.
Постой… еще сказать хочу…
Не помню, что хочу… неважно.
Мне кажется, что жизнь прошла.
Уже казалось так когда-то,
Но дверь раскрылась – то была
К знакомым гостья, – стало взгляда
Не отвести и не поднять;
Беседа дрогнула, запнулась,
Потом настроилась опять,
Уже при ней, – и жизнь вернулась.
Кто первый море к нам в поэзию привел…
…под говором валов…
К. Батюшков
Кто первый море к нам в поэзию привел
И строки увлажнил туманом и волнами?
Я вижу, как его внимательно прочел
Курчавый ученик с блестящими глазами
И перенял любовь к шершавым берегам
Полуденной земли и мокрой парусине,
И мраморным богам,
И пламенным лучам, – нам темной половине.
На темной, ледяной, с соломой на снегу,
С визжащими во тьме сосновыми санями…
А снился хоровод на ласковом лугу,
Усыпанном цветами,
И берег, где шуршит одышливый Эол,
Где пасмурные тени
Склоняются к волне, рукой прижав подол,
Другою – шелестя в курчавящейся пене.
И в ритмике совпав, поскольку моря шум
Подсказывает строй, и паузы, и пенье,
Кто более угрюм? –
Теперь не различить, – вдохнули упоенье,
И негу, и весну, и горький аромат,
И младший возмужал, а старший – задохнулся,
Как будто выпил яд
Из борджиевых рук – и к жизни не вернулся.
Но с нами – дивный звук, таинственный мотив.
Столетие спустя очнулась флейта эта!
Ведь тот, кто хвалит жизнь, всегда красноречив.
Бездомная хвала, трагическая мета.
Бессонное, шуми! Подкрадывайся, бей
В беспамятный висок горячею волною,
Приманивай, синей,
Как призрак дорогой под снежной пеленою.
Мы спорили, вал белопенный был нашему спору под стать…
Мы спорили, вал белопенный был нашему спору под стать,
Что нищие духом блаженны и как эту фразу понять?
И я говорил, что как дети в неведеньи сердцем чисты,
Как солнцем нагретые сети и дикие эти кусты,
Лазурная в море полоска и донная рыжая прядь,
Что я бы хотел у киоска с похмелья за пивом стоять.
А ты говорила, что мрачный, стоящий за пивом с утра,
Как лист изможденный табачный, как жесткая эта кора,
Как эти кусты у обрыва с обломанной ветвью сухой –
То встречного ветра пожива, то вздыбленной гривы морской,
Что жить еще горше на свете, когда не осмыслить утрат,
А дети… ты вспомни, как дети на взрослые царства глядят!
На паутину похоже с такой высоты…
На паутину похоже с такой высоты
Море, суденышки в нем, словно черные мухи,
Вязнут, запутавшись… Смотрим на них сквозь кусты.
Ветер, как жук, завывает, ворочаясь в ухе.
Море с такой высоты… На такой высоте
Жить бы, и письма писать, и качаться в качалке,
Как на балконе, как в утлом вороньем гнезде,
В ласточкином, глинобитном, прилепленном к балке.
Море с такой высоты… Я хотел бы обнять
Всех, голова моя кружится, на опьяненье
Это похоже… и облачным клочьям под стать
Пена белеет, как сброшенное оперенье.
Что там, побоище? Может быть, линька в раю?
Странно, что соль к этим взбитым подмешана сливкам.
Все, что кричу, ветром сорвано, все, что пою, –
Ласточке трудно судить в небесах по обрывкам.
ПЧЕЛА
Пятясь, пчела выбирается вон из цветка.
Ошеломленная, прочь из горячих объятий.
О, до чего э эта жизнь хороша и сладка,
Шелка нежней, бархатистого склона покатей!
Господи, ты раскалил эту жаркую печь
Или сама она так распалилась – неважно,
Что же ты дал нам такую разумную речь,
Или сама рассудительна так и протяжна?
Кажется, память на время отшибло пчеле.
Ориентацию в знойном забыла пространстве.
На лепестке она, как на горячей золе,
Лапками перебирает и топчется в трансе.
Я засмотрелся – и в этом ошибка моя.
Чуть вперевалку, к цветку прижимаясь всем телом,
В желтую гущу вползать, раздвигая края
Радости жгучей, каленьем подернутой белым.
Алая ткань, ни раскаянья здесь, ни стыда.
Сколько ни вытянуть – ни от кого не убудет.
О, неужели однажды придут холода,
Пламя погасят и зной этот чудный остудят?
Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом…
Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо:
Куст высок, и на столик ложится пятно за пятном.
Ах, какая пятнистая, в мелких заплатах прохлада!
Круглый мраморный столик не лед ли сумел расколоть,
И как будто изглодана зимнею стужей окружность.
Эта тень так прекрасна сама по себе, что Господь
Устранился бы, верно, свою ощущая ненужность.
Боже мой, разве общий какой-нибудь замысел здесь
Представим, – эта тень так привольно и радостно дышит,
И свежа, и случайность, что столик накрыт ею весь,
Как попоной, и ветер сдвигает ее и колышет,
А когда, раскачавшись, совсем ее сдернет – глаза
Мы зажмурим на миг от июньского жесткого света.
Потому и трудны наши дни, и в саду голоса
Так слышны, и светло, и никем не задумано это.