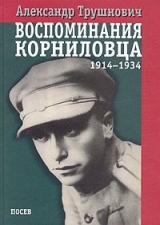
Текст книги "Воспоминания корниловца: 1914-1934"
Автор книги: Александр Трушнович
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Дифференцированное лечение
У амбулаторного врача на столе лежало в ряд восемь разноцветных рецептурных книжек. Для активно застрахованных – две книжечки! Желтая – для сложных рецептов, белая – для простых. Для членов семьи – другой цвет. Для колхозников – серая, для членов их семей – белая. У двух коммун был свой собственный лечебный фонд и отдельные рецептурные книжки. Единоличникам выдавали только платные рецепты. Лишенцы и кулаки должны были платить и за осмотр, и за лекарства. Платных больных было немного, они предпочитали не ходить на прием в амбулаторию. Там их принимали в последнюю очередь, да и платить им часто было нечем.
По разным рецептам полагались разные лекарства. Это называлось «дифференцированным медикаментным лечением». Здесь необходимо пояснение: до войны русское правительство не предпринимало серьезных попыток создать свою собственную фармацевтическую промышленность, хотя при естественных богатствах России это напрашивалось само собой. Так, во время войны было сразу организовано производство йода.
При большевиках был создан фармхимпром. Хорошее, казалось, дело, и можно было лишь пожалеть, что не создали раньше. Но и здесь сказалось проклятие, тяготеющее над каждым большевистским начинанием. Едва начав создавать собственную промышленность, стали запрещать ввоз медикаментов из-за границы. Но не все нужные медикаменты производились, а производимых не хватало. По совершенно непонятным соображениям (скорее всего из-за ненависти коммунистов к природе и всему «ненаучному») исключили из аптек лекарственные растения, очень ценившиеся народом, чем только еще больше усилили лекарственный голод. Как и следовало ожидать, созданные наспех советские медикаменты оказались плохого качества, вызывали побочные явления, которые особенно резко проявлялись при новосальварсане. Циркуляр о негодности выпущенных лекарств обычно поступал, когда они были уже в употреблении. Но все же качество советского сальварсана улучшалось, и в конце концов его можно было применять, не опасаясь последствий.
Затруднения с лекарствами осложнились еще целым рядом экспериментов и нововведений. Вдруг из здравотдела во все аптеки прислали книжечки с нумерованными стандартными рецептами без наименований лекарств. В московских аптеках, обслуживавших рабочих, завели барабаны с нумерованными отделениями, наполненными нумерованными же лекарствами. Больной приносит нумерованный рецепт – завертелся барабан и… готово! Привыкшие к экспериментам и непременному их провалу, мы возмутились, но потом пришлось смириться: выше головы не прыгнешь. По новому методу стали писать только номер стандарта и способ его применения. Например: «Номер 37, три раза в день по порошку».
Но уже через месяц стали происходить трагические ошибки: у перегруженного врача в глазах рябило и 37 могло превратиться в 73. Очередной эксперимент провалился.
С этой манией изобретательства можно было бы еще мириться, если бы не опустели аптеки. Всегда с нетерпением ожидали мы очередного поступления медикаментов, которые делились на импортные, дефицитные и обычные. Каждую посылку сопровождали инструкции, касающиеся дифференцированного лечения. Наша аптека, обслуживавшая 16 000 жителей, получала, например: пирамидона – 15–20 граммов на квартал (только для рабочих промышленных предприятий); висмута – 50 граммов на квартал (только для детской практики и застрахованным); марганца (экспортный товар) – 250 граммов на полугодие, йода (только для операционных) – в ничтожных количествах. Вместо него отпускали малопригодный суррогат. Во время эпидемий летних детских поносов, от которых в России умирали десятки тысяч детей, мы часто оставались вообще без нужных лекарств. Касторового масла, которого было в стране достаточно, но которое шло на экспорт, мы не получали, а если получали, то 100 граммов на все лето; к тому же аптека и заврайздравотделом припрятывали его для новой знати. Чернику, которой в России сколько угодно, присылали в количестве однонедельного расхода, да и то часто к осени.
Если к лекарственному голоду добавить продовольственные затруднения, то станет понятно, почему в СССР так усилилась детская смертность.
Перевязочного материала катастрофически не хватало, его перестирывали до полного износа. О резиновых перчатках для операционной и говорить не приходится, они были только в некоторых больших клиниках и, естественно, в кремлевских больницах. Так, по классовому принципу, для дифференцированной медицинской помощи использовались остатки былого изобилия.
Чтобы уменьшить расходование лекарств и сократить выписку дорогостоящих рецептов для застрахованных, врачам было вменено в обязанность 40 % рецептов заменить советами. Пришли инструкции, где приводились научные цитаты, которые должны были подкрепить новое распоряжение. Мы возражали. Выписывать рецептов еще меньше, чем мы выписываем, уже невозможно.
Говорили, что аптечные полки и так уже пусты. А злобу за отсутствие лекарств больные, в особенности застрахованные, переносили на врачей, которым было строго запрещено подрывать авторитет советской власти и сообщать пациентам, что лекарств почти нет, а на часть из тех, которые есть, наложена броня. Верным людям мы, конечно, говорили, как обстоит дело, а те сообщали дальше. Вышестоящие организации требовали от нас выполнения директив и проверяли в аптеке выписанные нами рецепты.
Для проведения этих мероприятий в жизнь нас заставляли и в медицине применять методы социалистического труда: соцсоревнование и ударничество. Врач или целый кабинет соревнуется с другим врачом или кабинетом: кто выпишет меньше рецептов и израсходует меньше лекарств (!). Производственная комиссия протоколирует договор, и все кончается ничем. А количество рецептов все равно сокращать надо. И ты их сокращаешь и, как обычно, идешь по линии наименьшего сопротивления.
Труд детский, труд женский
Детский труд в колхозах и коммунах обязателен. В начале 1930 года мне предстояла трудная и гадкая задача: меня назначили в комиссию по определению нормы детского труда в рыбколхозе. Я должен был ознакомиться с производством рыбной промышленности, сконцентрированной на берегу моря, чтобы получить некоторое представление об отдельных производственных процессах и применяемости в них детского труда. Для сельскохозяйственных колхозов центр уже определил эти нормы, для рыбколхозов их должны были высчитать только после полученных с мест данных и предложений. Нормы детского труда в СССР единственны в своем роде и характерны для систем, применяющих принудительный детский труд. Дети делились на три категории: первая – от десяти до двенадцати лет, вторая – от двенадцати до четырнадцати, третья – от четырнадцати до шестнадцати. Дети первой категории обязаны были работать два часа в день, второй – четыре, третьей – шесть.
Советское законодательство перечисляло все виды возможных полевых работ для каждой категории и в соответствии с этим определяло четверть, половину и три четверти трудодня. Подобные же нормы и классификация составлялись и для рыбколхозов.
Я ходил на производства, расспрашивал рыбаков и, наконец, составил себе некоторое представление об их труде. В нашей комиссии был комсомолец, прозвище которого было «идеалист». Он тихо негодовал, видя, как детей заставляют работать без нормы, как колхозы не считаются ни с какими предписаниями и не несут за это никакой ответственности.
Примером жестокой эксплуатации был женский труд. Женщины работали в колхозе наравне с мужчинами, и трудодень им засчитывался только после выполнения нормы, назначавшейся каждое утро бригадиром. Мужчина уже не мог содержать семью, паек был полуголодный и рассчитывался на одного работающего, имеющего колхозную книжку.
Каждый колхозник старался развести около своего жилья огород, все дворы были перекопаны. Если бы не постоянные переселения и перемещения, то огород мог бы как-то поддерживать семью. Работать дома возможно было только по вечерам и по ночам. Женщина должна была еще и варить, стирать, латать, следить за домашним хозяйством, и, хотя мужчина теперь больше помогал по дому, на женщину все-таки ложилось тяжелое бремя. Нормы, назначавшиеся человеку в колхозах, забирали все силы, а домашний труд истощал совершенно. Никогда еще русская женщина не была в таком тяжелом положении, как в это время.
Но еще более тяжелая судьба была у малых детей. Ребенок начинал недоедать уже в грудном возрасте. Количество женщин, способных кормить грудью, сокращалось. Я видел, как с каждым годом увеличивалось количество детей, переводившихся на искусственное питание, а питания этого не было. При потребкооперациях должны были существовать отделения, снабжавшие кормящих матерей продуктами детского питания и другими принадлежностями по уходу за детьми. Но там можно было приобрести только игрушки.
Я несколько месяцев добивался, чтобы этому отделению (Уголок матери и ребенка) отпускали какое-то количество манной крупы и сахара по справке врача. Во время приема в амбулатории я ежедневно выдавал до восьмидесяти таких справок. В «Уголке» по справке выдавали полфунта крупы и полфунта сахару. Служащие потребкооперации были мной недовольны, так как я доставлял им добавочную работу: каждую выдачу надо было регистрировать. Поскольку я не мог обращаться к их человеческим чувствам, пришлось ради спасения хотя бы нескольких детских жизней заняться демагогией. Демагогия подействовала.
Это счастье продолжалось несколько недель, а затем матери снова рыскали по станице в поисках манной крупы и сахара, давали поручения едущим в город. Но и там уже почти ничего достать было нельзя. Случаи рахита, авитаминоза, туберкулеза учащались, и мы удивлялись здоровому ребенку: «Как вам удалось его так сохранить и вырастить?»
Детская смертность во время коллективизации резко выросла. Завзагсом было строго запрещено об этом сообщать. Умерших детей зачастую стали хоронить без справок врача и загса, что до коллективизации было невозможно.
Санминимум
В начале коллективизации санитарное состояние в России пришло в такой упадок, что правительство вынуждено было издать декрет о санитарном минимуме. Он появился после всех других «минимумов» и не произвел никакого впечатления. Грязь стала невыносимой, всюду царила мерзость запустения. Берег моря стал свалкой, улицы не подметали, нечистоты со дворов, в основном бригадных, не вывозились, в учреждениях люди ходили по слою окурков.
А ответственность ложилась на меня: я по совместительству снова был санитарным врачом. Что я ни делал, ничего не помогало: ни штрафы, ни угрозы милицией. Никто из власть имущих пальцем не шевельнул: им надо было раскулачивать, выселять, выполнять и перевыполнять, а тут я со своими пустяками.
Однако надо было что-то делать, и я предложил устроить день санминимума с помощью школьников. Райком разрешил, но с условием, что инициатива якобы исходит не от меня, а от пионерской организации. Учителя и ученики получили инструкции от врачей, разбились на группы и обследовали станицу. Результаты сообщали в штаб, устроенный перед больницей. Проходившая у нас практику студентка делала стенгазету: тут же рисовала карикатуры, писала к ним тексты.
Мы зашли во двор третьей бригады и спросили:
– Товарищи, почему у вас такая грязь? Двор не выметен, уборная не вычищена, дохлая собака валяется?
Нам сказали:
– Идите, откуда пришли! Теперь хозяина нет, некому следить за чистотой.
В канцелярии рыбтреста нет форточек, нет плевательниц, на полу бумага и окурки, уборная грязная, доски проваливаются, нечистоты плывут через верх. В общежитии рабочих на полу толстый слой грязи со втоптанными окурками, все заплевано, умывальников нет, уборная далеко, оправляются возле общежития. В райкоме нельзя войти в уборную, оправляются за уборной. Заходили к колхозникам, а те говорят:
– Есть нечего, откуда будут нечистоты?
И еще говорили:
– Так зачем чистить? Завтра нас, может, отсюда выгонят, теперь мы тут – не хозяева.
Одна колхозница сказала:
– И чего вы, детки, по чужим домам лазите? Вам бы в школе сидеть да учиться.
Женщина была, конечно, права. Но у меня не было иного выхода. Кроме необходимости добиться хоть какого-то подобия чистоты, я знал, что кому-то из начальства вдруг может прийти в голову всю вину свалить на меня и нескольких коллег, и нам «пришьют дело», по которому мы окажемся саботажниками и вредителями, виновными в «отсутствии гигиены».
Выезды в районы
С медицинской точки зрения от коллективизации была одна, может быть, единственная польза: еда из общего котла вызвала боязнь заразы, в особенности сифилисом. Нас стали часто вызывать в детские ясли, бригады, общежития для определения, главным образом, кожных заболеваний, которые в большинстве случаев оказывались неспецифическими. Но мы охотно жертвовали временем, довольные тем, что сам народ указывает на людей, скрывавших от врача венерические болезни.
Несколько раз в год по выходным дням один или несколько врачей со средним медперсоналом выезжали в какой-нибудь отдаленный участок района или области, откуда трудно было добираться до медицинских учреждений с квалифицированными врачами.
Население оповещают заранее, прием происходит в школе или другом общественном здании. Врач-венеролог производит подворное обследование для составления картотеки кожно-венерических заболеваний района и предлагает соответствующее лечение.
Выезды были одной из редких положительных сторон советской действительности. Однако с началом коллективизации они стали для врачей новым источником моральных мучений: помощь людям свелась почти исключительно к выдаче справок. Отсутствие самых необходимых лекарств, в особенности мазей и хинина, свело эти выезды к профилактической болтовне. Хорошее начинание советская действительность превратила в карикатуру.
Вскоре после начала коллективизации в отдаленный колхоз выехала бригада: терапевт, зубной врач, две сестры и я. Мы приехали раньше условленного часа. Около школы сидела только одна средних лет женщина с ребенком.
– Здравствуйте, мамаша! Чем болеем?
Женщина долго молчала, а затем крикнула так, что шарахнулась наша лошадь:
– Чем болеем?! Колхозом болеем, больше ничем!
Бытовые условия
С начала пятилетки жизнь стала резко ухудшаться, и каждый день превращался в мучительную проблему: что есть, где достать, чем топить, чем освещаться, что надеть, чем зашить, что пришить? Базары и кооперации опустели. Важнейшими персонами голодного государства становились служащие потребкооперации. Среди них попадались скрывающиеся интеллигенты, но большинство было на уровне полуграмотных приказчиков мелких лавчонок. Дружба с ними считалась хорошим, вернее, полезным тоном. Говорили: «Что ему, он знаком с кооперативщиками и достает через них все что угодно». Это «все что угодно» было килограммом сахара в месяц, парой чулок, копченой рыбой или – верх счастья! – куском мыла для стирки.
Один из наших врачей стал сними брататься и чуть ли не ежедневно стоял невдалеке от магазина, ожидая его закрытия, чтобы через черный ход получить подаяние по казенной цене. Появилось новое деление людей: на умеющих достать и достать не умеющих. Начались очереди за хлебом и другими продуктами. Женщинам снова пришлось хуже всех: после двух-трех часов стояния в очередях измученная и озлобленная женщина приступала к домашней работе, побывав до этого на работе государственной. Мужчина, не работающий на «хлебном месте», один прокормить семью уже не мог. Только один товар, который продавали даже в мануфактурных магазинах, был в изобилии и по специальному распоряжению отпускался вне очереди – водка. Мимо длинной вереницы людей проталкивался человек навеселе и кричал, размахивая пустой бутылкой: «Это для вас, дураков, очередь. А нам водка без очереди. О нас государство заботится!» Неделями, иногда месяцами пустовали кооперативы, а перед «монополькой» толпился народ. У милиции было секретное предписание не препятствовать продаже водки пьяным, распиванию оной на улице, скандалящих пьяных не преследовать, а, по возможности, утихомиривать.
На одном из известных мне заводов общее собрание постановило закрыть ближний киоск, потому что рабочие выбегали, покупали и пили водку, отчего страдала работа. Но вдруг из задних рядов поднялся никому не известный мужчина и сказал, что закрывать киоск запрещает. Выяснилось, что это фининспектор, обладающий большими полномочиями. Продажу водки голодному народу власть всячески поощряла.
Пьянство на Руси и «царев кабак» не делали чести и дореволюционному правительству, но тогда народ был хоть сыт, и продажа не превращалась в массовое спаивание голодных с двойной выгодой: пьяный не думает о сопротивлении произволу коммунистической власти, а коммунистическая власть зарабатывает на водке чуть ли не тысячу процентов.
Закрытые распределители
Рядовые коммунисты жили, по сравнению с народом, неплохо. Они или занимали «хлебные места», или от занимавших эти места партийных товарищей получали необходимое с черного хода.
На совсем особом положении были коммунисты, сидевшие на «верхушках» власти. Для них создали закрытые распределители, заведовали которыми надежные товарищи, имевшие строгое предписание не впускать никого из посторонних. Даже моя санитарная комиссия, как я ни старался, не смогла проникнуть в это «святое корыто» правящего на Руси класса, и я так и не смог увидеть своими глазами тщательно скрываемое от голодающего народа изобилие.
Прикрепленный к распределителю работник должен был являться туда сам (или его жена), с закрытой кошелкой или чемоданом. Крупные заказы доставлялись на дом по вечерам, под прикрытием темноты. В нашем районе на парткормлении состояло сорок коммунистов. В то время как мы стояли в очередях за 500 граммами пайкового черного хлеба с мякиной, они получали по два пуда белой муки в месяц. Рыбу мы теперь ели только тогда, когда ее тайком приносил, тоже под прикрытием темноты, пациент-рыбак. Предрика же или секретарю райкома привозили ящиками первосортную экспортную копченую рыбу.
Принудительный труд
С началом коллективизации и пятилетки все летоисчисление в СССР стало отсчитываться от кампании до кампании. Раньше тоже бывали кампании: в помощь рабочим Англии, по распространению займа, по изъятию кормов или тары и другие. Но они не охватывали так всю государственную жизнь, как эти новые.
Основными кампаниями стали: посевная, прополочная и уборочная. Во время кампаний страна переводилась на военное положение. Коммунисты опоясывались наплечными ремнями и подвешивали кобуру с наганом. Перед посевной проходила предкампания, начинавшаяся уже в феврале. Ее признаки: циркуляры, распоряжения, указания, воззвания, а также недоступные для простого смертного секретные предписания. Затем из центра появлялись инструкторы. Ежедневные заседания становились теперь почти круглосуточными. Все громкоговорители хрипели и призывали колхозников готовиться к посевной кампании и разъясняли им, какое это важное дело – сеять. А то ли еще будет в уборочную. Несчастные пахари дореволюционных столетий! Какими сиротами и неучами они должны были себя чувствовать без экспертов с наганом в ту темную, не озаренную социализмом эпоху!
«Профсоюзы» бегают, собирают данные, заключают соцдоговора, назначают вечера критики и самокритики, где говорят об ошибках всех и каждого во время прошлогодней кампании. Газеты переполнены лозунгами и статьями. Все о посевной. Выход народа в поле организован по-военному, побригадно, в колоннах, с лозунгами и плакатами: «Не бог, не поп, а наука на службе у большевиков даст нам урожай!» Доморощенный духовой оркестр исполняет вальс «На сопках Маньчжурии». И не знают безграмотные руководители, насколько современны сегодня слова этого старинного, дошедшего к нам с русско-японской войны вальса: «Плачет отец, плачет жена молодая, плачет вся Русь, как один человек…»
Включается и город. Сотни коммунистов, тысячи рабочих-ударников, десятки врачей и сестер – все устремляются на посевную:
– Итак, товарищи, исход посевной зависит от правильного медобслуживания бригад и проведения на 100 % ясельной кампании!
По плану указано открыть в районе во время посевной кампании 25 сезонных колхозных яслей. Организация их поручена здравотделу.
Учреждена специальная должность инструктора охрматмлада: (охрана материнства и младенчества). На нее назначена коммунистка-выдвиженка. Малограмотная. В беготню втягиваются все медработники. В потребкооперации для этих 25 яслей накладывается броня на какое-то количество сахара, крупы и мануфактуры. Центр отпускает средства на их содержание, а колхозы обязаны отпустить все остальное.
Опять соцдоговора. Обещают, подписывают, приключаются, переключаются, перекликаются…
Медицинское и санитарное обслуживание яслей поручено врачам и среднему медперсоналу. Для заведующих и сестер яслей организуются двухмесячные курсы. Дело нужное, если бы и на эти курсы не посылали по социальному отбору. Но тем не менее попадаются хорошие крестьянские девушки, которым курсы приносят немалую пользу.
Состояние яслей всецело зависит от состояния колхозов, а так как начиная с 1930 года колхозники, за редкими исключениями, недоедают или просто голодают, то, разумеется, то же самое происходит и в яслях.
Идея освобождения крестьянки от ухода и присмотра за ребенком во время полевых работ очень хороша. Но большевики руководствовались не гуманными, а чисто утилитарными практическими целями. При их системе никогда не хватало рабочих рук, особенно во время уборочной кампании, и не было случая, чтобы часть урожая, иногда довольно значительная, не осталась неубранной. В поле обязана была выйти каждая женщина в возрасте от 16 до 60 лет, если она не полный инвалид.
Указанные 25 яслей обычно размещались в домах высланных крестьян и могли вместить только часть детей, опять-таки по социальному отбору. Для остальных детей устраивали полевые колхозные ясли где-нибудь под деревом, под навесом или в амбаре, вывезенном в поле, невдалеке от бригады, чтобы кормящие матери не отрывались надолго от работы. Здесь за детьми обычно присматривали две старушки. Полевые ясли с их недостаточным питанием и грязью всегда производили самое безотрадное впечатление.
Во время уборочной обычно «выбрасывался» лозунг: «Ни одного колхозника в амбулатории!» Это означало: медработники – в поле! Колхозники не должны терять ни часа рабочего времени. В амбулаториях и больницах запрещалось принимать колхозника без записки бригадира. Медобслуживание бригад в поле заключалось в создании бригадных аптечек, постоянных наездов врачей и медперсонала с санитарными и лечебными целями. Не были забыты и докладчики для чтения лекций во время обеденных перерывов!
Это гигантский труд и с ним нельзя было бы справиться, если бы большевики не мобилизовали городских медработников, вплоть до профессуры. В городах создавались бригады из врача и сестры или фельдшерицы, которые направлялись на весь сезон в колхозы. Оставшийся в городах медицинский персонал в это время, конечно, перегружен, амбулатории переполнены, работа становится каторгой.
Живо помнится мне приезд к нам в станицу двух врачей и акушерки на уборочную кампанию. Заврайздравом был некогда кочегаром. Обрадовавшись появлению бригады, он хлопнул женщину-врача по спине:
– Здорово, девка! Хорошо, что приехала!
Та остолбенела. Но он быстро нашелся:
– Ты, кажется, с буржуйскими предрассудками? А мы здесь по-пролетарски!
Городские бригады не всегда приносили дельную помощь. Узкий специалист из клиники иногда назначался участковым врачом в отдаленный колхоз или совхоз. Один такой врач, никогда не имевший дела с глазными заболеваниями, закапал колхознице концентрированный раствор лекарства и вызвал слепоту. Пришлось ему спасаться бегством и ночью пешком добираться до железнодорожной станции.
Каждый выезд в бригады сопровождался тяжелыми душевными переживаниями. Угнетало уже одно сознание, что труд этот – принудительный. А тут еще вспоминаются картины насильственной коллективизации.
В обеденный перерыв бригада собирается возле кухни, становится с посудой в очередь, где бригадная кухарка разливает баланду. (Говорили: «Русское национальное блюдо – щи, украинское – борщ, советское – баланда».) В другой очереди получают хлеб.
Как только появишься в это время в бригаде, тебя обступают крестьяне. В течение четырех лет в разных колхозах, в разных частях страны я слышал одну и ту же жалобу:
– Посмотрите, доктор, чем нас кормят! Разве можно работать при таком питании? Раньше собак так не кормили!
Однажды я был командирован в колхоз, находившийся в сорока километрах от районного центра: оттуда шли непрерывные жалобы. Колхозники меня обступили с хлебом и посудой в руках:
– Хоть вы нам чем-нибудь помогите! Мы уже жаловались начальству столько раз… Оно сюда приезжает десятками, портфели только мелькают, а пользы от них никакой. Посмотрите, какой хлеб!
В черном вязком хлебе, который получали мы, попадались немолотые зерна, кусочки стекла, камушки, бывал и таракан. Но на этот было просто страшно смотреть.
– Скотину таким хлебом кормить нельзя, подохнет. А суп или борщ – неизвестно, что оно такое, смотрите: бурак и капуста, жира ни капли. Колхоз недавно свинью заколол, все мясо пошло начальству. Нам и попробовать не досталось.
Я составил протокол. А затем начались обычные просьбы о справке на молоко, на крупу для детей, о необходимости больничного лечения, об отпуске после перенесенной болезни. Женщины жаловались на плохое питание в яслях, на то, что нечем лечить детский понос. Двое мужчин просили их осмотреть, так как были не в силах работать.
Обеденный перерыв окончился, бригадиры закричали:
– Давай на работу!
И все постепенно разошлись, кроме двух больных. Составленный акт я передал в РИК. Через месяц от колхозников узнал, что им на весь колхоз прислали мешок перловой крупы, чем улучшение питания и окончилось.
Отсутствие мяса, жиров и удобоваримого хлеба было преддверием голода 1932–1933 годов. Уже в 1930–1931 годах люди недоедали, худели и едва справлялись с работой. Скот падал от недостатка корма, плохого ухода и болезней. Громадный аппарат, мобилизованный для проведения кампаний, ложился тяжким бременем на голодных крестьян. Никто из бесчисленных погонщиков и надзирателей не работал и не голодал.
На весеннюю путину в наш рыбколхоз приехало 17 ответработников. Даже сам предрыбколхоза, и тот жаловался мне на этих гастролеров, как саранча объедавших рыбаков.
Четверо из ответработников приехало из Москвы. На совещание с одним из них, женщиной, вызвали и меня. Нас было человек двадцать, члены комсомола, профсоюза, культотдела, рыбколхоза, апо райкома и другие. Москвичка стала читать нам план, составленный в Наркомпросе и спущенный до низовых организаций. В него входили и лекции, и библиотечки, и аптечки, и громкоговорители в море на «культбайде» или «культбаркасе»… План был на двенадцати убористых страницах. Ни о каком выполнении плана, за которым она якобы должна была наблюдать, не могло быть и речи. Планов была куча, у правления же была только одна мысль: как наловить требуемое Москвой количество рыбы. Члены совещания начали нервничать:
– Я сижу на третьем заседании, а у меня их еще два.
– У меня на девять часов назначено еще два заседания одно временно. Все равно это пустая болтовня… Чего она там читает? Как она думает выполнять этот план?
А никак. Партийка из Наркомпроса пускала пыль в глаза. Она изволила прибыть к нам с сынишкой на поправку и была занята выполнением только одного плана, плана самоснабжения, подобно другим высокопоставленным товарищам из райрыбтреста, рыб-синдиката, пищевого института, рыбтехникума, рыбколхозцентра, а также из облкома – остальных я забыл. Все они прибавили в весе за счет отнятого у рыбаков и запаслись ворованной красной рыбой и икрой…
Во время обеденного перерыва утомленных колхозников и рыбаков заставляли еще выслушивать лекции о финансовой кампании, о займах и их распространении, об агроминимуме, о стопроцентном выполнении уборочной кампании. Люди сидели как обреченные, никто не слушал. Как-то послали и меня с лекцией в одну бригаду. Уже заканчивал свое выступление завфинотделом. Когда он ушел, люди меня обступили:
– Доктор, это не для вас. Это вам не подходит. Это занятие только для этих босяков. Если спросят, скажем, что вы читали.
Я посидел с ними полчаса и уехал, довольный, что не пришлось кривить душой перед крестьянами.








