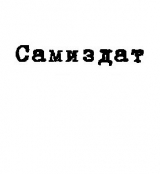
Текст книги "Звезда, которая никогда не заходит (СИ)"
Автор книги: Александр Рубер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
VI. Империя добра
...красный флаг СССР алел на востоке; не шепот Циммервальда, а грозный голос Коминтерна гремел над миром; отрывистый язык его воззваний к восстающим народам навсегда останется памятником тех героических времен.
Ф. Буданцев. «Эскадрилья Всемирной Коммуны»
Приближался праздник – праздник годовщины начала Эры Core. Нет, это был не Новый год – он все так же наступал в ночь с 31 декабря на 1 января, как и раньше. Годовщина начала Эры Core – она же годовщина Битвы Битв была особым случаем – днем, который праздновало все Core, с размахом, превосходящим все другие праздники. Здесь, в Советском суперсекторе, очень широко отмечался еще один день – годовщина Первой Великой революции, но, хотя он и был праздничным во всем Core, этот ноябрьский день все-таки был в некоторой степени местным праздником – если слово «местный» применимо, когда речь идет о шестой части всей суши на планете.
Роберту предстоящий праздник казался особенно интересным – в отличие от тех, кто вырос в Core, он никогда не видел ничего подобного. Праздники в Зеленом Союзе были другими... Он не ждал дня, свободного от занятий – учиться в университете было хоть и не просто, но настолько интересно, что желания лишний раз побездельничать просто не возникало – хотя Роберт всегда был занят чем-нибудь увлекательным. Но годовщина события, считающегося величайшим в истории – серьезный повод отложить в сторону все другие дела.
На погоду Роберт не жаловался. Конечно, в последнюю неделю она была дождливой и, по меркам тропиков, невероятно холодной, хотя морозы были еще впереди, но системы искусственного климата обеспечивали комфорт в помещениях, а крытые переходы между зданиями не давали промокнуть. Накануне Роберт в первый раз увидел снег – не на экране, а за окном своей квартиры. Снег был необычно ранним и обильным, но пролежать долго ему было не суждено – температура днем все еще оставалась выше нуля. Роберт сразу же решил исследовать это явление природы поближе, предварительно как можно более тепло одевшись. Не слишком разбираясь в зимней одежде, он проконсультировался с Сетью, но решил перестраховаться и выбрал очень теплую куртку с возможностью обогрева и регулировки температуры, способную согреть и в двадцатиградусный мороз.
Дорожки были вычищены роботами-уборщиками, но за их пределами было много свежего, пушистого снега, который к тому же прекрасно годился для лепки снежков и метания их в какие-нибудь цели – например, в роботов, чем не преминули заняться некоторые студенты. Роботы были рассчитаны на гораздо более серьезные воздействия, и поэтому забрасывание их снегом не возбранялось.
На Марсе, несмотря на идущее уже два десятилетия терраформирование, в атмосфере еще не было достаточно воды, чтобы выпадать в виде снега в таких количествах, хотя льда на полюсах имелось в избытке, поэтому Алиса тоже не отказалась изучить снег поближе, облачившись в теплую куртку с большим пушистым воротником, и отороченные мехом сапоги. Меха, разумеется, были искусственными, но технологии Core уже давно достигли уровня, при котором они и по внешнему виду, и по способности сохранять тепло не уступали самым лучшим натуральным мехам прежних времен, доступным лишь немногим.
На снег вышли посмотреть многие. Ирина, увидев Алису и подошедшего к ней Роберта, помахала рукой.
– Привет, Алиса! – сказала она, – привет, Роберт!
Алиса и Роберт в свою очередь поприветствовали Ирину.
– Вижу, вы оделись по погоде. Как вам первый снег? Я к нему тоже не слишком привыкла, хотя мне приходилось бывать на севере.
– Интересно, – ответил Роберт, – но необычно, воздух холодный. Я немного опасаюсь простудиться, но, наверное, я преувеличиваю.
– Простудиться невозможно, – сказала Алиса, – ты все-таки забываешь, что инфекционные заболевания в Core побеждены полностью. Настоящее переохлаждение нам не грозит, в особенности с такой одеждой, – Алиса еще раз взглянула на куртку Роберта, – обморожение – тем более, температура сейчас вообще выше нуля. Это не Марс с зимними полярными шапками из замерзшей углекислоты, там без брони делать было бы нечего даже при наличии пригодной для дыхания атмосферы – а ее пока тоже нет.
– Кстати, при каких условиях может понадобиться твоя броня на Земле? – спросила Ирина.
– Случаи, при которых возникает необходимость ношения силовой брони, – своим полушутливым лекторским тоном стала рассказывать Алиса, – можно разделить на две группы: суровые природные условия и наличие опасных для человека форм жизни, включая враждебно настроенных разумных существ.
Условия, при которых необходима броня, в этой местности в последний раз были больше девяти тысяч лет назад, в конце последнего оледенения, и сейчас остались только в северных районах Советского и Североамериканского суперсекторов, в Гренландии и в Антарктиде. А здесь этой куртки мне хватит даже зимой, если дополнить ее меховой шапкой, – к тому же она с подогревом, как и ваши. Что касается опасных форм жизни, – они здесь после Битвы Битв не водятся. Можно, конечно, иногда носить и силовую броню, для сохранения навыка, но облачение в нее – процесс непростой и долгий. И лепить снежки в латных перчатках можно, но сложно и неинтересно – они гораздо больше подходят для завязывания узлами стальных прутьев.
С этим словами Алиса размахнулась и запустила слепленный снежок в вершину декоративной каменной тумбы, установленной около дорожки. Координация движений значительно выигрывала от кибернетизации, а к земной гравитации Алиса к этому времени адаптировалась полностью, так что цель была поражена с безукоризненной точностью.
– Нагуливаете аппетит? – спросил подошедший Александр.
– Да, а еще рассуждаем о погодных условиях, – ответила Ирина.
– Надеюсь, что приехавшие из тропиков и марсианских городов чувствуют себя хорошо, я-то привык к намного более холодному климату.
– После тропиков ощущение необычное, но, думаю, я привыкну, – ответил Роберт.
– Киборги-пришельцы с Марса, – снова перейдя на лекторский тон, ответила Алиса, – предпочитают температуру 298-301 Кельвин и атмосферу с давлением примерно 101 тысяча паскалей30 и содержанием кислорода 21 объемный процент. При наличии теплой одежды мы способны совершать прогулки при значительно более низких температурах, но требуем качественного и вкусного питания, как минимум трехразового.
– Да, – согласился Роберт, – такие прогулки поднимают аппетит. Пора идти обедать.
После обеда друзья разговорились о своем детстве и о впечатлениях после приезда в университет. Александр рассказывал о бескрайних просторах Западно-Сибирского сектора и о поездках с родителями по всему востоку Евразии, Ирина – об огромном Североамериканском суперсекторе, от тропических лесов до покрытых вечными льдами островов, омываемых Северным Ледовитым океаном.
Роберт мог лишь в деталях описать остров Зеленого Союза – достаточно маленький, чтобы хорошо знать его весь, ведь при желании остров можно было объехать за день. Мир за его пределами был для Роберта громадным. Перенесшись сначала почти в центр Африки, он не уставал поражаться огромным пространствам и разнообразию ландшафтов планеты – экваториальной области, где он проходил подготовительные курсы, кажущейся бесконечной Сахаре, побережьям Средиземного моря – он успел мельком увидеть и африканское, и европейское, – южной и восточной Европе и, наконец, прохладному северо-западу Советского суперсектора. Море для Роберта было привычным, хотя, в отличие от большинства жителей Зеленого Союза, он относился к нему с некоторым опасением, а вот бескрайние пески пустыни и обширные леса (даже те из них, что сохранились на западе Советского суперсектора, казались Роберту огромными) были для него удивительны.
Алиса рассказывала про Марс – и про огромный потухший вулкан Олимп – одну из самых высоких вершин Солнечной системы, высотой более двадцати одного километра, и про долины Маринер – гигантскую систему каньонов на Марсе, протянувшуюся на четыре тысячи километров, шириной двести километров и глубиной до семи километров, и про первые поселения, и про более раннюю историю, частичку которой она видела на экскурсии к невысокому куполу, под которым, немного наклонившись, стоял небольшой ровер, колеса которого слегка погрузились в мягкую почву.
Для Алисы Земля была возможностью воочию увидеть то, о чем она читала и что видела на фотографиях, в фильмах и в системах виртуальной реальности. Ее восхищало то же разнообразие природных условий, что и Роберта, а еще – масштабы занятых жизнью и освоенных человечеством территорий, но не сами расстояния – что такое шарик радиусом немного меньше 6400 километров по сравнению с более чем 55 миллионами километров, разделяющими Землю и Марс даже в моменты их наибольшего сближения... Марс стремительно менялся согласно программе терраформирования, но пока еще люди на нем жили исключительно под куполами, бо́льшими, чем любые из построенных на Земле, но несравнимо меньшими, чем земные города. В университет она попала почти тем же путем, что и Роберт, сначала спустившись на космическом лифте с геостационарной орбитальной станции «Первая» – путь более длинный и долгий, чем последующее путешествие по поверхности Земли. Открывавшиеся во время поездки на маглеве виды зачастую приводили Алису в восторг не меньше, чем Роберта, – кроме красноватых каменистых равнин Судана и Сахары, которые казались в чем-то знакомыми и даже немного скучными. Море было прекрасным – Алиса знала, что увидит моря на Марсе, но это будет нескоро. А главное – здесь можно было гулять под открытым небом, не накрытым куполом (пусть и очень большим), чувствовать настоящий ветер, с которым все-таки не могли сравниться никакие системы вентиляции в куполах. Правда, ночное небо на Марсе с его пока еще разреженной атмосферой выглядело интереснее. А потом Алиса показала друзьям еще одну фотографию.
Фотография была сделана лет шесть-восемь назад – запечатленной на ней Алисе на вид было лет десять-двенадцать. Улыбающаяся Алиса, одетая в красное платье, уютно устроилась в высокотехнологичном кресле эргономичной формы, обтянутом светлым материалом, с массивными белыми подлокотниками со встроенными элементами управления непонятного назначения. Кресло, похоже, было расположено на орбитальной станции или космическом корабле – в большом иллюминаторе за спиной Алисы было видно лишь черное, усеянное звездами, небо, и ни следа марсианских пейзажей. Конечно, кресло было Алисе великовато, но свободное место не осталось незанятым. Рядом с ней на кресле устроилась мягкая игрушка – рыжий котенок, которого Алиса держала правой рукой. Игрушка довольно странно смотрелась в этом сверхсовременном интерьере – она не походила на те, к которым привыкли дети в Core и, похоже, была намного старше своей нынешней владелицы – такие перестали делать еще задолго до Битвы Битв. Из всех друзей только Роберту, выросшему в обществе, отвергнувшем высокие технологии, она не казалась архаичной, а просто старой.
...
В ночь перед праздником системы управления погодой обрушили из туч все осадки – и твердые, и жидкие – в воды Балтийского моря, так что ближайшие два дня обещали быть хоть и холодными, но сухими.
Алиса была хорошо знакома с историей Битвы Битв и с тем, как праздновали годовщины этого события. На Марсе этот праздник тоже отмечали, а трансляции с Земли были доступны на всех населенных небесных телах, но Алиса утверждала, что этот день особенный, – день, когда снова стало можно мечтать.
Основные мероприятия были запланированы на вторую половину дня (плавно переходящую в ночь, потому что некоторые зрелища, вроде грандиозного салюта, лучше смотрятся в темное время суток), поэтому пока студенты могли обсудить то новое, что они недавно узнали, или просто поболтать с друзьями – порой весьма необычными.
В Финский залив осторожно – из-за своих гигантских размеров – вошел линейный авианосец, носивший довольно-таки пространное полное имя «Неизбежное, скорое и окончательное возвращение Призрака». Многие из тех, кто был знаком с искусственным интеллектом корабля, обращались к нему кратко – «Призрак», впрочем, прекрасно понимая, «вернувшийся призрак» чего имеется в виду. В том, чтобы называть корабль по имени и разговаривать с ним, не было ничего не обычного. Центральный компьютер линейного авианосца, по словам Алисы, которая немного пообщалась (через Сеть, конечно) с «Призраком», вполне отвечал критерию разумности и с легкостью проходил тест Тьюринга31. У них явно имелись общие знакомые – мозг корабля, введенного в строй всего через год после Битвы Битв, знал многих выдающихся деятелей Core. После разговора Алиса сообщила, что через два часа можно будет собраться в кафе, пригласив Александра и Ирину, и всем вместе побеседовать с «Призраком». Роберт, уже привыкший к тому, что в мире есть другие, нечеловеческие, интеллекты, отреагировал на эту идею с энтузиазмом.
Перед обедом четверо друзей из клуба любителей космоса собрались в «Амазонском кафе». Меньше чем через минуту Алиса ответила на вызов по своему портативному терминалу, переключила связь на экраны, встроенные в столик, и Призрак материализовался в виде изображения головы довольно-таки добродушного зверя, напоминающего мультипликационного медведя.
– Это аватар Призрака, – прокомментировала Алиса, – не дайте картинке на экране ввести себя в заблуждение, он три метра в высоту и весит почти тонну.
– Но я очень пушистый и добрый, если вблизи нет врагов, – ответил Призрак, – больше того, в обозримом будущем достойных противников на Земле не останется и я перепрофилируюсь. Буду плавучей базой морских исследователей и строителей – хорошо защищенной, конечно, на случай особых обстоятельств.
– Участие в операции «Му» планируется? – спросила Алиса.
– Обязательно, – подтвердил Призрак, – именно в ней я и попробую себя в новой роли. Тем более, я уже частично демилитаризован.
– Отлично, – сказала Алиса, – у меня есть кое-какие мысли по поводу будущей практики ... но пока это только общие соображения.
Отмечавшийся праздник прежде всего знаменовал собой победу экономической системы Core, основанной на общественной собственности и научном планировании, над своим антиподом, поэтому разговор быстро перешел к историческим событиям, предшествовавшим Битве Битв, – и к существовавшим тогда экономическим воззрениям.
– Как я понимаю, годы перед Битвой Битв были временем всеобщего социального регресса? – спрашивал или, скорее, рассуждал Роберт.
– После Падения регресс был совершенно очевиден, поскольку он был общепланетарным, но он начался раньше, – ответила Алиса.
– Значительно раньше, – подтвердил Призрак, – после победы Великой Октябрьской социалистической революции, создания СССР и успехов первой пятилетки любое движение, не направленное к социализму, было регрессом. Тогда буржуазия прибегла к открытому террору, создав режимы, ставшие известными под общим названием – фашизм.
– Последнее средство? – спросил Роберт.
– Не совсем. Как известно, фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.32
– Но во второй половине XX века финансовый капитал стал полностью транснациональным, – подхватила Алиса.
– Именно, – сказал Призрак, – и шовинизм зачастую уже не требовался. Если идеи о превосходстве одних наций над другими и звучали, то обычно в качестве идеала подразумевались самые «свободные» и «демократические» страны – то есть или лидер империализма – Соединенные Штаты Америки, или страны, наиболее последовательно проводившие политику террора против трудящихся – вне зависимости от национальной принадлежности говорящего. Пропаганда в средствах массовой информации день и ночь проповедовала превосходство капитализма. Так появилась новая инкарнация старой системы – либерал-фашизм – открытая террористическая диктатура транснационального финансового капитала, опирающаяся, кроме всего прочего, на всепроникающую пропаганду, в том числе и декларирующую классовый мир.
– Пропаганда эта, конечно, была невероятно лживой и нелепой – добавила Алиса.
– Конечно, ведь, опять-таки, следуя заветам своего учителя, добивались не правды, а эффекта. В разных странах приверженцев либерал-фашизма называли – или они сами называли себя – по-разному. Распространенный термин – неолиберализм, хотя в России после Падения либерал-фашисты зачастую были известны как просто «демократы» или «либералы».
– Когда он возник? – спросил Роберт.
– Хороший вопрос. Часто вспоминают военный переворот в Чили в 1973 году и последующие «реформы», но на деле никакой границы не существует. Все ультрареакционные системы – от фашизма 20-х годов XX века до неолиберализма – плавно переходят друг в друга и представляют собой континуум. Они возникли сразу же после революции в России как попытка любой ценой подавить ее и предотвратить революции в других странах. От белогвардейцев и интервенции к германскому нацизму, а от него к неолиберализму идет неразрывная цепочка, иногда даже представленная одними и теми же людьми – между ними всеми существует глубочайшее родство. А либерал-фашизм просто принял эстафету у «классического» фашизма сразу после поражения его крупнейшего представителя в 1945 году.
– Помнится, во второй половине XX века получили распространение еще и такие безумные теории, как анархо-капитализм или либертарианство, которое, кажется, даже делилось на несколько течений, хотя различиями между ними я не интересовалась, – заметила Алиса, – не вижу смысла разбираться в разновидностях этой мерзости.
– И правильно, – одобрил Призрак, – поскольку все они отстаивали полную неприкосновенность частной собственности, отличия в других взглядах чаще всего не представляют даже академического интереса.
Впрочем, был один очень показательный принцип, предложенный одним из их мыслителей – «постулат о ненападении», гласящий, что нельзя совершать насилие или угрожать совершить его в отношении другого человека или его собственности. Иногда считалось, что из этого постулата можно вывести всю идеологию либертарианства, – рассказывал Призрак.
– Начало напоминает Первый принцип, – заметил Роберт.
– Совершенно верно – идей, прямо противоположных Первому принципу Кодекса, вообще почти никто не высказывал. Но вот конец первого предложения... Я думаю, вы догадываетесь, что грозит тому, кто попытается пропагандировать или, хуже того, воплотить в жизнь этот принцип в Core?
– Приговор Верховного Трибунала и высшая мера социальной защиты, смертная казнь за тягчайшее преступление против цивилизации – нарушение Нулевого принципа Кодекса, – не задумываясь, ответила Алиса.
– Да, – подтвердил Призрак, – и ты, Алиса, конечно же знаешь, почему – а что думаешь ты, Роберт?
– Из-за упоминания собственности, – высказал свою догадку Роберт, – учитывая то, что покушение на собственность в этом принципе приравнивается к покушению на личность, основное предназначение этого принципа – защищать тех, у кого есть собственность, от тех, у кого ее нет.
– ...чтобы поработить неимущих или вынудить их первыми нарушить этот принцип, – завершил Александр.
– Причем это не основное назначение принципа ненападения, а единственное, – заметила Алиса.
– Совершенно верно, – подтвердил Призрак, – все остальные философские построения – всего лишь информационный шум, создаваемый для отвода глаз.
– Как я понимаю, хотя пропаганда любых идей, рассматривающих возможность реставрации капитализма, строжайше запрещена, изучать эти старые заблуждения можно... – заметил Роберт.
– И нужно, – ответил Призрак, – Отравленный клинок как-то привел такое сравнение. Разница между исследованием истории капитализма и его пропагандой примерно та же, что и между изучением строения возбудителя чумы – бактерии чумной палочки – и намеренным заражением этой бактерией водопроводной системы. Первое дает новые знания и потенциально способно принести пользу, второе ведет к массовой гибели людей.
– По числу жертв – самая страшная идеология за всю историю человечества, – заметила Алиса,
– Причем с огромным отрывом, – добавил Призрак, – она привела к гибели на несколько порядков большего количества людей, чем все остальные, вместе взятые. Именно поэтому попытка ее распространения является тягчайшим преступлением против Кодекса.
Вскоре после этих слов в воздухе разнесся короткий сигнал сирены, протяжный и печальный.
– И в этот день мы вспоминаем всех тех, кто не дождался... – произнесла Алиса.
Сигнал прозвучал еще дважды, и ровно в полдень была объявлена минута молчания. Вспоминали не только павших в Битве Битв – вспоминали всех, кто не дожил, кто не смог реализовать свои мечты и талант, бесследно сгинув в борьбе за выживание – борьбе отнюдь не необходимой, но навязанной теми, кто составлял менее сотой доли населения планеты, но владел большей частью ее богатств...
После минуты тишины, в которую погрузился весь сектор, раздались первые звуки старинного, написанного еще в конце XIX века, реквиема.
Ближе к концу Роберт, читая текст на экране – он пока еще плохо воспринимал русский на слух – спросил:
– Это отсылка к какому-то преданию или мифу?
– Да, насколько я помню, – к одной легенде о падении Вавилона, – ответила Алиса, – а последнее четверостишие оказалось пророческим в наше время.
...
– В времена Первой попытки с пропагандой возврата к капитализму, похоже, боролись недостаточно. Я слышал, что в Советском Союзе были так называемые «диссиденты», – вспомнил Роберт.
– Были, уже во времена его заката, – ответила Алиса.
– Пятая колонна, занимавшаяся подрывной деятельностью и подталкивавшая страну к Падению, – добавил Призрак.
– Надеюсь, в Core таких предателей нет? – спросил Роберт, – мне нравится этот мир.
– Нет, – ответил Призрак, – мы их расстреляли.
– Помнишь обсуждение на семинаре? – спросила Алиса.
– Помню.
...
На семинаре, который вел уже хорошо знакомый студентам Архитектор Прогресса, они разбирали несколько основных законов, как когда-то действовавших, так и проектов и даже вымышленных документов из фантастических литературных произведений. Одним из них оказался проект, написанный незадолго до Падения.
Алиса быстро читала текст и иногда комментировала его вслух.
– Бессмысленный набор общих фраз, – заметила она, – а вот это настораживает, конвергенция социалистической и капиталистической систем принципиально невыполнима, если речь не идет о фактическом восстановлении капитализма.
– Снова набор общих фраз, – продолжала Алиса, – а вот плюрализм категорически недопустим. Платное медицинское обслуживание? Дело идет к явному нарушению Нулевого Принципа.
– Теперь уже совершенно явная подготовка Падения. Речь идет о капитуляции, разделе и ликвидации Союза. Потом десяток статей, вообще не содержащих никакой полезной информации.
– А вот теперь все предельно ясно, – сказала Алиса, добравшись почти до конца документа и прочитав 39-ю статью, – тягчайшее нарушение Нулевого принципа, прямой призыв к восстановлению капитализма, причем ничем не ограниченного. ВМСЗ33.
– А что можно сказать о цели всего документа? – спросил профессор.
– Это она и есть, – ответила Алиса, – капитализм. Все остальное – или обслуживание его реставрации, или своеобразная дымовая завеса, шум для сокрытия реальных целей.
– Похоже, ты права, – ответил Роберт, – а ведь начало было довольно безобидным.
– Да, я согласен с Алисой, – сказал Александр, тоже закончивший читать. Пропаганда возврата к предыдущей формации в чистом виде.
– Так и есть, – подтвердила Ирина.
– Очень хорошо, что вы это видите, – сказал профессор, – ведь конечная цель наших семинаров – не только понять ход социального прогресса. Кроме этого, вы должны научиться безошибочно распознавать его врагов.
...
Мысли Роберта вернулись в кафе, когда Алиса продолжила рассуждать.
– Пятой колонны внутри Core сейчас действительно нет, но за его пределами еще остались те, кто хотят повторения Падения, и каждый из нас не должен терять бдительность. Я много читала об истории мира до Битвы Битв и о самой Битве, и я заглядывала в темную бездну прошлого. До тех пор, пока хоть один из врагов ходит по Земле – на других планетах их, к счастью, нет – Битва Битв не завершена.
– И дело не только в бесчеловечности капитализма, – добавил Александр, – он стал тормозом любого прогресса.
– Это верно, – подтвердил Призрак, – несоответствие производительных сил и производственных отношений – вследствие хорошо известного закона, существование которого, кстати, отрицалось идеологами «рынка» – приводило к все большему и большему торможению развития общества, в том числе к сознательным попыткам приостановить или даже обратить его вспять. Кстати, в условиях идеального «свободного рынка» технический прогресс остановится полностью по очень простой причине – долговременный прогресс невозможен без фундаментальной науки или вообще долгосрочных исследовательских программ, а «свободный рынок» и наука уже хотя бы середины XX века, не говоря о современной, несовместимы.
– А почему они несовместимы? – спросил Роберт.
– Это элементарно, причем настолько, что либертарианцы просто обходили этот вопрос. При идеальном «свободном рынке» существует так называемая «совершенная конкуренция». Вообще-то и то, и другое реализоваться в принципе не может, но поверим адептам «рынка» на слово – в конце концов, это модель. При совершенной конкуренции все компании работают на грани прибыльности. Фундаментальные исследования требуют вложений на длительный срок, а конечный результат в принципе невозможно предсказать. Компания, которая будет вкладывать средства в расчете на неизвестную отдачу через десятилетия, либо разорится сразу, либо будет вынуждена поднять цены для компенсации издержек и будет вытеснена с рынка конкурентами. Роль государства либертарианцы хотели свести к минимуму или вообще его упразднить. Налоги в такой системе должны были отсутствовать. Вывод: фундаментальная наука при «свободном рынке» и отсутствии других (не частных) средств финансирования существовать не может. Вообще.
– То есть «свободный рынок» означает полный отказ от прогресса?
– Совершенно верно, – подтвердил Призрак, – даже если не принимать во внимание все жертвы этой идеологии, одного лишь этого вывода достаточно, чтобы уничтожить саму идеологию и всех ее активных сторонников. Речь идет о судьбе цивилизации.
– Кстати, к слову о связи социальной и технической прогрессивности, – добавила Алиса, – анархо-капитализм прекрасно укладывается в эту схему – он крайне регрессивен по обоим показателям, потому что не имеет возможностей для развития ни общества, ни науки.
– Верно. А между тем, скоро парад, – заметил Призрак, – советую через минуту выйти наружу и посмотреть на небо.
– «Багровый сумрак» все-таки подняли из трюма? – догадалась Алиса.
– Да. Ему потребуется меньше часа, чтобы долететь до Москвы, и сейчас он появится над университетом.
Друзья выбежали на улицу. Быстро нарастая, над университетским комплексом послышался глубокий, низкий рев, от которого, казалось, дрожала сама земля. Огромный сверхтяжелый штурмовик-бомбардировщик, полетный вес которого достигал тысячи тонн, можно было рассмотреть во всех деталях, пока он, набирая высоту и скорость, прошел точно над центром университетского комплекса.
– Впечатляюще, – нарушила молчание Алиса, провожая глазами уходящую на юго-восток гигантскую машину с красными звездами на крыльях.
– Он давно не участвовал в боевых действиях? – спросил Призрака Александр, когда друзья вернулись в кафе.
– Уже пять лет, – ответил Призрак, – со времени операции в районе Африканского рога.
– Парад в Москве начнется через час, так что можно посидеть в кафе еще, – сказала Ирина, – кстати, про анархо-капиталистов с либертарианцами. Они, помнится, не любили государства и крупные корпорации, считая, что весь бизнес должен быть частным.
– Попытка вернуться в «золотой век» капитализма, доимпериалистическую эпоху, в середину XIX века, когда еще почти не было корпораций-монополий, – ответил Призрак, – заодно отменив минимальные зарплаты, пособия, правила охраны труда и пенсии.
– И бесплатное образование, – добавила Алиса.
– Они считали, что не должно быть ничего бесплатного, – заметил Призрак, – некоторые додумывались до частных охранных агентств взамен полиции, частных армий, частных судебных компаний и так далее.
– Возврат в домонополистическую эпоху – невыполнимая идея, – сказал Роберт, – ведь в некоторых отраслях производства небольшого масштаба просто невозможны.
– Да, попробуйте-ка сделать маленький завод по производству микропроцессоров, или пассажирских самолетов, или крупнотоннажных судов-контейнеровозов, – согласилась Ирина.
– Идея, конечно, безумная, но единственный логичный, исходя из материалистического понимания истории, вариант им совсем не нравился, – ответил Призрак.
– Кстати, о государстве, – заметил Роберт, – понятно, что в Core оно принципиально отличается от государств, существовавших перед Битвой Битв, и со временем оно должно отмереть. Интересно, когда?
– Когда Core охватит всю Землю, когда исчезнут классы и люди окончательно забудут о частной собственности и пропадут даже мысли о каких-бы то ни было попытках реставрации капитализма, – тогда государство заснет, – ответила Алиса, – но процесс угасания может занять десятилетия, может быть, даже века. Но меня вполне устраивает и существующее положение дел.
– Потому что это наше государство, выражающее наши интересы?
– Конечно. Помнится, королю Франции Людовику XIV приписывают выражение: «государство – это я.» А мы с полным правом можем сказать: «государство – это мы.»
– Я слышал, в мире до Битвы были очень распространены боязнь слежки со стороны государства и стремление к анонимности, в особенности в Сети, – заметил Роберт, – теперь, как я понимаю, боятся того, что компьютерным системам известно про нас все, от местонахождения до состояния здоровья, нет смысла, – ведь это наши системы.
– Разумеется. До Битвы Core было глубоко законспирированной организацией, использующей все возможности криптографии для того, чтобы оставаться безликой и неуловимой силой. Разрабатывались и методы ведения войны в киберпространстве, и аппаратура и алгоритмы для боевых роботов, и методы шифрования и сокрытия данных в Сети и многое, многое другое. После же Битвы Битв Core создало систему, способную осуществлять, как сказали бы раньше, тотальную слежку. Но в этом нет никакого противоречия. В обществе, где государство выражает интересы капитала, многие люди стремятся к сокрытию информации о себе – потому что, заполучив эту информацию, капитал будет использовать ее против них, как минимум в виде навязчивой рекламы, а как максимум – для устранения неугодных. В обществе же, где ликвидирована эксплуатация, слежки стоит бояться только врагам. Нам осведомленность системы идет только на пользу, – ответил Александр.







