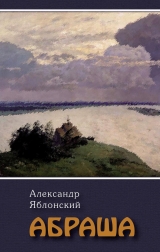
Текст книги "Абраша"
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
* * *
Мысли у Абраши были действительно странные. То есть сначала он думал об Алене, и мысли эти были скорее грустные. Он искоса посматривал на нее, на прядь волос, на прижатые к подбородку руки, стиснувшие край одеяла, прислушивался к ее ровному, почти неслышному дыханию и понимал, что теряет, возможно, самое дорогое в своей второй жизни. Впервые за последние девять с лишним лет Абраша всерьез задумывался, а почему бы ему не жениться.
Потом он увидел занесенную снегом избушку, одиноко темнеющую в бескрайнем снежном пространстве. Ему всегда очень хотелось оказаться в таком маленьком изолированном мирке, в хорошо натопленной, чуть угарной избе посреди холодного безлюдного мира. Часто, засыпая, представлял он, как усталый, замерзший возвращается в это свое убежище, стряхивает снег, облепивший его бороду – в этот момент он всегда представлял себя с густой бородой, которую в реальной жизни никогда не носил, – снимает тулуп, валенки, вносит охапку дров из предбанника, растапливает печь в доме, а затем в баньке, протирает влажной тряпкой дощатый, грубо сколоченный стол, вынимает из погреба квашеную капусту, соленые огурцы, грибы, открывает банку тушенки, вываливает ее содержимое в кастрюлю и вместе с отварной картошкой ставит на печь. Бутыль с самогоном он вынет позже, после парилки, чтобы не потеряла она свою морозную прелесть. Изба прогревается… А за окном метет, завывает, темень.
Сейчас же в углу, за печкой, на кадке кто-то сидел. Лица ее Абраша не видел, но он знал, кто это.
– Ты бы одобрила?
– Конечно. Давно пора. Засиделся.
– А как она?
– Блеск. Лучше не найти.
– Ревновать не будешь?
– У нас здесь не ревнуют.
– А вы?
– Сыночек, твой выбор – наш выбор.
– Она вам нравится?
– Она же тебе нравится.
– Нет. Я ее люблю.
– Конечно. И мы ее полюбим.
Абраша понимал, что голоса эти не могут звучать, их не было и не могло быть, потому что и его жена, и его родители уже давно умерли. Но он, услышав их, не удивился. Более того, он ждал их.
Абраша умиротворенно подумал, что он же спит, и это ему снится, и хорошо бы не просыпаться, но это невозможно… Он не был до конца уверен, что это сон, и для верности попытался открыть глаза. Глаза у него открылись, но голоса не исчезли. Значит, проснулся во сне, такое бывает, – обрадовался он и продолжил такой важный для него разговор.
– Она будет ждать тебя, встречать после твоих дежурств в этой занюханной сельской больнице. Ты по-прежнему там медбратом?
– Да, мам. На полставки.
– Ну, как ты можешь! С твоим-то образованием, с красным дипломом, аспирантурой, диссертацией.
– Оставь его, слышишь, оставь. Он уже большой мальчик.
«Папа всегда меня защищает», – улыбнулся Абраша и тут же сообразил: разве во сне улыбаются!? – Значит, он просыпается. И действительно, еще одно усилие и глаза открылись. Оказалось, что он проснулся в своей детской кроватке. Комната была заполнена призрачным светло-розовым воздухом, который рассекал ярко-желтый солнечный луч, высвечивая плотную смесь мельчайших пылинок. Интересно, пылинки ведь тоже имеют какой-то вес, пусть малипусенький, но вес, однако они не опускаются, а неподвижно зависают в воздухе. Странно… Потом он подумал, что во сне нельзя так ясно мыслить. А что есть сон, что – явь? Может, когда он спит, это и есть настоящая жизнь? Высокий, знакомый до мельчайшей трещинки потолок, окаймленный причудливой лепниной – верный спутник его детства – казалось, опустился ниже, бережно прикрывая его. Всё стало на свои места: раз он в детской кроватке, значит – еще маленький, поэтому голоса мамы и папы действительно могут звучать… В дальнем правом углу потолка причудливая комбинация орнамента лепнины, пыли, теней и трещин образовала странное лицо – в детстве Абраша боялся этой незнакомой физиономии, внимательно смотревшей на него своим одним глубоким темным глазом. Сейчас же он не испугался, а даже обрадовался, как старому знакомому. «Ну, вот, опять ты со мной». Его «приятель» изменился: у него появился второй глаз – потолок был высокий и пыль там не протиралась, наверное, со времен блокады. Это же Цицерон – радостно догадался Абраша, – пусть слушает, коль охота… Цицерона он никогда ни во сне, ни наяву не встречал, но решил – Цицерон. Может, непропорционально большой мясистый нос, нарочито широкий у основания, свисавший над короткой надменно опущенной книзу верхней губой – типичный латинский анфас, спровоцировал это решение, а может, дело было в том, что Цицерон был одним из постоянных участников интеллектуальных баталий, разыгрывавшихся в воспаленном ночном сознании Абраши.
– И у вас, может, все-таки появятся дети…
– Да, мы бы хорошо жили… если бы жили… с ней легко, спокойно. А если бы с ребенком не получилось, мы бы взяли собаку – большую бездомную дворнягу…
– Правильно!
– И она бы сияла от свалившегося на ее голову счастья.
– Ты прав, родной, собака – самый преданный друг, она никогда не позволила бы случиться…
– Не надо об этом.
– А если родится мальчик…
– Или девочка…
– Ты кого хочешь?
– Я жить хочу.
Что-то зеленое, похожее на гигантский мыльный пузырь… или не пузырь, скорее, на медузу, стало вырастать из-под пола, неудержимо заполнять комнату, подбираться к нему, поглощая ножки кровати, стало трудно дышать, вернее, Абраша не смог вдохнуть воздух, как будто он был под водой или в комнате, из которой каким-то образом – каким? – выкачали воздух, стало жутко, он вскрикнул во весь голос, но беззвучно, как в вату, покрылся холодным пóтом и открыл глаза.
Алена глубоко вздохнула и перевернулась на другой бок. Впрочем, если с ребеночком и получится, собаку нужно в любом случае взять в дом… И все-таки странно – мысли Абраши сделали нелепый разворот, – странно: тысячелетиями законы – традиции не нарушались ни на йоту. И в одну ночь – сразу все. Причем, странности начались раньше. Еще с изгнания менял из Храма. Кстати, откуда это – «ни на йоту»? «Йота» – буква греческого алфавита – « ι ». Откуда это выражение – «ни на « ι »? Да черт с ним… Почему, почему они всё нарушили, в первый и в последний раз за тысячелетия? Именно тогда…
Цицерон не исчез, он только переместился и присел на край кровати. Алена даже не заметила. Поразительно, всё же, не сплю, вот Алена рядом посапывает… А этот старый мудак-краснобай тут как тут. Но и на сей раз Абраша не очень-то удивился. Он понял, что не спит, а находится в том, хорошо ему знакомом, состоянии между сном и бодрствованием, когда исчезают галлюцинации сна, но и реалии суетного быта не мешают спокойно мыслить, как бы беседуя с самим собой. «Ну а теперь у меня и собеседник появился»…
– Здорово, старый антисемит.
– Quousque tandem! (До каких пор!)
– Ну, прости, прости, хотя ты действительно антисемит! На суде доказано!
– Concretus!
Конкретно базар устроили. Наутро Абраша попытался вспомнить свои речи, но не смог. Однако во сне сам удивлялся, какой он умный, и какая у него латынь – наяву он знал лишь пару слов. Он припомнил этому Цицерону и про инвективы в процессе Флакка, за что краснобая выгнали из Рима, и его антииудейские выпады типа «евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе, евреи рождены для рабского состояния». Марк Тулий в долгу не остался: «Testimonium paupertatis! Хватит пить из гнилых источников – на вашем варварском языке нет ни одного перевода моих речей в защиту Флакка! Посмотрите немецкие или английские переводы, глупец! Вы переводите TURBA , как “шайка” а это – “толпа”». – Какая толпа, какая шайка? – Только через несколько дней Абраша вспомнил известные слова Цицерона: « Ты знаешь, как велика эта ( еврейская ) шайка, сколько в ней спайки и как она сильна ». Как это всплыло во сне? – Абраша в долгу не остался – тонкий знаток оказался: «согласись, если бы Флакк присвоил, мягко выражаясь, не еврейские пожертвования Храму, а проявил бы другие злоупотребления, ты выступал бы на стороне обвинения, как было с сицилийским губернатором Варресом – как ты блестяще его обличал, как клеймил. С Луцием Валерием Флакком – всё наоборот, преступления по сути те же, но его ты защищаешь». Тут взорвался Цицерон: «что вы знаете о партии Катилины, которая во что бы ни стало пыталась очернить и меня и Флакка – своих кровных врагов, что вы знаете о толпе на Аврелиевых ступенях – об еврейских вольноотпущенниках, мощно пополнявших ряды популяров, ненавидевших нас, что вы вообще знаете… horribile dictu». Короче, поговорили…
«Кажется, я схожу с ума, – подумал Абраша. – Точно, был такой сумасшедший в каком-то смешном романе, выдававший себя за Марка Тулия Ци…» – церон обиженно выпятил свою высокомерно оттопыренную пухлую нижнюю губу и исчез.
«Как это могло произойти», – продолжал свои размышления Абраша уже в полном одиночестве. Алена мирно спала рядом. Больше никого в комнате не было. Абраша стал осторожно подминать руками под спиной подушку – так было легче дышать.
* * *
Впервые об Ариадне Скрябиной Николенька услышал от папы. Разговор зашел о Корчаке, о котором Николенька собирался писать сочинение. Это было, кажется, в начале 10-го класса. Тема сочинения была задана без затей: «Твой идеал». Мама сказала, что надо выбрать какого-либо литературного героя из школьной программы, может, Болконского, может, Левинсона («ты спятила» – это папа) или, или… найти еще один идеал мама не смогла. Папа, как всегда, заспорил – они с мамой любили спорить – хлебом не корми, – а Николенька обожал жадно слушать эти споры под низко висящим темно-оранжевым абажуром. Так вот, папа сказал, что лучше выбрать реальную историческую фигуру, скажем, кого-нибудь из декабристов, Лунина, например, или Фонвизина. Николенька выбрал Корчака. Собственно, он не выбирал. Это имя пульсировало в нем уже второй день, а история этого человека перевернула всё его сознание, все оценочные критерии и жизненные принципы.
Случилось это, как ни странно, на уроке математики. Лера Павловна пытала у доски Олю Ченкину. Оля была девушка красивая, добрая, но очень глупая и по жизни, и, особенно, в точных науках. Промаявшись минут десять у доски, она, наконец, не выдержала и сказала – ни к селу, ни к городу, давясь слезами и опустив покрасневшее, сделавшееся сразу некрасивым, лицо: «За что вы меня… нас так не любите?»… Лера Павловна резко обернулась и уставилась на Олю. Та, по воцарившейся в классе тишине – даже Абрамян перестал списывать у Кольчужкина – и по выражению лица Леры Павловны, почуяла, что ляпнула что-то совсем уж не то. «Садись», – быстро сказала Лера – или «Марина Влади», как звали ее за глаза ученики – длинные русые волосы, синие, чуть раскосые глаза, струящиеся под строгим облегающим платьем очертания фигуры – колдунья! Она подошла к окну и долго смотрела на зеленые купола Спасо-Преображенского собора, прекрасно видные из окон их класса. Такой тишины в 10-м «А» не было со дня основания 182-й школы. Потом Лера Павловна обернулась лицом к классу и непривычно тихим голосом стала рассказывать о Корчаке. Что-то Николенька про этого учителя и писателя, погибшего вместе со своими учениками, уже слышал, но то, что и как рассказывала «Влади», его поразило, как и поразили последние слова Лера Павловны, произнесенные уже после незамеченного звонка с урока: «Звучит, наверное, нелепо, но я бы не смогла поступить иначе». Она сказала это шепотом, но так убедительно, что не поверить в это было невозможно. Бедная красивая Ченкина заплакала. Николенька сжался и в одно мгновение стал взрослым.
Он попытался найти в библиотеке данные о Корчаке. Нашел: «Интернат» с предисловием Крупской – раритет, 20-е годы, «Когда я снова стану маленьким». С удовольствием прочитал «Короля Матиуша Первого» и понял того офицера, который предложил Корчаку покинуть толпу обреченных.
Вот и сейчас он стал рассказывать родителям то, что они, папа уж наверняка, знали, но они слушали его внимательно, заинтересованно.
– Удивительный человек, – после долгой паузы сказал папа. – Удивительный… Нормальный…
Мама застыла с ложкой варенья в руке, недоуменно уставившись на папу.
– В извращенном бесчеловечном мире – нормальное поведение есть подвиг. И Корчак – великая личность именно потому, что свои принципы он имел мужество претворить в бесчеловечных экстремальных условиях реальной жизни.
Папа надолго замолчал. Он сидел, подперев голову руками так, что подбородок лежал на сплетенных пальцах, и неотрывно смотрел сквозь стену… Мама молчала, опустив голову и беззвучно помешивая ложкой пустой чай – она считала, что сахар укорачивает жизнь, а ей хотелось жить долго.
– … Права твоя «колдунья», невозможно поступить иначе… Как можно бросить этих птенцов, прильнувших к тебе… Я бы бросил тебя? Ужас мучительной смерти… Ужас… Наверное об этом не думаешь… Ведь немыслимо бросить своего ребенка в несчастье, оставить испуганных детей одних в пломбированном вагоне, в газовой камере…
Старинные напольные часы пробили половину следующего часа, и все от неожиданности вздрогнули. Папа беззвучно стал шептать, чуть шевеля губами, мама встревоженно на него посмотрела и взяла за руку.
– Нет, ты не волнуйся, я с ума не схожу, просто я думаю, – папа опять замолчал. Молчал долго. Потом, медленно выговаривая каждое слово, сказал:
– А ведь он был последним офицером, кто носил в годы оккупации – демонстративно, вызывающе – мундир Войска Польского. Хотя до войны он лежал у него пронафталиненный в сундуке… и это дорогого стоит… Невозможно представить, как это страшно идти в печь… И невозможно… как он их воспитал – это не меньший подвиг… Воспитать детей, которые выстраиваются по четверо и, развернув зеленое знамя Матиуша, идут на мучительную смерть… Дети… 200 человек… Откуда у них такое мужество, такое чувство собственного достоинства – ведь никто не пытался спрятаться, бежать, просить пощады… Они лишь жались к нему… Как можно было их бросить…
Ника был уже не рад, что завел этот разговор. Подбородок у папы подрагивал, губы были плотно сжаты, он мял кружевную скатерть, но мама его не одергивала, хотя в другой час, болезненно любя порядок и чистоту, устроила бы небольшое «Ледовое побоище».
– Я, пожалуй, напишу на другую тему, – перевел разговор Ника. – Действительно, декабристы – это интересно. Не их идеи, а личности. Например – молодой Бестужев-Рюмин и Муравьев-Апостол. Ведь поразительно: Бестужев не увлекся идеями Муравьева, он увлекся его личностью, влюбился, что ли. И на виселицу они шли вместе, только в самый последний момент перед казнью Бестужев ослабел и заплакал, и Муравьев обнял его, так они и пошли на эшафот, обнявшись… Толстого этот сюжет волновал, я читал.
– Да, да, ты прав, – быстро подхватила мама, и папа кивнул головой. – Подумай об этом. Это хорошо.
Потом разговор иссяк, мама стала убирать со стола, папа долго смотрел в газету, и только в самом конце вечера он вдруг сказал:
– Пойти на муки ради конкретного человека, ради конкретных детей, это я понимаю, восхищаюсь, преклоняюсь, боготворю. Но вот идти на верную гибель ради абстрактной идеи, абстрактной нации…
– Человечества…
– Человечества, Тата, и здесь нечего иронизировать и комиковать!
– Так я не… – испугалась мама.
– Да, во искупление грехов человечества, и Христос поэтому высочайший нравственный идеал, помимо всего прочего. Но я говорю о наших современниках, из плоти и крови, таких же, как мы. И этого я понять не могу, примерить на себя не в состоянии. Это – запредельно…
– Ты о ком?
– К примеру, Ариадна Скрябина.
– Это родственница композитора?
– Его дочь.
– Никогда не слышала.
– А в России о ней никто не слышал.
* * *
Разговоры, разговоры… Из пустого в порожнее. Иудеи, православные. Сын Божий… Что они знают о Сыне Божьем? Что они вообще знают? И веруют ли? А если веруют, то во что?! В то, чего нет, чего быть не может?! Если бы Он был, то откуда текут реки крови во славу Его? Если Он есть, то как допустил, что народ, давший Его, веками проклинался, истреблялся, облыжно поносился во имя Его? – По сей день в православных церквах на Страстную неделю иудеев «сонмищем богоубийц» именуем и призываем обрушить гнев Господен на их головы! Если бы Он был, разве вытерпел бы всё это всесильное убожество, которое почитает себя господами, а по сути – самовлюбленные рабы? Разве вытерпел бы меня – служку этих убогих негодяев? – Или нет, наоборот – их повелителя, их создателя, Демиурга Моего маленького, но такого послушного мира, режиссера их судеб… Я – господин, я – свободный человек! Иль смрадный жирный червь? Если Ты есть, то помоги мне, помоги не сойти с ума, помоги отделить плевелы от пшеницы, любовь от предательства. Ведь люблю я их! И нет никого ближе их – и гублю… Но всё есть ложь и пустые слова. Никогда не было любви, всепрощения, братства во Христе. И быть не могло. Всё есть ложь. Было и есть лишь предательство, зависть, похоть и гордыня. И так будет всегда. Из мрази выползли, в мразь и превратились. В мразь и уйдем. В рабстве зачаты, в рабстве живем и гордимся этим. Вовенарг сказал, что рабство принижает людей до любви к нему. – И это так. Но – не про меня. Ибо… Папенька любил эти слова. Говорил, что и граф Лев Николаевич их ценит. Повторял это, возвращаясь от Ильи Ефимовича. Маменька ругалась, что он приходил пьяненький из этих «Пенатов». Давно это было, в другой жизни. В настоящей, чистой, безгрешной. В Куоккала… Господи, если Ты есть, спаси меня, я погибаю.
* * *
Среда, февраль, 11 числа, 3 часа пополудни .
...
Здравствуйте, дорогой Семен Бенцианович!
Третий день валяюсь в кровати. Слава Богу, сегодня температура нормальная. Где я подхватила этот грипп, понятия не имею. По причине сего «тяжкого недомогания» не смогла встретиться с Вами во вторник. Простите великодушно! «Наши» вторники – и заседания кафедры, и последующие беседы tête-à-tête – для меня «праздник души». На сей же раз интеллектуальная фиеста была заменена норсульфазолом, аспирином и прочей гадостью, которую погружала в мое молодое бездыханное тело преданная Нателла. Однако, несмотря на телесные передряги, мой мозг бодрствовал, результатом чего стало это послание, которое я передаю с моим другом Николаем Ср-вским. Вы, наверное, его помните: я вас познакомила на юбилее Сигизмунда Натановича.
Итак. Первое. Докладываю. На сообщении Синельникова присутствовала. Как послушная девочка сидела и молчала. Губки бантиком сложила и глазками на него постреливала: «нос – угол – объект, нос – угол – объект». Нет, он – хороший парень, добродушный, веселый, незлобивый. Скуповат, так это от постоянного безденежья. По-моему, не стукач, что уже хорошо. На нашем истфаке – редкость. То, что комсомольский активист, это не самое страшное. Я сама – комсомолка. Просто ему очень хочется сделать карьеру, вырваться из общаги, но главное – по складу своего ума, по уровню культуры, по воспитанию или благодаря «генам» – он не может избавиться от стереотипов, воспитать «свежий взгляд»; он искренне верит во всесилие официальных прописных истин и свою работу строит на пересказе этих «истин», обогащая их некоторыми новыми документами (подчас интересными), но ни в коем случае не противоречащими «заданной теме». По-прежнему действия Болотникова это – «крестьянская война» против «социального неравенства», «воодушевленная идеей борьбы за справедливость», сам Б. – «предтеча» Разина и Пугачева (а там, гляди, и…). Короче, читайте школьные учебники по истории.
Я – девушка послушная и свое обещание сидеть и молчать, как партизан, выполнила. Но обещания не писать я не давала. Посему послала записку (анонимно, анонимно!!!), в которой очень вежливо вопрошала, какого рожна «народный герой» связался с Михалко Молчановым в Самборе. Многоопытен был Иван Исаевич, не мог не знать, хотя и посидел на галерах у турок, что убийца сына и вдовы Годунова – прохвост, заваривший не одну интригу с «Лжедмитриями»… Голубчик Петрушечка мою записку прочитал – я точно видела, но не ответил. Ну, так я ему, сердешному, еще одну послала: мол, какая же это крестьянская война, ежели крестьян-то было ничтожное меньшинство, народ, как известно, своего защитника в «воеводе царевича Дмитрия» не признавал, да и заправляли этой «крестьянской» катавасией Ляпунов, Трубецкой и Ко – отнюдь не простолюдины. Реакция была аналогичной, но я немного развлеклась. Ну да Бог с ним, с Синельниковым (как, впрочем, и с Болотниковым). Просто я доложила Вам, что слово свое сдержала: «не высовывалась» и «гусей не дразнила», как Вы и приказывали.
Теперь о главном. Накопилось много вопросов, которые мне необходимо выяснить. Надеюсь на Вашу помощь. Первое. «Записки» Джерома Горсея. Понятно, что это – ребус, язык которого понятен лишь современникам автора, причем круга двора Елисаветы Тюдор. Общеизвестно о Горсеевых неточностях, произвольных трактовках, а то и измышлениях. Но… Вряд ли он придумал ночной визит Афанасия Нагого. Афанасий, кстати, был дядей царицы Марии, а не братом, как пишет Горсей. Но эта ошибка объяснима и простительна. Спорно другое: считалось (см. Берри и Крамми), что А. Нагой умер в 1585 году, будучи сослан в Ярославль. Однако Р. Г. Скрынников убежден, что Нагой был жив во время угличских событий и вообще активно существовал в политической жизни 90-х годов («Бор. Годунов и царевич Дм.» – «Исследования по социально-политич. истории России». Л., 1971, с. 188). Ваше мнение? Что интересно: Афанасия Нагого в Угличе не было в день убийства. Его даже не привлекла сыскная комиссия. – Почему, кстати? – В любом случае, он важный свидетель предыстории убийства. Далее. Как он мог узнать столь скоро о трагедии? Главное в этом узле: если Афанасий просил бальзам для Марии Нагой, почему он не вернулся в Углич с этим снадобьем? Не просил ли он его у Горсея для другого человека (раненого царевича(!?))… За этот вопрос цепляется целая серия: к примеру, почему нет допросных листов Марии Нагой или свидетельства врачей… Однако самое загадочное: как мог Афанасий Нагой – «тертый калач», с умом острым, опытом богатым – недаром Грозный использовал его в сложных дипломатических интригах – как он мог допустить столь скорую расправу над предполагаемыми убийцами, не попытавшись выйти на «заказчиков» этого дела?! И последний сегодня вопрос: несоответствие в возрасте между (Лже)Дмитрием и Отрепьевым. «Ин-ператору» Димитрию Ивановичу было в это время 23–24 года – это документально подтверждается, в частности, и письмом папского нунция в Кракове Рангони. Григорию Отрепьеву было лет на 10–12 больше: в 1597 году он был в дьяческом чине, по церковным правилам этот чин давался не ранее 29 лет, стало быть, в 1605 году ему было как минимум 36 лет! Как могли пройти мимо этого неоспоримого факта не только пылкие литераторы, но кропотливые ученые???
Короче. Как Вы догадываетесь, я абсолютно уверена, что Лжедмитрий и Отрепьев – разные люди, хотя, бесспорно, сам Отрепьев замешан в этой истории, причем, играл он в ней весьма активную роль. Более того, склоняюсь (пока лишь склоняюсь ) к гипотезе, высказанной Якобом Маржаретом, зафиксированной и поддержанной B. С. Иконниковым («Кто был первый Лжедмитрий», «Киевские Университетские Известия», 1864, № 2) и получившей окончательное оформление в работах гр.
C. Д. Шереметьева (Председателя Российской Археологической комиссии): «Лжедмитрий» – выживший царевич Дмитрий, сын Ивана IV.
Что у нас нового на кафедре? Я уже заскучала без наших сплетен, интриг, признаний в «любви» (как Вы это ненавидите, я знаю). Но – жизнь прекрасна, даже в этих наших истфаковских проявлениях. Вы как-то заметили, что я всё время порхаю «в идеалистических стратосферах» – как бы не грохнуться в болото реалий! – Не грохнусь. У меня счастливая планида. Возможно, в скором времени доложу Вам о некоторых ненаучных изменениях моей молодой жизни.
За сим кланяюсь.
Ваша непутевая Ира Владзиевская.








