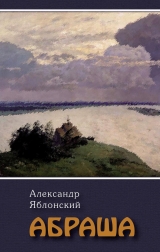
Текст книги "Абраша"
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
* * *
…Почему в одну ночь нарушили все главные, неприкосновенные заповеди – законы? И нарушили самые мудрые, самые ортодоксальные законники – Избранные! Они не только нарушили всё, что было можно, они фактически обрекли себя, причем не от рук римлян, а от рук своих единоверцев! Обрекли, но не погибли. Почему? И не важно сейчас, кто из них был «за», кто «против». Хотя нет, и это важно, но эта деталь не принципиальна. Гамалиил и Никодим обессмертили себя. Это точно – других имен мы не знаем, или почти не знаем, или знали, но забыли. Но сути это не меняет. Независимо от решения вопроса, перевернувшего мировую историю, все они жили в традициях, которые были незыблемы со времен Авраама…
Абраша прислушался к ровному дыханию Алены. Ему очень хотелось встать, пойти на кухню и выпить холодного пива – последнее время что-то жгло его внутри, он часто пил и прохладная жидкость приносила облегчение, но лишь на мгновение. Впрочем, и ради такого мгновения стоило жить и терпеть. «Встать – не встать?» Встать очень хотелось, но в таком случае Алена неминуемо проснется, они не заснут – это уж точно, а ей завтра весь день воевать со своими оболтусами. Надо терпеть. Христос терпел…
Он устроился поудобнее, миллиметр за миллиметром, бесшумно медленно и осторожно организовал свое тело в полусидячее положение, поправил подушку, приспустил одеяло – стало легче дышать, ненавязчивая боль отпустила, жжение уменьшилось.
Абраша довольно улыбнулся. Когда он улыбался, его лицо преображалось: угрюмость, напряженная внутренняя сосредоточенность исчезали, сменяясь очарованием хитроватой смущенности и беззащитной открытости. Алена особенно любила его в такие редкие моменты, но сейчас она спала, мерно посапывая, да и в комнате было темно, лишь серебристый отсвет лунного сияния, сместившись с пряди ее волос, застрял на медной дверце маленькой голландской печи.
Алена всхлипнула во сне и пробормотала: «Бис-сектриса-са-са…»
Сказать, что эта проблема взволновала Абрашу совсем недавно, было бы ошибкой. Еще в детстве, слушая разговоры старших, а затем, взрослея – особенно в студенчестве и в аспирантуре, живя в мире страстных ночных, не всегда трезвых споров, жадно поглощая насыщенный интеллектуальный «бульон», которым был пропитан мир «молодого» филфака, впитывая в себя весь невероятный, казалось бы, нежизнеспособный в силу разнонаправленности, несовместимости его составляющих, но, при всем при этом, органичный и целостный, мятущийся, подавляемый извне, но неистребимый дух университетской элиты, которая как-то сразу и естественно вовлекла его в свой узкий круг, и, наконец, позже – вплоть до этой ночи – то есть, тогда, когда он познал самый удивительный, самый чистый и отрешенный от мирской суеты оазис человеческого бытия, лишенный ненужных эмоций, амбиций, экзальтаций – оазис под названием «Книга», – то есть, всю свою, или почти всю свою сознательную жизнь Абраша мучительно пытался понять, а если даже не понять – ибо понять это, думалось ему, невозможно a priori, если не понять, то хотя бы чуть приблизиться к разрешению этой проблемы. Спроси он меня, что, конечно, и представить невозможно, так как я с Абрашей знаком никогда не был, но все же, спроси он меня: «Как бы ты маркировал ее, эту мою проблему, эту занозу, сидящую во мне, не дающую спокойно спать, да и жить тоже?», – я сформулировал бы так: «Оболганные».
Оболганными он считал и людей, особенно в русской истории, и нации, и цивилизации. И доминирующее место в его сознании, в его дневных изысканиях и в мучительных ночных бессонных раздумьях занимал вопрос: «Почему в одну ночь они нарушили все главные, неприкосновенные заповеди – законы, традиции, к которым никогда не прикасались ни руки человеческие, ни дуновения исторических перемен, которые не корректировались даже в малейшей степени трагическими мировыми катаклизмами или нависавшими угрозами уничтожения их цивилизации?» Как ни странно, но окончательно эти вопросы сформулировались в случайном разговоре с Аленой. Это был их первый спокойный и серьезный разговор.
* * *
Где-то в середине пятого курса за несколько месяцев до окончания Военмеха перед последней парой в коридоре к нему подошел декан – тишайший и благовоспитаннейший Пантелеймон Афанасьевич и, не глядя, как обычно, в глаза, чуть картавя, попросил зайти в Первый отдел. «У меня же…» – начал было Николай, но Афанасич, еще больше отводя глаза в сторону, поправляя воротничок несвежей рубашки, морщинисто стянутой засаленным галстуком вокруг тонкой шеи, совсем шепотом произнес: «Вы всё же зайдите». «Ну, вот и всё» – пронеслось в голове и сразу пересохло горло.
После школы Николай поступил в Военмех, набрав 24 балла из 25. Это было здорово. Он вообще учился всегда хорошо, но поступить в Военмех было чрезвычайно престижно, так как требования там были заоблачно высоки, отбирались лучшие из лучших, и многие медалисты с треском проваливались, он же, блеснув на всех экзаменах, кроме литературы, где, впрочем, никто не получил высшей оценки, был сразу же замечен и отмечен. Самое поразительное то, что, казалось, никто не обратил внимания на его анкетные данные. Николай был уверен, что репрессированный отец перечеркнет его надежды учиться в одном из лучших вузов страны, но, несмотря на все уговоры многочисленной родни и друзей, он не стал умалчивать про своего отца, которым он, не скрывая, гордился, и написал правду: «осужден по статье 58. 10». – Сошло! Но вот сейчас, через пять лет аукнулось.
В предбаннике Первого отдела, будто поджидая его, стоял сам Каждан. Начальника этого всесильного и всевидящего отдела боялись все. Он был высок, неулыбчив, неизменно подчеркнуто вежлив и немногословно зловещ. Однако сейчас он как-то усох, в его облике появилось нечто неуловимо лакейское, и он, неумело улыбнувшись, открыл перед Николаем дверь: «Проходите, Сергачев, проходите». Просторный, всегда темный кабинет казался пустым, и Николай обернулся на Каждана, который как-то робко вошел за ним, но стоял у двери, не шелохнувшись, лишь склонив голову и сделав непонятный жест правой полусогнутой рукой, обозначавший не то «кушать подано», не то «а вот и мы». В этот момент от дальней стены отделился человек в темно-сером – под цвет лица – костюме и, кивнув Николаю, по-хозяйски сел на место Каждана. «Ну, так я пойду, дел много», – просительно – вопросительно сказал Каждан. – «Конечно», – не глядя, бросил незнакомец, и тяжеловесный начальник Первого отдела на цыпочках, чуть подпрыгивая, просеменил к столу, схватил какую-то папку и, так же, пританцовывая, бесшумно прошмыгнул к выходу. Серолицый неторопливо встал, подошел к дверям, плотно закрыл наружную, обитую утеплителем и кожей, а затем внутреннюю дубовую, и, даже не взглянув на Николая, бесшумно вернулся в свое кресло.
«В конце концов, я обо всем написал, ничего не скрыл, – проносилось в голове, – если они сразу не разглядели, я не при чем. Что еще?» Гебешник, а то, что это высокий чин из Большого дома, не вызывало сомнения, продолжал внимательно изучать какую-то бумагу, не замечая маявшегося Николая, который не знал, подойти ли к столу, сесть, – нет, садиться без приглашения было немыслимо, – или так стоять… Казалось, что это никогда не кончится. «Изматывает меня. Зачем?» В голове проносилось: никаких разговоров он не вел – Военмех – это тебе не гуманитарный вуз или, не приведи Господь, филфак или истфак, здесь не болтали; книг ненужных не держал – не то, что Солженицына, Пастернака в доме не было, и не потому, что боялся, а просто не интересовался… что еще…
Невзрачный, тусклый господин откинулся на спинку кресла, снял очки, вынул из кармана ослепительно белый на фоне серого костюма, серых стен, серого лица носовой платок и стал, близоруко прищурившись, неторопливо протирать стекла. Затем он неожиданно застенчиво улыбнулся и с доброй лукавинкой спросил:
– Любите джаз?
«Вот оно! – Николай обомлел. – Но ведь джаз разрешен! Сейчас его всюду играют…»
– Вайнштейн нравится?
– Да…
– Вы его в Мраморном слушаете?
– Нет, в «Промкооперации»…
«Зачем я это ему? Что он хочет? За джаз ведь уже не сажают и даже не исключают… Может, новые директивы?..»
– Мне Вайнштейн тоже нравится, хотя Лундстрем звучит лучше.
– ?
– Нет, Вайнштейн стильнее, вольнодумнее, я бы сказал, не так ли, Николай?
– Не знаю. Я танцевать хожу… Редко, правда… Последний курс, как-никак…
– Понимаю… Но вам он нравится?
– Да, вообще…
– Простите, забыл представиться. Меня зовут Матвей Борисович. Вы знаете, Вайнштейн часто выбирает музыку, которую сам играть не может. Вот Эдди Рознер этого не позволяет. Всё сам играет, черт полосатый. А свингует Лундстрем лучше их всех, не правда, ли? Да и начал он свинговать раньше Вайнштейна. Хотя, что там говорить, до американцев им далеко!
Николай хотел было кивнуть, но вовремя сдержался: «Не хватает только низкопоклонство продемонстрировать. Провоцирует».
– А вы выдержанный юноша. Это хорошо! – серолицый надел очки и сразу потерял свой располагающий добродушный вид, так подходивший его имени – отчеству. Он смотрел в упор, взгляд стал острым, с губ стерлась мягкая застенчивая улыбка.
– Вы, я думаю, догадываетесь, откуда я.
– И не пытался. Если надо будет, вы мне сами скажете, – Николай старался подавить нараставшее раздражение и, с другой стороны, не поддаваться обаянию силы, исходившего от этого внешне спокойного человека.
– Хороший ответ. Мы не ошиблись.
«Господи, о чем это он»…
– Маленький вопросик. По анкетке.
«Ну вот, досвинговались».
– Вы знаете, что такое «ПР»?
– Не-е, – протянул совсем сбитый с толку Николай.
– «ПР» значит: «пишется русский». То есть, к примеру, вы, опять-таки, к примеру, по отцу русский, а по матери, скажем, э-ээ… еврей, или монгол… хе-хе, – смешок у серолицего был сухой и недобрый. – Так что человек записался в шестнадцать лет русским, а на самом деле он – чучмек, так сказать. Понятно?
– Ну-у…Понятно.
– Ну, а если понятно, скажите, пожалуйста, Николай, как вас по батюшке, – Владимирович, мама ваша, кто по национальности была? Матушка ваша…
– Русская… А какое это имеет…
– Да никакого. Просто здесь – у этих долбоё… простите, у этих… помечено на вашем деле: «ПР». Вот и хочу разобраться. Итак, вашу матушку, царствие ей небесное, звали Татьяна Абрамовна – не так ли?
– Так.
– Ну, а ежели так, то какая же она русская, коль скоро батюшка ее – дед ваш был евреем? Абрамом, так сказать.
– Насколько я знаю, мой дед был из староверов. А у староверов…
– Знаю. Вот мы всё и выяснили. Впрочем, проверим…
Он опять снял очки, стал внимательно, не торопясь их протирать ослепительно белоснежным батистовым платком, совсем по-домашнему вытянулся в огромном старинном кресле с дубовыми подлокотниками в виде львиных лап, стал походить на доброго стареющего дедушку, устало расслабившегося после очередного проигранного матча «Зенита» московскому «Спартаку» – «Ох, Бурчалкин, Бурчалкин, из такого положения…» Припухшие веки, смущенная улыбка, блуждающая по усталому серому лицу, постукивающие знакомый ритм пальцы – всё это никак не склеивалось в сознании Николая с испуганно подпрыгивающим начальником Первого отдела, с его согнутым локтевым суставом: так изображались в фильмах, типа «Юность Максима», половые в старых трактирах…
– Сколько раз смотрели «Серенаду Солнечной долины», много?
– Много.
– А сколько?
– Да я и не считал.
– А я – четыре. Да садитесь вы, чего стоите, как неродной.
«Догадался, сволочь», – Николай с облегчением сел – присел на кончик стула. Ноющая боль чуть отпустила поясницу, но разогнуться он не смог.
– Гленн Миллер – это класс! А вы говорите: «Вайнштейн!»
«Ничего я не говорю», – промолчал Николай.
– У Вайнштейна кларнет в оркестре совсем не звучит.
«Pardon me, boy / Is that the Chattanooga choo choo?» , – неожиданно стал напевать серолиций, у него оказался приятный глубокий баритон, хитроватая улыбка, казалось, говорила: «присоединяйся, коллега», и Николай не мог устоять перед обаянием этого неожиданного человека, он стал покачиваться в такт любимой мелодии и ритму, точно воспроизводимому нервными пальцами его собеседника. « Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, / Вся семья моя покрыта рыжим волосам», – крутилось в голове. Визави подмигнул Николаю, и в этот момент он отчетливо вспомнил – всем своим нутром почувствовал давно забытую притягательную силу, исходившую от Шишкина-папаши, вернее, от того клана, к которому этот спившийся, дурно пахнущий сосед по дому каким-то боком принадлежал, и свое тайное подспудное тяготение к этому Ордену сильных людей, внушающих страх, соединенных знанием некой тайной истины и обетом взаимной выручки, тяготение, как он сейчас понял, никогда не оставлявшее его, диктовавшее никогда ранее так отчетливо не проявлявшееся желание быть членом этой Семьи и уже не леденеть от ужаса при одном упоминании тишайшим деканом имени Каждана, а самому внушать трепет, страх и надежду на справедливость…
– Короче, – очки влетели на привычное место, недобро блеснув и тут же погаснув, – будем сотрудничать? – этот вопрос прозвучал с такой утвердительной интонацией, что дать отрицательный ответ было невозможно. Впрочем, Николай и не хотел возражать.
– Да, – выдохнул он, и серолицый, не ожидая ничего другого, без всякой паузы продолжил:
– Стало быть, поедем в Минск. Да не паникуйте, Военмех вы, конечно, закончите. Нам нужны люди образованные.
– ?
– Ну а потом в Минск. Подучиться вам надо. Чудный город. Рядом с Высшей школой КГБ, кстати, есть Архитектурный техникум, а там хорошеньких девушек – пруд пруди. Нет, нет, я знаю, вы – юноша принципиальный, однолюб. Так что со временем ваша Наташа к вам приедет, и будете вы как два голубка, хэ-хэ, гулять. Там недалеко парк Горького, а чуть дальше, мостик перейдете, и – парк Янки Купала. Такой тенистый, с укромными уголками. Прелесть.
«Всё они знают», – опять подумал Николай, но без страха, а, скорее, с восхищением и даже гордостью. С Наташей он встречался всего полгода, ничего серьезного не было, никто, даже друзья особого внимания на этот роман не обращали, а Они – знали! Они всё знали!
– Ну, вы пока идите. Разговор, как вы понимаете…
– Понимаю.
– Понятливый юноша. Идите. Да, а про папеньку вы правильно написали. Ничего от нас скрывать не надо. Вы знаете, от чего он умер?
– От острой сердечной недостаточности.
– И это правильно отвечаете. До встречи.
«… Pardon me, boy / Это Читтануга чу-чу» – «Да, да, это Читтануга… Track twenty-nine…»
* * *
Если бы не завезли в тот день в поселок полукопченую колбасу, и если бы «бабка Арина» не застала Абрашу дома, он бы не познакомился с Аленой, а если бы и познакомились, то совсем при других обстоятельствах и, соответственно, с другими последствиями.
На Абрашиной памяти полукопченую колбасу раньше не завозили. Старожилы вспоминали, что после войны к ним не приезжала автолавка, а был собственный магазин, и было в том магазине «всего завались»: икра паюсная, и зернистая, и семга, и белорыбица, и колбасы сырокопченые, и шпроты, и миноги по осени, и корюшка свежая по поздней весне, и балык, и сыры голландские, и швейцарские, и кефир, и ряженка, и хлеб свежий «кажный день». При Сталине это было. Жили тогда в поселке ветераны «органов», потом большинство съехало либо на «Серафимовское» либо на «Охтинское», а наиболее жилистые – в специализированные клиники и пансионаты. Из «прошлых» остался один Кузьмич, но и он был особый «особист» – полвойны просидел у немцев – сначала в каком-то их штабе, потом, когда засветился, в тюрьмах и лагерях, а после войны восемь лет отдыхал на Родине – в Магаданском крае, где и лишился одной руки. При Никитке с продуктами в поселке «похужело», а при нынешних – «хоть шаром покати». Да и поселок почти вымер – чего зря возить, товар переводить. Впрочем, Абраша всем этим россказням о послевоенном рае не верил, так как рассказчики, были, по его авторитетному мнению, «сталинисты сраные».
«Бабку Арину» в поселке уважали. Во-первых, потому, что она почти в поселке не бывала, а если появлялась, то наездами со своим мужем Викушей. Так что во всех дрязгах она участия не принимала, ни с кем из-за телеги конского навоза не враждовала, драки по поводу куба хорошей березы не устраивала и не ходила по дворам с монологами, коими славилась Зинаида Федоровна, о том, что «сено, как пить дать, Клещеевы спиздили, бляди, однозначно». К слову сказать, Арина, что и муженек ее Викуша, таких слов и не знали, видимо, – во всяком случае, никогда не употребляли, чем приводили поселковых в недоуменное восхищение. Во-вторых, на земле она не возилась: ничего не сажала, ничего не копала, не удобряла, не собирала, как и Викуша, то есть, по мнению местных, являлись они чем-то вроде убогих, а к убогим у людей всегда симпатия была. В-третьих, «бабка Арина» с супругом до изжоги любили всякую живность, особливо собак, и посему, все четвероногие обитатели «Курносовки» сбегались в скособоченный домик на самой окраине поселка, где всегда находили себе и «стол, и дом». Это ценилось. Наконец, сама Аринушка писала книги. Книг этих никто из поселковых не читал – поселковые, кроме Абраши и Николая, вообще книг не читали, но сам факт соседства с известным писателем, хоть и бабой, поднимал до заоблачных высот авторитет всех жителей, как в собственных глазах, так и в глазах всего округа – а округ был большой: пять заброшенных дачных поселков плюс почтовое отделение, местная больница и убыточный совхоз «Заветы Ильича». Сам Ким Косодрочилов – местный авторитет, великовозрастный ученик ассенизатора и, по совместительству, ветеринар, говорил, что «ну это же, блин, это ж люди. Не то, что вы все, козлы, ё-мое». И, действительно, они – бабка Арина с мужем – были обходительны, неизменно вежливы, участливы и открыты к любым просьбам. Плюс сама «бабка Арина» была очаровательной женщиной лет сорока. А это, согласитесь, – большая редкость в наших широтах.
Так вот. Эта Аринушка и забежала к Абраше, чтобы сказать о завозе полукопченой колбасы. Она симпатизировала Абраше: они были почти ровесники, любили одни книги, смотрели одни фильмы, хотя Арина, конечно, и читала, и видела больше Абраши, но вкусы их, как правило, совпадали, и они часто беседовали на умные темы.
Абраша моментально собрался. У пня, к которому причаливала автолавка, уже собралась приличная очередь. Абраша был пятнадцатым. Его сразу же взбесило, что в очереди были не только поселковые, но какие-то хмыри-алкоголики из «Заветов». «Они же не закусывают, козлы, – прошипел ему на ухо Фрол, – чего приперлись, мудозвоны?». Отпиздить бы надо, – размечтался Абраша. Но «заветовских» было на одного больше. Потом приехала автолавка. Суровая Фатима сразу же вывесила объяву: « По адной палки в руки. Двадцать палок ». Абраше явно хватало, но он уже заразился общей взвинченной нервозностью и напряженной готовностью к любой неспровоцированной стычке. Перед ним стояла Настя. Они перебросились парой слов, Абраша даже пошутил, насчет ее щек, которые со спины видны. Настя, улыбаясь, послала его подальше. И всё было бы хорошо, но вдруг к Насте подошла какая-то городская и пристроилась. «Это моя сестра», – нахально заявила Настя. «А ты на нее занимала?» – взвилась Зинаида. «Занимала», – отрезала Настя. «А кто знает?» – «Да вот он», – указала Настя на Абрашу. Абрашу уважали, поэтому выжидательно уставились на него. Но Абрашу уже понесло, нервный тик наэлектризовал его подбородок, и он, плохо понимая, что говорит, прорычал: «Ни хера она не занимала». Переполнявшая его ненависть непонятно, к кому, и непонятно, почему, требовала выхода, и он уже не соображал, что Настя – один из его немногих друзей в этом поселке, и что Фатима всё равно большую часть товара утаит и затем продаст ее втридорога – сам Абраша покупал у нее по вечерам после закрытия лавки этот «дефицит», он не видел испуганных глаз сестры Насти – в них был не только ужас, но и удивление, и разочарование, и отчаяние, и беспомощность, он, понимая где-то в глубине, что эта несчастная палка колбасы с давно просроченным сроком реализации, никого не спасет и никого досыта не накормит, понимая это, он всё равно что-то бормотал о какой-то справедливости, о хамстве, о жлобах, заполонивших его жизнь – «уу-у с-суки позорные»… Что было дальше, он плохо помнил. В висках колбасила черная кровь, лиц он уже не видел, непреодолимое желание смачно, чтобы хрустнула переносица, ударить кого-либо в физиономию топило его, и он сорвался. Кажется, он стал выталкивать Настю и перепуганную ее сестру из очереди, девица поскользнулась в грязевой жиже и упала бы, если бы ее не поддержали чьи-то руки, Настя вцепилась одной рукой в лацканы его засаленного пиджака, другой – стараясь расцарапать небритое лицо, он было замахнулся, чтобы ударить ее наотмашь по лицу… наверное, и ударил бы, кто-то заголосил сиплым голосом, но вмешался Кузьмич. В некогда темно-зеленом, а ныне пожелтевшем от времени кителе с заправленным в карман левым рукавом, орденом «Красной Звезды», который, казалось, сросся и с кителем, и с самим Кузьмичом, обросший серой трехдневной щетиной, которая никогда не уменьшалась, но и не увеличивалась, с плотно сжатыми губами, он вырос перед Абрашей, Абраша замахнулся на него… Кузьмич не дрогнул и руку Абраши не перехватил, хотя мог бы – своей одной, но мощной рукой он действовал молниеносно и точно. Но он не ударил и не отвел удар. Он стоял и смотрел в упор. Абраша лишь запомнил его посиневшие от напряжения губы и почти такие же серые, белесые от ненависти глаза. Абраша сразу же обмяк. Ударить однорукого инвалида войны он не смог. «Да подавитесь вы своей колбасой», – выкрикнул он, непонятно кому. Настя стояла рядом, прижав руки к груди, и с ужасом смотрела на него, ее сестрица куда-то исчезла. «Подавитесь, – почти беззвучно ответила Настя, – сволочи, все сволочи». Абраша, спотыкаясь и не разбирая, куда ступает, проваливаясь по щиколотку в лужах, ринулся к своему дому.








