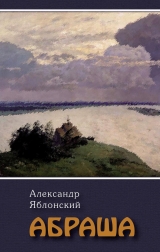
Текст книги "Абраша"
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Гражданин следователь, кажется, что вряд ли здесь самое подходящее место для богословских дискуссий.
– Вы правы. Очень хочется надеяться, что мы продолжим эту занимательнейшую беседу в другом, более располагающем к откровенности месте. Я же лишь констатирую: вы не только против нас, вы – против ваших же духовных наставников…
– Гражданин следователь, и наставники – разные, и иерархи – разные, и Православие – неоднородно. Да и священство – на разных берегах: одни с 19-го года по тюрьмам, лагерям и другим узилищам мыкаются, не говоря уже о расстрелянных или потопленных, другие же, действительно, вы правы, шагают вместе с вами, под вашу команду. Истина же одна – не распинали иудеи Иисуса, и не кричали – не могли кричать: «распни Его!».
– Ну, хорошо, это я оговорился. А Иуда – тоже римлянин? А первосвященники – что, древние греки? И кто Пилата обломал? – Хохлы? А «распни Его, распни», хорошо: не «распни» – «убей Его!» – кто кричал – армяшки? Я, дружок мой, тоже книги читал. Нами же и запрещенные! И радио, вам, конечно, неведомое, слушаю: и «Голос Америки», и Анатолия Максимовича Гольдберга… Вы, естественно, это имя никогда не слышали… Да не бледнейте вы. Не собираюсь я вас по этой теме раскалывать. Слушаете, так и слушайте на здоровье это вранье. Меня больше интересуют другое… Вернемся… Чай небось остыл… Так о чем это мы толкуем? Да… Евреи, евреи, Александр Николаевич, Иисуса на крест, на мученья послали. Это – факт, так сказать…
– Гражданин следователь, вы сказали – «не под протокол», «разговор по душам»?
– Ну конечно, я вам свою душу раскрыл, а вы всё темните. Только вот сейчас, слава Богу, разговорились…
– Я знаю, что здесь вопросы задаете только вы.
– Правильно знаете. Но сейчас – не допрос.
– И я могу вас спросить?
– Валяйте, Александр, свет, Николаевич!
– Вы – коммунист?
– Естественно, я – член партии. А как это соотносится с темой нашей беседы?
– Сейчас отвечу. Стало быть, вы – атеист?
– Естественно.
– Стало быть, Бога нет?
– Ну, прямо – «Золотой теленок».
– И сына Божьего нет?
– Нет, и не было. Ни Бога, ни Сына, ни дяди его. Наши космонавты всё небо обследовали – ничего, пустенько! К чему вы это всё?
– К тому, гражданин следователь, – получается интересно. Христа не было – ведь так? А евреи его распяли, пусть не распяли, но послали на смерть? – Как такое может быть – предать смерти того, кого не было? Не вы первый: многие не верят, что Иисус существовал, но все убеждены, что евреи его распяли…
– Да… Вы – интересный человек. Мне говорили, что вы умный, интересный человек… Интересный человек. Опасный… Заходи. Уведи арестованного. Одну секундочку, Александр Николаевич, одну секунду. Вы – умный человек, это – точно. Только ум у вас какой-то странный. Однобокий ум-то. Меня хорошо подловили. Один – ноль. Ценю и поздравляю. Но вот сообразить, что у вас есть семья, вы не смогли. Сын Коленька, кажется? В какой школе? – не отвечайте, я знаю, у меня записано. И жена у вас – Наталья. Тата, как вы ее зовете дома. Верно ведь? Такая высокая шатенка, грудь большая, мечта мужчин… Жаль… Интересный вы дядя… Уводи.
Блядь. Сука. Пидор… Алло! Алло! Алёушки! Серегин, привет. Кострюшкин на проводе. Как делишки, как детишки? Что? Да ты никак уже бухой. А… отгулы. Завтра выходишь? Молоток. Слушай, тут у тебя в «Четверке» новый сидит. Точно… Точно… Так ты скажи своим, пусть его прессанут. Не-е, не по полной… совсем калечить не надо. Да… и чтобы на всю жизнь. Без следов, как всегда. Пока. Оттягивайся. Татьяну целуй…
Урод! Ур-роды, все, блядь, уроды…
* * *
Витёк в тот день получал аванс, поэтому Толян ждал его с особым нетерпением. Очень оттопыриться надо было.
* * *
«… Молитесь, пани, за Вашего доблестного мужа. Геройски он в город вошел, геройски и погиб. Вся его рота простилась с миром и предстала перед Господом с чистой душой. Ваш же супруг, по-моему, в начале октября отошел. Не запятнал он себя ничем, и воины его не уронили чести своей. А голод был страшный. Еще в сентябре побили кошек и собак, и воронье, и всякую другую живность, поели коренья и траву, пока снегом не покрыло землю эту проклятую. Кто-то запасся догадливо – тем поначалу полегчение вышло. У пана же Неверовского – мужа Вашего – запасов никаких не было, поэтому он и его солдаты первыми ушли в мир иной, не успели они грехом великим покрыть головы свои. /Коммент.: Роты хорунжего (? проверить звание) Неверовского первыми вошли в Кремль и заняли там оборону. Солдаты Неверовского двигались в походном порядке, налегке, без запасов еды, денег и зимнего обмундирования, рассчитывая на скорую поддержку войск, посланных Сигизмундом Ш. Все подчиненные Неверовского и сам командир погибли, прежде всего, от голода. – И. В./ А позор пал на всю рать, хотя и позором это не назовешь, потому что на все предложения сдаться ответствовали с гордостью – “Нет и нет, И спасет нас наш Король, слава Сигизмунду!” А писал нам в сентябре дни 17-го сам князь их Пожарский. Сам читал, потому что, как Вы знаете, толмачом был и переводил: “Полковникам Стравинскому и Будзиле и всему рыцарству, черкасам и гайдукам, которые сидят в Кремле, князь Пожарский челом бьет! Ведомо нам, что вы, будучи в городе в осаде, голод безмерный и нужду великую терпите, ожидаючи со дня на день своей гибели. И нече вам за неправду души христианские губити, голод и нужды терпеть, и присылайте гонцов не мешкая, тем сберечь головы ваши и животы ваши в целости, и возьму грех на душу свою и отпущу безо всякой зацепки в свои земли, кто захочет, а которые государю московскому службу служить задумает, тех жаловать будем по-достоинству”. Не долго думали полковники и казачьи атаманы со старшинами. Полковник Йосиф Будзила и Трокский конюший Эразм Стравинский от ротмистров, порутчиков и рыцарства отписали: “Мать наша – отчизна, дала нам в руки рыцарское ремесло, научила нас, чтобы мы прежде всего боялись Бога, а за тем имели к нашему Государю и Отчизне верность, были честными, и в каких бы землях ни был кто-либо из нас военных, чтобы всегда действовал так, чтобы мать наша никогда не была огорчена его делами, а напротив, чтобы приобретала бессмертную славу от расширения ее границ и устрашения всякого из ее врагов…” /Коммент.: Мозырский хорунжий Иосиф Будзило (Будило) – скорее белорус, то есть русский или украинец, живший на территории современной Белорусской ССР, нежели поляк, – с сентября 1607 года находился на службе у Лжедмитрия Второго – «Тушинского вора». В январе 1612 г. перешел в подчинение к Сигизмунду III, во главе отряда которого вошел в Москву в сентябре 1612 года. Вплоть да середины декабря того же года держал осаду в Кремле. Известен, прежде всего, своими воспоминаниями. См.: «Дневник событий, относящихся к Смутному времени (1603–1613 гг.), известный под именем Истории ложного Димитрия (Historya Dmitra falszy wego)». «Русская историческая библиотека. Т. 1. СПб. 1872». 7 ноября 1612 года под честное слово сохранить жизнь и «содержать в чести» сдался на милость победителей. Перешедшим «под руку» кн. Пожарского действительно сохранили жизнь, разместив пленных по казематам крепостей Нижнего Новгорода, Балахны, Ярославля, Унжи и др. В «таборах» Трубецкого ограбили и перебили почти всех пленных. Самого Будзилу «того же года 26 декабря, в самый день Рождества Христова привезли в Нижний Новгород. Вместо того, чтобы держать их в чести, как присягали бояре, их посадили в избу [съезжую], а слуг засадили в тюрьму, и всех их намерены были ночью перетопить, но княгиня – боярыня, мать вышеупомянутого Пожарского упросила хлопство, чтобы имели уважение к присяге и службе ее сына. (…) Того же года 31 декабря, накануне нового года, хлопы – Нижегородцы засадили г. Будила со всеми его людьми в каменную тюрьму, очень темную и смрадную, в которой они сидели 19 недель». «Русская ист. библ.», там же. – И. В./ « Ответствовали с достоинством и без лести и не сдались. За это Господь снимет хоть малую толику греха с душ наших. Жили, как воины, и ушли из суетного мира с достоинством, не сдаваясь врагам нашим. А грех велик был. Ибо, когда совсем невмоготу стало, начали людей побивать и с тем питаться. Девок гулящих, что к воинству пристали, первых поели. Я сам не видел, но, говорят, всех этих заблудших побили. Потом свершили совсем богопротивное дело. Рыцарству не подобает пленных позорить и безвинно смерти предавать. Но полковники решили иначе – Бог им судия. Они приказали отпустить на волю полоненных русских – тех, кого в Кремле с оружием взяли в бою или с оказией, с тем, чтобы их ловили, забивали и ели, а что не ели сами, то продавали. Голову можно было купить за 2–3 злотых, а конечности – с ног или рук – по 1–2 злотых. Забивали, однако, не всех, а только простых людишек, бояр ихних не трогали, и жен их не трогали, потом жен отпустили с миром под честное слово князя Пожарского не позорить их. А челядь боярскую, кто ненароком на улицу или по нужде какой выйдет, ловили. Часто забивали впрок, так как не знали, сколько времени подмоги от Короля ждать надо будет. Слуг своих тоже забивали, а иногда и товарищей. У меня свояк был – он из-под Кракова, муж Ваш его уважал за храбрость в бою, так он совсем слаб стал, и убили его, когда я на стене в карауле стоял. Я нашел только его обрубки ». /Коммент.: Как писал С. Соловьев, «после молебна («у Лобного места, где Троицкий архимандрит Дионисий начал служить молебен»), войско и народ двинулись в Кремль, и здесь печаль сменила радость, когда увидали, в каком положении озлобленные иноверцы оставили церкви: везде нечистоты, образа рассечены, глаза вывернуты, престолы ободраны; в чанах приготовлена страшная пища – человеческие трупы!». Действительно, людоедство приняло массовый характер и было, видимо, поощряемо высшим командованием. Так, Иосиф Будзило свидетельствовал: «Пехотный порутчик Трусковский съел двоих своих сыновей; один гайдук тоже съел своего сына, другой съел свою мать; один товарищ съел своего слугу; словом, отец сына, сын отца не щадил; господин не был уверен в слуге, слуга в господине; кто кого мог, кто был здоровее другого, тот того и ел. Об умершем родственнике или товарище, если кто другой съедал такового, судились, как о наследстве и доказывали, что его съесть следовало ближайшему родственнику, а не кому другому. Такое судное дело случилось в взводе г. Леницкого, у которого гайдуки съели умершего гайдука их взвода. Родственник покойника – гайдук из другого десятка жаловался на это перед ротмистром и доказывал, что он имел больше права съесть его, как родственник; а те возражали, что они имели на это ближайшее право, потому что он был с ними в одном ряду, строю и десятке. Ротмистр… не знал, какой сделать приговор и, опасаясь, как бы недовольная сторона не съела самого судью, бежал с судейского места. Во время этого страшного голода появились разные болезни, и такие страшные случаи смерти, что нельзя было смотреть без плачу и ужасу на умирающего человека». – «Русская ист. библ.», там же. Что же касается отпущенных под честное слово кн. Пожарского боярских жен, то следует отметить: вышедших в расположение дружин Пожарского женщин встретили с достоинством: «Пожарский велел сказать им, чтобы выпускали жён без страха, и сам пошел принимать их, принял всех честно и каждую проводил к своему приятелю, приказавши всем их довольствовать». – См.: Соловьев С. М. «История России с древнейших времен», СПб., 1896, т. 8, с. 791, 821. Попавших же в расположение войска под командованием Трубецкого – прежде всего казачьих дружин – предали грабежам и бесчестиям. – И. В./ « Матерь Божья, за что весь этот ужас! Я не смог есть человеческое мясо. Попробовал, но такие боли начались, всё обратно вышло с кровью и зеленью дьявольской. Молите Иисуса за то, что взял к себе Вашего мужа, нашего доблестного Полковника, не введя его в соблазн. Кат надо мной трудился знатно, у меня рука левая от его усердий усохла, но никакие муки не сравнимы с голодом. Что не видели глаза мои?! И землю под собой пожирали, и конечности свои пытались грызти, и камень и кирпич пытались кусать, кто ума лишился от голода и скорби. Но доблестно стояли до последней капли, до последней мочи, и не предали Короля своего, и Королевича младого, и Веру нашу и честь воинскую. Не приведи Господь испытать… Однако закончу сие горестное повествование благодарностью Господу, Иисусу, нашему Спасителю, за дарование нам жизни нашей и коленопреклонно испрошу у него прощения за грехи наши тяжкие…» /Перевод и комментарии асп. Ирины Владзиевской под руководством докт. ист. наук, проф. С. Б. Окунева/.
* * *
Может, потому, что дрался он редко, но остервенело, может, потому, что всегда был справедлив и не гнулся перед старшими пацанами и не забижал малышей, а может, потому, что рос после ареста родителей сам по себе – присмотр старой подслеповатой и сильно пьющей бабки не считался, – плюс потому, что был умен, начитан, остроумен, а может, потому, что было в нем нечто такое, что делает из неприметного белобрысенького парнишки лидера, – не важно, почему, но годам к двенадцати стал он признанным авторитетом среди своих сверстников, плотно державших в напряжении весь район Лиговки – от Московского вокзала до Растанной.
Много лет спустя, под старость, он с удовольствием и даже с гордостью вспоминал то время. Во-первых, потому, что всегда умел держать удар, не теряя самообладания и сохраняя улыбку на лице: поначалу улыбочка была вымученной, но постепенно приросла, стала естественной, именно она, возможно, пугала, настораживала или, во всяком случае, озадачивала его врагов, конкурентов, сослуживцев и даже друзей. Во-вторых, он никогда, а точнее, почти никогда не отрекался от своих близких и не предавал их. Когда «Карабас-Барабас» пришел неожиданно к нему ночью и, вынув из модного драпового пальто бутылку «Арарата», и спешно опустошая ее в одиночестве, стал уговаривать его публично отречься от родителей, потому что иначе он не будет зачислен в институт даже при всех пятерках: его «срежут» на экзамене по истории или по литературе, так как это – «раз плюнуть», – он набычился, и в ответ только мотал головой, не отрывая взгляда от грязных стоптанных ботинок «Карабаса», никак не соответствовавших его модному манто и шикарному темно-вишневому кашне. Так и ушел друг их семьи ни с чем, пошатываясь и безнадежно отмахиваясь рукой, непонятно от чего или кого. Значительно позже, как ни странно, это вспомнилось и зачлось… Однако это было через много лет, и в том далеком и страшном году уж никак не прогнозировалось. В-третьих, он всегда в жизни руководствовался принципами, и, если эти принципы входили в противоречие с его личными устремлениями, привязанностями, связями или чувствами, то он преступал через себя, принося в жертву этим принципам самое дорогое для него и любимое им… В подобной принципиальности не было ничего показного или надуманного. Он искренне был убежден в бесспорной истинности такой жизненной позиции, и они – и эта позиция, и ее абсолютная искренность радовали его, переполняли гордостью, возвышали его в собственных глазах и в глазах других, создавали уникальную и прочную репутацию и, в конце концов, благоприятно сказались в самых, казалось бы, непредвиденных ситуациях. Впрочем, это всё проявилось и дало результаты значительно позже, а тогда, в юности, приносило только страдания, никому не ведомые, и никем не замечаемые. В десятом классе, когда на комсомольском собрании исключали из школы и комсомола человека, в которого он был влюблен, он не мог, а вернее, не захотел встать и сказать хотя бы слово в защиту, он заставил себя поднять руку «за» и не потому, что боялся быть не со всеми, и не потому, что вообще боялся – нет, он действительно не был трусом, – он заставил себя сделать это именно потому, что считал, решение, предложенное райкомом комсомола, единственно правильным, справедливым и принципиальным. После того собрания во сне к нему пришла та старушка из подвального помещения, вернее, не та, а другая, со сморщенным лицом и слезящимися глазами. Она положила свою теплую и сухую ладонь ему на лоб и ласково сказала: «Коленька – Николенька». И в ту ночь он плакал, зарывшись в подушки и скомканное одеяло. Это было второй и последний раз в его жизни.
* * *
Пригожинские слова запали глубоко. Настолько глубоко, что на каникулах Николенька стал писать сочинение на «вольную тему», как и было задано, взяв эпиграфом слова своего дружка: «Все они такие» – «Какие?» – «Хитрые». (Пригожин). – Без инициалов – что за Пригожин, какой Пригожин – пусть думают…
Писал он долго. Первая проблема: как назвать свой труд: назвать впрямую было глупо – прочитав первоначальное название, Литераторша может захлопнуть тетрадь навсегда, во избежание… После долгих размышлений он озаглавил так: « Николаевский мундир . (Императорский Указ от 26 августа 1827 г.)» После первого абзаца он дал цитату из Тургенева. Имя классика, при всей злободневности пассажа, не могло не привлечь Анну Ивановну, которая не скрывала свою особую любовь к Тургеневу и Льву Толстому. Ну, а прочесть аналогию с днем сегодняшним она и не догадается, и не осмелится… Наверное… «Попахивает конъюнктурой» – рецензировал себя Кока, но, ничего, это – к месту и, главное, играет на главную мысль. Получилось очень даже неплохо:
«Николай Павлович имел отменную осанку. Пронзительный взгляд и идеально подкрученные усы давались ему без труда. Однако, дабы грудь была колесом и стать величественной, он был затянут в такой тесный мундир или корсет под мундиром, что к концу дня он терял порой сознание. Искренне желая благополучия и процветания всем своим подданным, он и страну затянул в такой же корсет – вдохнуть и выдохнуть было невозможно. Как писал И. С. Тургенев, „Крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, темная туча висит над всем ученым и литературным ведомством, шипят и расползаются доносы, страх и приниженность сидят во всех“. Императором владело убеждение, что добро в России можно делать только силой, и полицейско-жандармская палка принесет народам России процветание и благо скорее и надежнее, нежели просвещение, свобода и нравственные добродетели. Именно таким небрежением и к мысли, и к чувствам, и ко всем человеческим нормам, именно такой „военной палкой“ вознамерился личный цензор Пушкина решить еврейский вопрос в России». Здесь Анна Ивановна наверняка сделает «стойку», – она была интеллигентным, умным, терпимым, – но – советским учителем, и Николенька к середине десятого класса уже научился понимать, что над всеми эмоциями в его стране безраздельно властвует страх, и это его не коробило, не отталкивало, не возмущало, это была данность, к которой он постепенно старался привыкать. Поэтому не столько для успеха своего сочинения (но и для этого тоже: уже тогда у него начала проклевываться профессиональная забота о дальнейшей судьбе своих – впоследствии научных работ), сколько из-за желания облегчить жизнь Литераторше, в следующем абзаце он вставил цитату из Герцена, непонятно от какого сна «разбуженного декабристами» (В. И. Ленин):
«Пожилых лет, небольшой ростом офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, страха перед начальством, встретил меня со всем радушием мертвящей скуки (…)
– Кого и куда вы ведете?
– И не спрашивайте, индо сердце надрывается(…) Набрали ораву жиденят восьми-девятилетнего возраста. Сначала было их велели гнать в Пермь, да вышла перемена, гоним в Казань. Беда, да и только, треть осталась на дороге (и офицер показал пальцем в землю). Половина не доедет до назначения, – прибавил он – мрут, как мухи…
(…)Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал – бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати еще кое-как держались, но малютки восьми, десяти лет… Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких толстых солдатских шинелях со стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без ухода, без, ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу. И притом заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно было жаль детей. Ну а если бы попался военно-политический эконом?!
Я взял офицера за руку и, сказав: “ поберегите их ” , бросился в коляску; мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь». (А. И. Герцен. «Былое и думы».)
Дальше было труднее. Собственно, о реакции Анны Ивановны и судьбе сочинения он уже не думал – улетучилось само собой. Надо было найти особый язык, особый стиль, интонацию, тот неповторимый прием, который смог бы задеть за живое любого, даже недоброжелательного читателя. Написать сильнее Герцена или Лескова (рассказ «Владычный суд» потряс Николеньку) было невозможно. Да и оригинальных материалов было немного. С другой стороны, он понимал: то, что не могло не ошеломить в девятнадцатом веке, сегодня – после ужаса Холокоста – кажется обыденным и не таким уж страшным. Впрочем, Кока и не задавался целью кого-то напугать. Ему нужно было лишь прокомментировать убеждение, что «все они хитрожопые».
Озарило неожиданно ночью. Вообще, умные мысли и верные решения, удачные фразы или отдельные слова, как правило, приходили к нему ночью, иногда даже во сне. Вся проблема состояла в том, чтобы к утру не забыть, не «потерять находку», что удавалось крайне редко, поэтому он стал оставлять на табуретке около кровати листок бумаги и карандаш; со временем это стало привычкой на всю жизнь. Неразрешимой оставалась задача проснуться и заставить себя зажечь свет… В ту ночь он заставил и накарябал: «как будто я». То есть писать, как бы от первого лица, будто это всё происходило с ним. Утром после здравого размышления он пришел к выводу, что этот прием – ставить себя на место собеседника или изучаемого героя – здесь не работает, хотя впоследствии он стал главенствующим и характерным как для его поведения, так и для сугубо научных изысканий. Вообразить себя еврейским ребенком он не мог, ибо понятия не имел ни о законах, обрядах, ритуалах иудаизма, ни об особенностях быта в местечках, ни о том, что такое тфилин, молитвенник, цицит, которые отбирают у еврейского мальчика и тут же сжигают. Да и что такое Закон Божий, он представлял весьма смутно. Николай Первый писал в конфиденциальной записке: «Главная выгода от рекрутирования евреев в том, что оно наиболее действенно склоняет их к перемене вероисповедания». Что такое принудительное крещение?..
Тогда он принял «соломоново» решение: писать так, как будто дело происходит с его хорошими знакомыми – с Гутей, скажем, – добродушным, отзывчивым парнем, готовым ради друзей пожертвовать сказочной соломенной шевелюрой или подвергнуться экзекуции с битьем о голову любимой пластинки, – или Даником, страдающим, конечно, хитрожопостью, но, всё же старинным приятелем – незлобным, веселым, щедрым. Тогда будут оправданы все пробелы в его знании чуждых быта, нравов, атрибутики: рассказ ведет человек другого мира, но, вместе с тем, интонация будет окрашена индивидуальной теплой краской.
Для начала он попытался представить себе, а затем и описать, что чувствовали бы реальные хорошо знакомые, близкие люди в дороге, на этом страшном пути в неизвестность, которая для трети детей заканчивалась «в Могилеве» – в могиле (до конца учения и перехода в солдатский статус доживал один из десяти малышей). Часто детей гнали не менее года: путь из местечек Белоруссии, Бессарабии, Украины до Сибири, Поволжья, Архангельской губернии, то есть до мест, наиболее отдаленных от черты оседлости, был долог. Вот – Даник и Гутя, покрытые коростой, вши кишат на теле, в волосах, в одежде, от плохой пищи – постоянная рвота и кровавый понос, солдаты отнимают последние гроши и пропивают их, когда их ведут по еврейским местечкам, конвой начинает их бить, чтобы жалостливые жиды «милостивили» их, одаривая подношениями… Вот – солдаты-инвалиды выкапывают яму и сбрасывают трупики – часто за недельный переход умирало 30–40 кантонистов, – солдат спрыгивает в яму и ногами утрамбовывает тела, чтобы больше поместилось. Могли быть среди них Гутя и Даник? – Почему нет! – Оставшиеся в живых завидовали мертвым. Один из выживших кантонистов вспоминал – это было первое документальное свидетельство, найденное Кокой: «Жаловаться было некому. Командир батальона… был Бог и царь. Многих детей калечили – случайно или преднамеренно, а когда приезжал инспектор, изувеченных кантонистов – по сто – двести человек – прятали на чердаках и в конюшнях. Пьяные дядьки выбирали себе порой красивых мальчиков, развращали их и заражали сифилисом. (Что это значит, Кока понял позже.) К битью сводилось все учение солдатское. И дядьки старались. Встаешь – бьют, учишься – бьют, обедаешь – бьют, спать ложишься – бьют». « Больных и обессилевших везли на телегах, – вспоминал другой очевидец, – возле Нижнего Новгорода я встретил целый обоз еврейских ребятишек, сваленных в кучи на телегах, вроде того, как возят в Петербург телят…» Вообразить всё это было невыносимо трудно. Описать – невозможно. Выбранный метод здесь не работал, получалось искусственно, вымученно, неестественно. По-настоящему впечатляли скупые, подчас малограмотные свидетельства.
То же – с родителями. Участи кантониста страшились более смерти ребенка: смерть скоротечна, мучения кантониста бессрочны. Вот – Берта Соломоновна и Филипп Арнольдович бегут вслед за телегой многие километры, как бежали тысячи и тысячи матерей, чтобы в последний раз взглянуть на своего мальчика. И это – было. Прощались навсегда. «Забривание» лба было страшнее смерти. «В городе Чигирине, – это вспоминал чиновник военного ведомства – привезен был мальчик лет девяти или десяти, полненький, розовый, очень красивый. Когда мать узнала, что он принят, то опрометью побежала к реке и бросилась в прорубь». Всё делали обезумевшие от горя родители: женили десяти – одиннадцатилетних мальчиков на сверстницах – не помогало, выкалывали один глаз – это могло спасти, отрубали палец: « В местечке появился какой-то еврей, – вспоминал очевидец, – и за сравнительно небольшое вознаграждение брался отрубать большой палец правой руки… Была лютая зима, и мою руку положили в корыто с ледяной водой. Через некоторое время рука была настолько заморожена, что я перестал ее чувствовать. Ловким ударом ножа мой палец почти безболезненно отделили от руки, и подобную операцию провели над ста с лишком мальчиками…» Очевидцу тогда было шесть лет.
За членовредительство кагал должен был «расплачиваться» штрафниками – по два мальчика за одного провинившегося.
Десять дней писал свое сочинение Николенька. Не просто писал – он заболел им. Иногда мама будила его по ночам, потому что он вскрикивал и плакал. Вспомнить, что он видел во сне, Кока не мог, но то, что было страшно, знал. В конце концов, он окончательно решил, что свой метод он оставит до лучших времен, надо научиться писать сухо, сжато, просто.
… Постоянный ужас вошел в каждую семью «черты оседлости» после 26 августа 1827 года, когда Николай I подписал указ: «Повелеваем обратить евреев к отправлению рекрутской повинности в натуре». Кантонисты существовали с 1805 года, и жизнь их с жесточайшей муштрой и полнейшим бесправием была хуже любой каторги – во всяком случае, на каторге смерть не косила так беспощадно, как в кантонистских школах: «кантонисты тают, как свечи», – жаловался граф Аракчеев. В кантонисты записывали детей солдат, раскольников, цыган и детей польских повстанцев; евреи же, которые не могли совмещать все жесточайшие правила культа и традиций с военной службой, наравне с купцами и мещанами, выплачивали рекрутский налог. 27-й год стал роковым: стали брать еврейских мальчиков до 12 лет (чтобы не сумели пройти в 13 лет бар-мицву), причем квота была втрое большей, нежели у христиан – 10 рекрутов с тысячи мужчин ежегодно, против 7-ми с тысячи раз в два года. Во время Крымской войны набор среди евреев проводился дважды в год, и брали по 30 рекрутов с одной тысячи лиц мужского пола.
В рекруты сдавали, прежде всего, самых беззащитных, слабых, маленьких: детей вдов – в обход закона об «единственных сыновьях», – сирот, детей бедняков; как отмечал Лесков, часто 7–8-летних мальчиков записывали, как 12-летних, и лета приводимого определялись «наружным видом, который может быть обманчив, или так называемыми “присяжными разысканиями”, которые всегда были еще обманчивее ». Часто этих или украденных хапперами мальчиков зачисляли в рекруты за счет детей из богатых семей. Коррупция, кумовство, произвол старшин кагалов и стоявших над ними становых приставов были неотъемлемой частью нравов николаевской России. За время правления Николая Первого в школы кантонистов было набрано более 70 тысяч детей от восьми до двенадцати лет.
Между 1827 и 1914 годами в русской армии служило около 2 миллионов евреев.
Время, проведенное в школе кантонистов, то есть с 8 до 18 лет в срок действительной службы не засчитывалось. Выжившие кантонисты в 18 лет переводились в рядовые русской армии, где служили 25 лет. Эти, так называемые «Николаевские солдаты» отличались суровым нравом и физической силой в повседневной жизни, особой стойкостью, отчаянной храбростью во время военных действий, прежде всего во время Крымской или Балканской кампаний. Русский хирург Н.И. Пирогов отмечал невероятную терпеливость и мужество солдат-евреев, раненных во время Крымской кампании.
Из 70 тысяч евреев в армии николаевского периода (50 тысяч – из кантонистов) перешло в христианство 25 тысяч (из преобладающего гражданского населения крестилось всего 5 тысяч). Принуждение к «перемене вероисповедания» было краеугольным камнем армейской реформы Николая.
… Собственно, эти цифры особенно поразили Николеньку. Из 70 тысяч – только 25 крестилось. Причем большая часть выкрестов по окончании службы возвращалась «в лоно иудаизма», несмотря на жестокие наказания, следовавшие за «отпадение от Православия» (правда, уже не сжигали, как при Анне Иоанновне, а «только» сажали в крепость). Какую же силу духа имели эти десятки тысяч маленьких жидочков, не сломленных, замордованных, но не отступивших от веры отцов! Вот это было за пределами понимания, представления, фантазии. Что двигало ими, что давало поистине нечеловеческие силы этим детям, часто 8–12 лет? – Природное упорство, тысячелетиями выработанный инстинкт выживания нации, всепобеждающая ненависть к мучителям? Или, может, во сне и наяву преследовали их лица матерей, бежавших за телегами, падающих в грязь, снег, поднимавшихся, цепляясь за колеса, и опять бежавших многие километры со словами: «Сохрани веру свою», «Помни имя свое», «Сохрани веру», «Помни имя свое»…








