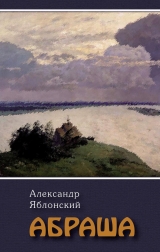
Текст книги "Абраша"
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
...
Конец первой части
День получился радостный. Ночь прошла сытно – болей почти не было, спалось легко, сладко, долго. Рядом, как всегда, посапывал маленький Карл Эрнест. Сны ей привиделись забавнейшие, хотя и не запомнились. С утра солнышко засветило по-майски радостно – это после дождя-то ненавистного – всю Страстную неделю лил и Светлую пасху Христову испортил. Дворец был залит светом, слышался детский смех – это Петруша с Гедвикой носились, распугивая придворных своими проказами, – и правильно, нечего под ногами у малышей путаться, хотя… хотя, увы, уже не малыши: Петру четырнадцатый идет, а Елизаветушке уже одиннадцать минуло. Быстро время скачет. Но главная радость была – Карл Эрнест совсем поправился, с утра гляделся веселеньким, щечки зарумянились, добавки на завтрак попросил – Анна сама его кормила, сердце её воробышком трепыхалось от счастия долгожданного, и сияла Бенигна, стоя рядышком и глядя умильно на свое чадо и на неё – на Анну. Никогда не расставалась она с этим «светиком ясным»: ни в Митаве постылой, ни в питербурхе, ни той ночью – тревожной, стремительной, враждебной, мальчику было всего годик и три месяца, когда мчалась она в столицу для переговоров с членами верховного тайного Совета, не ведая тогда, чем закончится сей вояж – троном, монастырем, плахой, и уж точно не полагая, что «смысл жизни ея», белокурый ангелок, спавший в карете у неё на руках, в девять годков станет камергером, а чуть позже будет награжден орденом Андрея первозванного: только дети венценосных родителей сей высший орден российский получали.
Обычно завтракали, как обедали и ужинали, они все вместе – одной семьей. Так и жили душа в душу: в заботе, трудах праведных, любви и согласии. Сегодня, правда, Эрнста Иоганна с утра не было, дел государственных навалилось – и сотне не переделать, а он всё один, своим горбом лямку эту тянул, радея интересы государственные и её, конечно, Анны интересы. И лошадей присланных следовало герцогу осмотреть: это – их общая слабость, у неё даже были свои апартаменты в манеже, – и озаботиться положением дел в Курляндии, где год назад избрали его герцогом, и проверить качество присланных графиней Строгановой его законной супруге – Бенигне – двух нашивок жемчуга, и отписать письмо Кейзерлингу – русскому посланнику при саксонско-польском Дворе, чтоб тот реляции слал ясные, отрывистые и краткие, и чтоб не было нужды отыскивать смысл в его пространных рапо́ртах, и сделать смотр новой улице, от Лиговского канала проложенной к Большой Загородной дороге – Разъезжей, так Государыня назвать оную соизволила, и, вообще, проверить, как-то милейший Миних осушает болота в районе речушки Лиги, и оказать содействие Семен Андреевичу Салтыкову, «рабски» просившему смягчить сердце Государыни, хоть его и сродственницы и покровительницы, но прогневавшейся на постоянные пьянки, безобразия и чрезмерные взятки московского Главнокомандующего – «да не взятки это, не взятки – подношения рукодельные»… а тут и отчеты по строительству Оренбурга подоспели – его – Бирена детище – всё надо просмотреть, проверить: воруют, сволочи, воруют-с, меры не зная… Много хлопот было у герцога.
Счастлива была она, слов нет. И главная причина радости сей: отлетела, истаяла, как и не было её, тучка, вернее, темное облачко, чуть было не омрачившая ясный небосклон сердечной любезности, родства платонического сродства душ её и Карла Эрнста Иоганна. А облачко то налетело внезапно. И всё из-за этого Дела племянника думного дьяка Прокофия Богдановича Возницына, посла дядюшки её любезного, Петра алексеевича. Что, казалось бы, особенного: Ушаков докладывал третьего дня и, с опытом своим согласуясь, традициям своего ремесла древнего следуя, молвил, что во первую очередь надо совратителя – Бороха Лейбова подвесить и с пристрастием расспросить. Так Сенат постановил: «Надлежит произвести розыск, и не укажет ли оный Борох и с ними кого сообщников в превращении ещё и других кого из благочестивой греческого исповедания веры в жидовский закон…» Возницына же Александра, по недужности рассудка его слабого можно и отдать в какой дальний монастырь: там заблудшего в ум и приведут. То – духовной власти дело. Так Сенат удумал. Карл при этом был, но стоял в отдалении, молчал. Однако Анна знала своего друга сердешного до кончиков пальчиков его, до самой потаенной клеточки души, до последней волосиночки: не доволен он сиим речением Начальника Канцелярии. Ушаков тоже не лыком шит: почуял, что наступил на больную мозоль всесильного обер-камергера, нахмурился, но голову с повинной склонил: как прикажете ваше Императорское величество. Всё понимал, всё знал Андрей Иванович: и про Исаака Леви Липмана, обер-гоф-фактора, ближнего конфидента Карла Иоганна в негоциациях оного, и про торговые операции, творимые этим жидом вкупе с Герцогом Курляндским – и всё мимо казны, – и про интерес английского посланника Рондо – всё знал Андрей Иванович, и про то, что, имея прямые сношения с Императрицей, сей жид руками Бирена Россией править может, почти всё управление финансами и различные торговые монополии в своих пальцах держит, и Бирен тоже знал о его, Ушакова знании, но всесильный Начальник Канцелярии молчал, и всесильный фаворит знал, что Ушаков будет молчать и молвить ничего лишнего не позволит, но будет верно служить ему пока он – Бирен – при власти, конечно. Ушаков же знал – чуял, что чуть нахмуренные брови Бирена, то бишь Бирона – на германский лад – возымеют последствия чрезвычайные, и Анна вскоре подпишет: «Хотя он Борох и подлежит розыску, но чтоб из переменных речей, что может следовать от нетерпимости розыска жестокаго, не произошло в том Возницыне деле дальнего продолжения, и чтоб учинить решение: чему он за его Возницына превращение в жидовский закон, по правам достоин, не разыскивая им Борохом» . Так что непытанным взойдет Борух на Лобное место, не расскажет под кнутом на встряске иль на спицах о герцоге, Липмане, Рондо… повезло старику Лейбову, что будущая императрица в Курляндии ещё, в деньгах нуждаясь, помощь от Леви Липмана имела…
Было это третьего дня, а ныне всё ладно было в доме Анны. Отзавтракав с Бенигной и детьми, как и положено, пару часиков отдыхала Анна: осматривала свои наряды и драгоценности. Была она в своем любимом платье – длинном персидского покроя глубокого зеленого цвета, красным платком повязанном. Глубокие голубые глаза озерами смотрелись на этом зеленом лугу, и нравилось это Анне. Ждала она Ушакова с интересными сведениями.
Андрей Иванович явился точно вовремя, поклонился спокойно, почтительно. Знает себе цену, шельма, но не завышает её, и то – слава Богу. Глаза, уши и карающие руки Государевы, без них Анне было бы трудно, такого более не сыщешь. Да и нравился он Анне – было в нем, в его фигуре, в его лице, в его походке нечто лошадиное, а к лошадям она доверие имела. Слушать его было приятно: говорил Ушаков тихо, размеренно, четко и кратко, и не было сомнения в правдивости его слов, в точности его оценок.
На первый вопрос отвечал он пространнее обычного. Да, дяде ея величества, которому она всячески следовать старалась, жиды крещеные пришлись. Не то что любил их, нет, упаси Господи, так и писал он в своем манифесте от 702-го года: «Я хочу видеть у себя лучше народов Магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не распложаю; не будет для них в России ни жилища, ни торговли…» – Анна постаралась это запомнить. Не любил, но пользовать позволял. – Блаженная Мать – Безножка нос свой сунула в дверь, небось, какую свою новую дурь показать захотела, у Анны радостно сердечко ёкнуло, повеселело, но приживалка-болтуша, увидев Ушакова, немедля вон дернула – от греха подальше, правда, рожу изрядно презабавную сделала, прямь, козлище старый вонючий. Надо, чтоб потом ещё так повторила. – Так великий Государь первым в обиход государственный ихнего племени представителей ввел. Вице-канцлер петрушка Шафиров – из португальских жидов, как и д’акоста, и резидент русского представительства в Амстердаме и вене Абраша Веселовский, равно как первый генерал-полицмейстер Санкт-Санкт-Петербурга Антон Дивьер и начальник тайного розыска новой столицы – Вивьер – имя тоже не русское, не запомнить, – да и многие другие были выкрестами, и услугами их Государь Император пользовался охотно. Да и к некрещеным боязни иль какого недоразумения не имел. Царским фактором в Риге был Исраэль Хирш – жид обрезанный. – Так в Риге жидам житие заказано! – верно, Матушка-Государыня, но Меньшиков Александр Данилович по указанию Петра Алексеевича тому Хиршу патент на проживание выправил. Государь лишь пользу для отечества искал. Так, писал он, что для него всё едино, был человек крещен или обрезан, лишь бы был порядочный и хорошо дело своё знал и делал. И насилий не допускал. – Анна нахмурилась, платок алый затеребила, гневаться начала: не то Ушаков болмочет, не того ожидала от холопа своего. Но Начальник Канцелярии будто не видел, не замечал, своё тихо, но веско гундосил. В лето восьмого года, будучи в Мстиславле, Петр распоряжение дал повесить 13 солдат за мародерство и насилия над жидами и жидовочками. Анна начала багроветь, её широкая грудь всколыхнулась угрожающе. – Надо велеть высечь того офицера, кто про бабку Агафью Дмитриеву, которая козой и собакой оборачиваться может, не доложил. – Но! – Ушаков сделал паузу и впервые посмотрел прямо в глаза Анне – и Анна поняла, что сейчас будет суть, всё предыдущее – мимо ушей. Великий Государь, будучи истинным христианином, посему не притесняя никого из своих подданных, равно как и гостей заморских, какой бы они веры не были и какого закона не придерживались, был русским Государем, и почитал наивысшим своим долгом интересы православного своего народа блюсти. А народ наш жидовский закон не принял и не примет, и обрезанных среди себя терпеть никак не сможет. Так Государь-Батюшка и ответствовал бургомистру города голландского Амстердам, челом бившему, чтобы Петр алексеевич купцов иудейских в Россию допустил: благодарствую жидам голландским за желание полезными быть моему отечеству и, сознавая всю выгоду от сих инициаций, не могу допустить того, ибо жаль мне их, коль скоро им пришлось бы жить среди народа моего. Великий строитель России был дядюшка ваш, ваше Императорское величество, понимал, как православный люд с иноверцами сближаться будет… Без крови не обойтись. Анна разгладила на груди платок свой любимый, глаза посветлели, вздохнула с облегчением и благодарностью: умен, ничего не скажешь, умен и большой полити́к есть Андрей Иванович. Все мысли потаенные угадал. Никогда Матушка-Радетельница не будет притеснять иноверцев, будь то мусульманской веры или жидовского закона, коль скоро пользу отечеству приносят. Вот Леви Липман – обрезанный, а рыбу фиш фаршированную в палатах своих кушать изволит, и никакого притеснения не имеет, ибо на благо России-матушке труды свои приносит. И никого в свою веру не склоняет и от благочестивой греческого исповедания веры никого не отвращает. А кто на это сподобится – на кол или в сруб горящий, чтобы не смели народ православный смущать – на то Мы и поставлены, чтоб интересы его блюсти, слава Господу. И для блага же иудейского племени отселить надобно их, хотя бы из Малороссии – от гнева людского спасти, особливо после этого переметчика Алексашки Возницына – побьют ведь, побьют сынов израилевых, и правильно сделают: надо же благородной фамилии – и в жиды… а то разговоры – она, Анна, спасибо Андрею Ивановичу, всё знает – разговоры: мол, немцы кругом засели, под крылом Государыни пригрелись, – куку, – а кто о народе россейском печется, радеет о его благости и святости, от жидовской напасти кто бережет?! то-то… Надо будет графу Андрею Ивановичу – тезке полному твоему, мой генерал – остерману болезненному (тоже мне, тезка нашелся – Генрих Иоганн Фридрих, немчура хитрожопая – не любил Ушаков вице-канцлера) напомнить, чтоб указ о выселении иудеев подготовил. Он, хворый, дело знает, но неторопливый какой-то. И про балет чтоб не забыл. Намедни вертунчик этот – Ринальди, ваше величество? – да, мой друг, Ринальди – Фузанчик с другим – французиком, что в шляхетском кадетском корпусе танцам европейским обучает – опять просили Милости Нашей школу для танцев открыть – хорошая затейка. Оперу Мы теперь учредили, пора и танцами занять себя. А как, кстати, педрилка, шут мой прелюбезный, языком более Франчешку не задевает? На всё глаз да глаз. Утомилась Императрица от забот, но спуску себе не дала – важные дела решать надо было.
Второй доклад занял пару минут. Ушаков лишь нижайше уведомил, что Комиссия, волей ея Императорского величества учрежденная, «о строении Санкт-петербурха», на высочайшее решение представила инициацию о переименовании «Большой першпективной Дороги» в «Невскую першпективу». – Неужто сию першпективу уже осушили? – Не извольте беспокоиться, и осушили, и замостили: Зеленый мост чрез речку Мья и Ани́чков мост чрез Безымянный ерик… – а что, этот ерик, то бишь Фонтанная река совсем воды для фонтанов Сада Летнего не дает? – Мало, ваше Императорское величество, совсем мало. Добавляет к тому, что с Дудергофских высот по Лиговскому каналу чрез бассейны к Летнему саду подводятся, но всё равно, жиденькие фонтаны. Думаю, Лиговский канал засыпать нужда будет. Так, продолжу с вашего позволения: Аничков мост и Зеленый мост замостили, а разводные – подъемные части доской дубовой покрыли, и камнем булыжным замостили у адмиралтейских триумфальных ворот, по случаю вступления на престол вашего Императорского величества возведенных, и начали у Церкви Святого Петра. – Анна недоверчиво голову венценосную склонила. Сумление выказала: – так Невской першпективой просека от подворья Лавры звалась, что монахами рубилась при Дяде моем – Петре великом, да и Большая першпективная Дорога прямиком только до Новгородского тракта тянется, до Лиговского канала, а далее крючится – почем имя Святого княза будем давать, коли до Лавры с мощами славного нашего предка напрямую не доходит? – Излучина не велика, но… ваше решение завсегда мудро будет, ваше Императорское величество… правда, э… – Говори, не тяни… – Идея сия по нраву пришлась Их Сиятельству Герцогу Курляндии и Семигалии… – о! Хитер ты, шельма, хитер… Ку-ку! Идейка и впрямь хороша… так и решим – быть посему! переходи к главному.
Последнее дело Ушаков изложил кратко, но Анна его расспрашивала, аж присела, наклонясь вперед, на край своего кресла любимого, что в межоконном проеме стоял, подле ружья. Про бабку колдовскую Дмитриеву забыла и про обещание школу верховой езды посещением своим облагодетельствовать – тоже забыла. Помолодела и раскраснелась Государыня-Императрица. Ушаков докладывал сухо, как будто огорчаясь сказанному: за отступление от веры, а также богохульников, еретиков, а также ведунов и волшебством промышляющих казнить по закону и обычаям принято через сожжение. Так со старины повелось – ещё волхвов в годе 1237 от Рождения Христа посжигали за наведение порчи на людей и скот. – Как? – Без затей, ваше величество, повязали и как дрова в костер побросали. Это потом уже в срубах стали сжигать, чтобы народ речей крамольных не слыхивал, да не дивился на крепость духа оных – могли и в смущение прийти. – Крепко держались? – Крепко, Матушка-Государыня. Как можно было Аввакума на костре сжигать? – он бы в свою веру обратил немалое число людишек, или лютеранской веры проповедника Квирина Кульмана? – Никак нельзя. Посему в срубах и сжигали. Аввакума – в пустозерске, то был год 1682-й, Кульмана – в Москве – то совсем уже недавно – год 1689-й. Но казни сей не только мужи сильные, в ереси укрепленные, подвергались, но и простые людишки. Скажем, за еретическое отступление от православных законов – употребление в пост телятины сожжены три человека, было то в 1569 году – Анна удивленно приподняла правую бровь. Вспоминала, когда в последний раз телятиной потчевалась. Пора бы уже другу сердешнему возвратиться, полдничать время и отдыхать. Андрей Иванович, слов нет, умен, всё знает, но пока до дела дойдет, угореть можно от слов его длинных. – После же Собора 1504 года, когда ересь жидовствующих искоренить вконец время пришло, жжением огнем до смерти подвергнуты были осемь человек или много больше. – Анна кивнула. Вот это уже близко к делу. – Так что: за переход в жидовский закон – сруб пылающий? – Ушаков помолчал, уставился в пол, отвечал совсем тихо: Соборное Уложение от 1649 года, артикул 22-й гласит, что сожжению достоин лишь тот, кто в магометанскую веру перешел. Анна аж привстала: что несешь, прелюбезнейший генерал. Что, как не воля Монарха есть Соборное уложение, закон писаный и неписаный: Мы животы своим холопам даровать иль отнимать можем. Лицо Анны налилось черной кровью, любезность соскользнула. Аль не дядя наш, Петр Алексеевич, Государь столь велик, сколь мудр был, сие право августейшее практиковал. Вспомни, как сжигали на костре Фому Иванова сына – по частям – сначала руку его богомерзкую с топором жгли, а потом уж под ноги огонь поднесли: он что, в магометскую веру перешел? – Нет, друг любезный, он сим топором икону разрубил. Или другому богохульнику, кто палкой во время крестного хода у епископа икону выбил – у того тряпкой просмоленной руку обмотали и подожги, лишь минут через десять весь костер занялся… Ушаков помнил эти и другие оказии, поразился он тогда, что преступник, пока рука его горела, ни звука не издал. Любил Ушаков своего первого и главного Господаря – Петра великого, но понять не мог, почему столь жестокие наказания предписывал: посажение на кол припомнил иль придумал распиливание живого человечка – крещеного – деревянной пилой – какой прок был?.. На дознании – святое дело, Ушаков не требовал лишней крови, но ради истины, чего-с не сотворишь. Хотя… хотя своего кровного сына пытать собственноручно пошто нужно было?.. Холопов, что ли, мало… а опосля признания… – ? – чудны дела твои, Господи… тихо вкрадчиво вошел Бирон и встал у двери. «Красивый дородный мужчина этот фаворит Императрицы», – как де Лириа писал, – Ушаков и это знал, даром, что Лириа был испанский посланник, – «обхождения любезного и разговора приятного». – Анна облегченно краску с лица скинула, гневные губы распустила, правой рукой прядь черных волос, на плечо спадающую, поправила, чтоб аккуратно лежала, – плечо покато, бело, дородно, – приподнялась, подошла к окну.
Совсем, как давеча, а уж лет двадцать прошло, – Анна точно запомнила тот день – 12 февраля то было, 718 года – обер-гофмейстер захворал и оставил на несколько дней без забот своих и любви Анну – Анна последнее время хорошо его вспоминала и помиловала – разрешила в Москву из ссылки возвратиться и жить там или в ближних своих деревнях, хотя до того и наказала за введение в неоплатные долги и разорение: наставник Петр Михайлович умудренный был, а она так тогда в наставнике нуждалась, и мужчина крепкий, выносливый и грубый, впрочем, в ласках не столь куртуазный и смелый, как Мориц граф Саксонский. Так вот, занемог Петр Михайлович Бестужев-Рюмин и на доклад явился молодой Эрнст Иоганн. Видела она его и ранее при своем митавском Дворе, но в том день рассмотрела… послал Господь ей счастие небывалое – на всю жизнь отплатил за все унижение, нищету, мытарства.
Рука ея величества потянулась к ружью, сегодня она ещё не стреляла. Ушаков выдохнул: свой долг выполнил, про Уложение помянул, пронесло, слава всевышнему. Теперь о Татищеве. Андрей Иванович глянул на Бирона – ему доложено было, но обер-камергер рукой незаметно махнул, Анна головой повела, Бирон на цыпочках бесшумно вышел: не дело немцу дела российские решать. Пришлось доклад держать опять-таки генерал-адъютанту. Действительный тайный советник, Начальник Главной Горной Канцелярии Василий Никитич Татищев, по делу Тойгельды Жулякова сентенцию вынес: «Татарина Тойгильду за то, что, крестясь, принял паки махометанский закон – на страх другим, при собрании всех крещеных татар сжечь» . Что 20-го апреля сего года и свершилось. Анна остановилась, ружье отставила, вгляделась в Ушакова, тот опять сжался. Это, значит, как: татарина, который в свою веру вернулся, – сжечь, а православного, да из древней фамилии, – фамилия с какого века? – С начала шестнадцатого века, Государыня. – Вот именно, православного с древней фамилией кто в жидовский закон перешел – в монастырь, иль так же, как татарина того и той же мерой? Начальник Канцелярии стал объяснять, что тойгельды этот душегуб был отменный, хоть и не убивец, и что Матушке-Государыне известен обычай государевых людей на Урале давать полное прощение виновным башкирам – не убивцам – кто православие примет, и крест те целовать должны, что, ежели кто возврат к махометанскому закону иметь будет, то пощады ждать нельзя никому и наказание – самое жестокое, ибо тягчайшее сие преступление есть. А тойгельды Жуляков не только отказался от пастырского окормления и тайно возвратился к вере предков, но когда его с сыновьями на дознание к майору Угрюмову везли из Мензелинска в Екатеринбург, то от цепей тайно освободясь, побоище устроил, ранил конвойных, одному аж – гренадеру Казакову – руку правую топором, у возницы из армяка выхваченным, отрубил, но был пойман. – Анна не слушала, слушать не хотела. Того Жулякова Татищев на огонь правильно послал, но как можно равнять башкира ничтожного и безродного с дворянином?! – Что страшнее сожжения огнем было? Губы Анны аж синевой занялись, прекрепко сжаты, пальцы в спинку кресла вдавлены, глаза потемнели, взор тяжел – очень разгневалась. Ушаков был готов, он ждал такого вопроса – не успокоится Императрица, уж больно сильно обидело её дело Возницына, уж больно надо своё истовое православие подтвердить, да и любовь свою к немчуре прикрыть – не любил их, право слово, генерал-адъютант… Было одно Дело – при Петре Алексеевича, да не оскорбление веры, а его Императорского величества – Дело то Гришки Талицкого и Ивана Савина. По доносу певчего дьяка Федора Казанцева в преображенский приказ взят был сей Талицкий по «Слову и Делу» за то, что поносные слова о Государе сказывал, доски резал, чтоб печатать тетради и бросать в народ, и в речах сего Талицкого было, что антихрист, писанием предсказанный, уже пришел в мир, и антихрист тот – Петр алексеевич. И ещё на расспросе со спицами и ломании ребер калеными щипцами показал, что, советовал народу от Петра отступить, податей не платить, а как пойдет царь войну воевать, кликать на царство князя Михаила Алегуковича Черкасского. – Так и что, Что Государь придумал за богомерзкое преступление сие? – то не Государь, то суд боярский после увещеваний бесполезных местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского установил: быть Гришке и подельщику его казнь через копчение, других бить кнутом и сослать в Сибирь; тамбовского епископа Игнатия, расстриженного, сослать в Соловки. Бирон опять вошел и, уже не оберегаясь от шумного шага, прошел по залу и встал за спиной Императрицы. Давно уж время отобедать пришло и лечь почивать, но Анна так увлеклась, что забылась, вот друг сердешный и напомнил, радея о её благополучном здравии и спокойствии. – Сейчас, сейчас, мой друг; – так и… – приговоренные подвешены были над костром. Огонь до тела не достигал, но от добавления трав специальных дым был зело едкий и жар прегромадный, так что кожа преступников лопалась, подкожный жир проступил, мясо коптилось, но оба в сознании были. Через два часа один объявил повинную и раскаялся, так страдать было уже невмоготу, посему были грехи ему отпущены и обезглавлен тот был, другой же, крепок духом, ещё пять часов коптился, в шипящую головешку превратился, пока не сдох. Анна прошла от окна к зеркалу настенному, долго смотрела на себя, не улыбаясь, затем обернулась к Ушакову: а с этим Возницыным так нельзя? – Как прикажете, ваше величество, хотя… Борух Лейбов утверждает, что не мог он того Возницына полностью в закон жидовский принять: заказано у них принимать – для того Возницыну следовало шестьсот тринадцать законов выучить, что в книгах ихних «Махзор» и «Сиддур» записаны, и знать на память оные, а памятью слаб тот Возницын, и ни в Речи посполитой, ни в Ливонии сделать никак переход сей нельзя, а только в Амстердаме, и ещё не ясно, держал ли жидовский шабес Возницын, и крест нательный, может, потерял, и не было первого кнута доносителю, а ежели то напраслина была, иль злой наговор… – Хватит, утомил. – Бирон отошел от кресла, голову наклонил, на Анну внимательно смотрел, не мигая. – Да и союзники наши, как примут весть о копчении, особливо австрияки эти; любезнейший остерман столь много трудов положил, чтоб союз меж нами крепкий был… Бирон кивнул и опять на Анну уставился. И Анна поняла: опять злобные холопы, собаки неблагодарные всё на немцев спишут. – Быть посему: обоих – Боруха с возницыным – в сруб. Подать бумагу – и собственноручно начертала: «Дабы далее сие богопротивное дело не продолжилось… обоих казнить смертию – сжечь. АННА» . Да погоди, дай нам в Питерхоф выехать, при нас того делать не надобно.
Анна вышла быстро, шурша атласным своим платьем – с завтрака так и не переоделась, а за ней, как горох из лукошка, посыпались шуты её постоянные: князь волынский, граф Апраксин, князь Голицын, Адамка педрилло, Ян д’акоста, впереди же ванька Балакирев – постарел, грузный стал – выпить потому что любит, сволочь этакая; за шутами повалили Дарья Долгая, Баба-Катерина, любезнейшая Авдотья Ивановна Буженинова – эта завсегда тут как тут, – и Анна Федоровна Юшкова – статс-дама, фаворитка Анны – босая, по обыкновению, и судомойка Маргарита Федоровна Монахина, а с ними карлики и карлицы, горбуны и калеки, калмыки и черемисы, дураки и эфиопы черные – все радостно кудахтали, задами вертели, непотребными звуками радовали Императрицу – засиделись, заждались свою радетельницу, свою Матушку-Государыню.
Хоть и попортил ей кровь Ушаков, но, всё едино, хороший день выдался, радостный, светлый – солнце уж к зениту подобралось, заиграло в зеркалах, забралось в потаенные уголки золоченых рам, разлилось по паркету, рассыпалось в драгоценных украшениях дам, блестящих пуговицах кавалеров, игрушечных сабельках детей. Сейчас она отобедает со своей семьей, а семья её – это Бенигна, Эрнст Иоганнн, дети их славные – её дети – Петр, Гедвига Елисавета, Карл Эрнст, ненаглядный, – Анна не имела своего стола, а посему, как обычно, направлялась в апартаменты друга своего сердешного. После трапезы Бенигна с детьми тихо удалятся в свои покои, Анна же с Эрнстом Иоганном лягут почивать часа на два, не более, по пробуждению фрейлины ея величества, рукоделием занятые в соседних палатях, затянут песни одна за другой, одна за другой, покуда не притомятся до беспамятства – Анна любила эти песни слушать без конца, ну, а затем очередь болтуш – сказы сказывать, болтовней своей беспрерывной услаждать слух Матушки-Государыни, все новости, все сплетни излагать: кто что сказал, кто что учудил по пьяному делу – вот беда, пьют ещё в России, хотя и не любила этого безобразия Анна, – кого за отрочицу Катьку из дома Демидоваых сватают – не продешевили бы, кто сдуру в отхожую яму провалился; Юшкова, небось, опять препохабную историю приготовила, интересно знать, про што сказывать будет нынче… Завтра же поутру надо охоту из ягт-вагена учредить, давно не баловала себя Императрица сей забавой любимой.
За окном, подымая столбы пыли до крыши дворца, оттачивал шаг гренадерский полк, капрал хрипло кричал что-то непотребное – капралу можно, он для дела старание выказывает, а не просто языком мелет, – где-то не ко времени торопливой скороговоркой причитал умалишенный петух, собаки неохотно беззлобно перебрехивались – от нечего делать, должно быть, – мерцающие тучки жирных мух, назойливо жужжа, кружились над свальными кучами, обочь от левого крыла дворца, что пристроен был на месте бывших домов Апраксина, Рагузинского и Чернышева, кричали дети, играя в стукалку аль в лапту, повизгивая, скрипели разноголосые колодезные журавли и непрерывный колокольный звон покрывал своей замысловатой вязью говор великой столицы.








