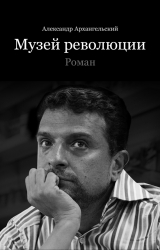
Текст книги "Музей революции"
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Отец Борис все понял, подмигнул им заговорщицки:
– Здравия желаю. Вам что, еще не выдавали спецодежду? А нам уже все подвезли, готовимся…
Обычно батюшка смотрел глаза в глаза, ровно, как в прицел, даже было порою неловко. Но сегодня сел бочком и уставился в пол.
– Теодор Казимирович.
– Я весь внимание, Борис Михайлович.
– Теодор Казимирович.
– Ну говорите же, отец, говорите. Что-то ведь точно случилось?
– Вы поймите, пожалуйста, в церкви как в армии – куда поставят, там и служишь.
– Хорошее сравнение. А что вытекает?
– Вытекает то, что я сегодня подал рапорт. Прошу благословения перевести в другой приход. Переведут – и слава Богу. А если нет… ну, значит, мне придется делать то, что здесь будет.
– А что же будет здесь?
– Здесь вас попросят снять с баланса храм.
– И?
– И передать на наш баланс.
– Но я не понял. Это же усадебная церковь? Почему возвращать? Как же так? А музей?
– Вот так, уважаемый Теодор Казимирович. Вот так.
– Я откажу.
– Вас очень убедительно попросят. Очень.
Пересилив себя, отец Борис поднял глаза.
Шомер не знал середины; тот, кто бросал ему вызов, по своей ли воле, по чужой, неважно, сразу превращался во врага. Только что он говорил с приятным, неглупым священником, но жизнь как будто вывернулась наизнанку, и перед ним оказался тупой, неначитанный поп. Вроде выражение лица покорное, почти трусливое, но на самом деле самолюбие его сжигает изнутри, все время улыбается неискренне, вон как морщинки побежали в стороны от глаз.
– Что же. Увидим, узнаем. Кстати сказать, я забыл. У нас забирают полставки, и доплату вашу я обязан сократить. Экскурсии вы все равно не водили.
Отец Борис развел руками, твердо улыбнулся: воля ваша.
После чего зависла многомесячная пауза; никаких бумаг от местного епископа, никаких строительных работ – только крохотный абзац в долгородской городской газете о том, что выставляется на конкурс прилегающая территория 248 га для проектной застройки в культ.-массовых целях и лесные угодья в пределах охранной зоны для каких-то там рекреационных целей. Заявки подавать… о месте проведения объявят дополнительно… и ничего. Но позавчера сквозь утреннюю тишину прорвался рокот; все, кто был в усадьбе, высыпали на улицу. В полуметре от усадебного театра, за прозрачным штакетным заборчиком ухала строительная баба, сотрясая промороженную почву; во все стороны бежала тонкая дрожь: сугробы кривились, снег на крыше вспрыгивал, покорно падал вниз.
– Что вы такое? Как вам позволено? Театр! Театр! Он деревянный! – дедушка выбежал без пальто; он забыл, как говорить по-русски.
Чернявые рабочие не обратили на него внимания; баба с острым присвистом воткнулась в землю, дуб передернулся, и дедушке за шиворот свалился снежный ком. Шомер стал обтряхиваться, как раздобревший пес, и с ужасом понял: он смешон.
Из «Мицубиси», сдвоенного, похожего на бронетранспортер, вышел холеный прораб в легкой уютной дубленке; через заборчик молча протянул бумажки, и спокойно вернулся в тепло.
Это был проект строительства. На проекте значился дачный поселок, овраг расширен, огорожен, превращен в спортивную площадку с длинным кортом и большим бассейном; водокачка плотно заштрихована.
– Это кто? Что – штрих? Значит что? – закричал дедушка.
Прораб еще раз вылез из машины, подошел к заборчику, свернул голову набок, чтобы поглядеть на план.
– А, водокачка. Снесем. Точка обстрела.
– Вода! Как вода будет?
– Вода вам будет. Но не сразу. Не волнуйтесь, хозяин, мы вам бочку подвезем. Не звери ж.
Строители стали долбить перемерзшую землю; вечером того же дня прораб зашел к Теодору Казимировичу с зеленым целлофановым пакетом, поставил пакет перед ним.
– Вот, полюбуйтесь, что мы тут нашли, только начали рыть, углубились на каких-то полтора-два метра, и – гляди. Интересные тут, видимо, дела творились, люди явно не скучали.
В пакете, как почерневшие и сгнившие на поле кочаны, лежали маленькие черепа, с круглыми дырками в затылочной части. Под черепами стыдливо прятались кости, обломки тазобедренных суставов.
– Можете открыть еще один анатомический музей, новые хозяева деньжат подкинут, – как бы добродушно пошутил прораб; сквозь показное добродушие повеяло невнятной угрозой. – Нет, но вы точно не в курсе? Так же просто черепа не появляются?
Растерянный Шомер помотал головой. Нет, он не в курсе.
– Вы бы, что ли, узнали. – Прораб изобразил глубокое разочарование. – История все-таки. А косточки отдайте батюшке, у вас же церковь есть на территории? Пускай отпоет.
Но беда никогда не приходил одна; тем же вечером смурной отец архимандрит напомнил о желании владыки перевести усадебную церковь на баланс Патриархии; бумаги на столе у губернатора, тот обещает положительный вердикт.
Жизнь придавила, как могильная плита, и пахнуло плесневелым холодом.
7
Весь тот ужасный день старик отмахивался от сотрудников. Хорошо, что Цыплаковой не было на месте; вернется – будет выедать кишки. Звонил далеким благодетелям; те возмущались, обещали отзвониться вечером, и почему-то ни один не отзвонился. Давление скакало; как бы ему не свалиться, нельзя сейчас сдавать позиции. Завтра утром он откроет совещание; и что предложит? Будет сидеть и растерянно хлопать глазами? Это невозможно, это против шомеровских правил. Он и так прокололся, позвонив Саларьеву в разбитом состоянии; вспоминая, Шомер неприязненно жевал губами и брезгливо морщился. Пашук его, конечно, меньше уважать не станет; он вообще хороший парень, только чересчур уклончивый, незрелый, ни за что не хочет отвечать и помимо основных обязанностей своих занимается какой-то ерундой. Но, хотя Пашук из понимающих, он все равно подумает: сдает старик. Обидно.
Пора использовать успокоительное средство. Он никогда не прибегал к нему зимой – рискованно, только поздней весною и летом. Но, кажется, настал особый случай.
Ранним утром Шомер вышел из усадебной гостиницы; семья… то, что можно называть семьей… жена уже лет двадцать пять жила отдельно, в Ленинграде, а здесь у него был постоянный директорский номер. Посчитал количество машин на освещенной стоянке: четырнадцать, почти все комнаты на выходные были заняты; прекрасно. Даже стройка никого не отпугнула.
Дорожки парка, освещенные садовыми светильниками, были тонкие и ровные, как стрелочки на офицерских брюках; на снежных жгутиках, оставшихся после метлы, тонким правильным слоем лежал красноватый песок. На излете липовой аллеи, сквозь черные сплетения деревьев, в синеве прожекторов сиял господский дом. А ведь когда-то (если мерить мерками истории – недавно) ночью тут светился только старый бронзовый фонарь, случайно найденный в подвале. Года полтора, пока не утвердили штаты, Шомер жил совсем один, на взгорье, в чудом сохранившейся сторожке. Каждый вечер зажигал фонарь. Хоть одно световое пятно, хоть один огонек в невыносимой черноте деревенской ночи. Просыпался в три часа утра; долго слушал, как на чердаке шуруют мыши, а в подклете крыса беззастенчиво грызет опору, смотрел, как моргает фонарь на ветру (похоже на азбуку морзе), и опять засыпал.
Он повернул на боковую тропку, и, пропетляв в кромешной тишине минуты три или четыре, снова оказался в парке. В поздней его части, романтической.
Все было закрыто снегом, а снег облит голубоватой льдистой коркой, пробитой множеством мелких копытец. Вот, царапая тонкие ноги, гуськом пробирались косули – кто-то явно их спугнул. А вот лиса мышатничала… Вокруг Приютина была хорошая охота; егеря, их вооруженная аристократия, умели сговориться с местной властью и зачастую обходились без лицензий, благодаря чему на здешних деревенских землях обосновалось несколько помещиков: так он называл успешных, содержательных людей. Содержательных во всех возможных смыслах.
Много лет назад, в середине иссушающего августа, Шомер нервно спал. Вдруг что-то грохотнуло, потом еще (он спросонок подумал: гроза, слава Богу!), раздался счастливый лай. Теодор Казимирович оделся, вышел – перед ним стоял высокий человек, лысый, крепкий, загорелый, с уверенным въедливым взглядом, похожий на масона девятнадцатого века. Человек опустил ружье дулом вниз, и только после этого заговорил – быстро, чуть невнятно:
– Простите великодушно, разбудил, не знал, что здесь усадьба, я тут первый раз. А вы кто будете? Директор?
– Директор. А вы?
– Сергей Антонович, Прокимнов. Можете просто Сергей.
– Теодор Казимирович, Шомер.
И не добавил – «Можно просто Теодор». Он еще не решил, что будет делать: гневаться или приглашать на завтрак.
Со стороны деревни (это хорошо; значит, стрелял не на их территории), перемахнув через кусты, к ним подлетела мокрая легавая; в зубах у нее, как испанский кожаный бурдюк, обвисала плотная утка.
– Ай, Ласка, ай, молодца, ай, хорошая собака, давай, давай сюда. Ласка! Отдай, сказал. Вот хорошо, вот умница. Простите, Теодор Казимирович, я понимаю, это наглость, но у меня к вам нижайшая просьба. Вы собачке воды не нальете? Мы от самого болота по жаре – бегом, у нее сердце может не выдержать.
Смуглый масон ему показался: хозяин, четкий, ясный человек, без сантиментов и вихляний. Таких директор уважал. И предложил:
– Хотите творога?
Они уплетали деревенский творог, густо заливая его сметаной, и говорили ни о чем, как будто были знакомы сто лет. Собака шумно лакала из миски, издавая звуки, похожие на всхлипы насоса.
В следующий раз Сергей Антонович забрел в Приютино уже в конце утиного сезона; они посидели, как следует выпили, закусывая солеными помидорами, с которых Прокимнов счищал кожуру, как скорлупу с крутого яйца. Потом приехал поохотиться на зимние каникулы: Шомер поселил его в бане – гостевые домики у них тогда еще не появились. А весной Теодор позвонил ему сам и попросил пострелять бобров, окончательно сгрызших плотину.
Через пять лет Сергей Антонович, сдружившийся со всем поселковым советом, получил во владение земли, в полукилометре от усадьбы; вслед за ним построились его друзья, так вокруг усадьбы и сложилось барское подворье. Кстати, это мысль, и неплохая. Надо будет позвонить Прокимнову; тут не только дружба, но и нечто понадежней, интерес: если все застроят, вольная охота прекратится. Так что господа помогут, заодно музею и себе.
Шомер знал свой парк наизусть, как слепые знают жизнь по звуку. В Крокодильем гнезде он построил боскетные залы. На малое Марсово поле вернул фонтанчики. Догадался, где была увеселительная роща (план ее не сохранился). Самолично, этими руками, большими, как дворницкие лопаты, ставил древесные сваи для летних катальных горок и менял скосившиеся шестеренки в механизме карусели. Карусель теперь вращается под музычку, мигает огоньками, детки радуются, взлетая и спускаясь на лошадках, а бабушки и дедушки любуются – и детками, и многоцветным отражением в пруду, и это он без боя не отдаст, не ждите. Ну и деньги. Конечно же, деньги. Сегодня без них никуда.
Идти было трудно; Шомер астматически присвистывал, вокруг него светился мерзлый пар. Прошлой осенью, на этом самом месте, он застукал мужичка с огромной ржавой тачкой. Издалека увидел, затаился. Мужичок штыковой лопатой подрезал зеленый дерн и ровными брикетами укладывал в тележку. Выемки чернели, как прямоугольные заплатки.
– Мужчина, – Шомер подошел неслышно, мужичок от ужаса присел. – Какой же вы дадите объяснений? Это ваше?
– Да я-то что, немного вот, для сада-огорода.
– Милицию будем звать? Или сами туда пойдем?
– Зачем милиция? Не надо. Я все на место положу.
И мужичок проворно стал укладывать брикеты в ямки, ласково прихлопывая поверху лопатой и не забывая кланяться хозяину.
Дорога, огибая пруд, опять вела к усадебному дому – с тыла. В конюшне спросонок заржала лошадь, и, сама себя перепугавшись, подавилась всхрапом. Стеклянная теплица исходила раскаленным светом; над смерзшейся плотинкой нависли мельницы, мукомольная и сукновальная; на месте скотного двора располагались баня и общежитие строительных узбеков, он в шутку называл их крепостными. Там же, в отдельном отсеке, проживали мелкие киргизы (оптом взял, целым семейством); лучших дворников на свете не сыскать. Главное, чтобы с узбеками не очень-то пересекались, друг друга они ненавидят.
В каменном здании суконной фабрики стоял настоящий станок. Экскурсанты толпятся, ткачиха Валя чуть актерствует, бодро вяжет узелки и ловко меняет бобины; ткань, сползающая складками в поддон, режется потом на штуки и продается за большие деньги по заказу: рецептура шпанских сукон настоящая, версальские расцветки, красота. А там, за высоким забором, в бывшем однодневном доме отдыха НКВД, теперь поселились художники. От слова худо. Картины писать не умеют, зато умеют шастать по аллее в диком виде, летом сколотили дом на дереве и ночевали там по очереди, идешь с обходом, а они, как филины, у-ху-ху, жутко. Это все саларьевские штучки, он их ему сосватал, говорит, вы ничего не понимаете, теперь искусство все такое. Бред. Но за аренду платят вовремя.
Шомер прошагал сквозь колоннаду; отпер черный ход – и только тут признался сам себе, что сделал этот крюк совсем не для того, чтоб насладиться утренним морозцем. Он просто не хотел опять увидеть котлован.
В подсобке, по секрету от комиссий, стоял его любимчик, тяжелый и широкий, как бизон, «Харлей». Двурогий, напряженный. Со стальными резкими подкрылками, страстный, сияющий черным огнем, развязный и слегка самодовольный… чудо!
Несмотря на зверский холод, Шомер аккуратно, по-армейски, разделся. На старомодное нательное белье (штаны со штрипками, обметанный суровой ниткой гульфик) натянул молодцеватый комбинезон, с кожаным покрытием поверх утепленной болоньи. Шерстяная шапочка со специально вывязанными ушками и небольшим намордничком. Поверх нее летчицкий шлем и огромные защитные очки со шлифованными металлическими ободками. На ногах высокие берцы на гусарской шнуровке. На руках перчатки с отворотами; он по старинке называл их «краги».
Теперь он был готов. Тяжелый, кряжистый, непобедимый.
8
– Федор Казимирович!
– Гендос!
Они приобнимаются, как плотные боксеры перед боем, голова к голове, отставив обильные попы. Похлопывают друг друга по толстым спинам.
Гена – бог и царь на сорок первом километре; если хочешь почувствовать скорость, позвони ему перед дежурством: ну как там дорога, свободна? Если нет, то Гена виновато отвечает:
– Федор Казимирыч, не получится. Злодеев надо пропустить.
Это значит: ожидается московское начальство. На рассвете выставят посты и будут ждать, когда по рации придет приказ: перекрывайте! Как только сигнал побежит по цепочке, десятки пузатых гаишников выскочат на перекрестки, заранее вращая полосатыми жезлами, как ветряки лопастями: проезжай, кто может!
Вдруг жезлы замирают в вертикальном положении. Стоп. Кто не успел, тот опоздал. Теперь давайте на обочину, на обочину, я сказал!
Над мощной трассой нависает тишина.
Минута… пять… десять… дорога вздрагивает и гудит от многотонной тяжести, по разделительной на скорости сто сорок несется кавалькада, вся в холодноватом свете мигалок. Разлетается тяжелый воздух. Конь бежит, земля дрожит; ничегошеньки с тех пор не изменилось. Кавалькаду замыкают джипы, напоминающие катафалки; джипы лихо делают «восьмерку» и меняются местами, на секунду приспускается затемненное стекло: видна рука, снисходительно приподнятая: ну что, спасибо тебе, брат!
Дискотека проехала.
Полосатая палка опять вращается, гаишник злобно машет кулаком раздолбанному драндулету, который тупо стоял на обочине с невыключенным поворотником.
– Куда ж ты мне сигналишь, не по ранжиру, скромнее надо быть.
Но такое случается редко; обычно Гендос отвечает:
– Ага, давайте, Федор Казимирыч, в шесть тридцать, но не позже. Позже на дороге будет тяжко.
Сейчас как раз шесть тридцать. Гендос считает деньги, широким, вольным жестом прячет свежие купюры в свой безразмерный кошелек, и командует по рации: внимание, пройдет Харлей, номерные знаки область, два пролета. Рация хрипит в ответ, и это значит: можно.
Теодор выжимает ручное сцепление, мотоцикл урчит и оживает.
Летом трудно ехать, потому что попа греется; зимой – потому что зима. Дорога либо смазана тончайшим льдом, как вазелином, либо покрыта мокрой взвесью, которая еще опаснее, чем наледь, и норовит плеснуть в стекло на шлеме. Но об этом успеваешь думать первую минуту-полторы. Потом еще недолго различаешь многослойный свет: на трассе чередуются подсвеченные и затененные участки, а чем дальше от дороги, тем сильнее ночь. И вот врубаешь дальний свет и полностью сливаешься со скоростью, становишься ее нервным окончанием. И нет никаких неудобств, только видно, как полупустая утренняя встречка помигивает меленькими огоньками. Через тебя несется ледяной поток; ты добавляешь газу; ничего не слышно, кроме реактивного рева, который ты вот-вот обгонишь.
Делаем рискованный маневр, на повороте круто клонимся влево, дорога будто прыгает навстречу, еще чуть-чуть, и чиркнешь берцами. Быстрое движение, послушная машина выпрямляется; последний впрыск горючего, рукоятка газа вжата до предела, и начинается полет на запредельной скорости – туда, где жизнь закончилась, а смерть еще не наступила; это счастье.
…Вот скорость опадает. Мир становится обычным, различимым. В длинном свете фар виден только лишь жилет Гендоса; лицо и кисти рук в провале; он похож на негра.
– Вы рисковый старик, Теодор! – уважительно говорит ему Гена, они опять боксерски обнимаются.
Шомер, успокоенный, вернувший силы, разворачивает мотоцикл, включает послушный глушитель, и, строго соблюдая правила, неторопливо возвращается в усадьбу.
Он тихо и спокойно думает. Машин все больше. Скоро рассветет.
9
Когда он вечером звонил Саларьеву в Москву – еще не знал, что будет завтра делать, как выйдет из создавшегося положения. А теперь все стало на свои места, определилось. Жизнь вернулась в отведенное ей русло. Планчик вроде бы нарисовался, пока только в общих чертах, но главное, что есть лихое чувство: все получится! Каждому найдется место в этом плане; каждый сыграет предназначенную Шомером роль.
Сейчас он притворяется, что слушает чужие доводы, ждет от сотрудников совета, а на самом деле просто замеряет их реакции.
Пашук, как водится, скептичен. Губернатор отвернулся, карта бита… а даже если бита, что же, лапки кверху? Веселый Желванцов рисует чертиков и ничего не предлагает; ну, ему паясничать положено по чину. Семён поддакивает, лишь Цыплакова рвется воевать. Что, в общем-то закономерно, к сожалению. Он давно уже заметил – чем моложе люди, тем они податливее и трусливей. Аньке скоро семьдесят, но баба огневая, Пашук еще туда-сюда, но пористый, жизнь течет через него, а он ей просто не мешает. Сёме сколько? Тридцать с небольшим? А он совсем не бойкий, не активный, как будто отсосали из него энергию. Желванцов тот побойчее, но у него одни лишь деньги на уме. Вот уйдем – на кого положиться?
Они его так напряженно слушают, гадают, на кого из них поставил старый Шомер: на боевитую Анну Аркадьевну, на уклончивого Павла Савельича, или на робкого Сёму, чтобы вместе с ним пересидеть беду в кустах? А старый Шомер ни на кого и никогда не ставит, он только сам с собой – и за себя. Но все они ему немного пригодятся, он всех использует по назначению. Потому что понимает: никогда нельзя идти одним-единственным путем. Проскакивая между пулями, нужно все время вихляться.
– Коллеги, спасибо, я понял. Я все обдумаю и дам отдельные задания.
– Что значит задания? Какие такие задания? Вы сами послушайте, что говорите. Мы вам что, порученцы? Кстати, Теодор Казимирович, почему вы ставите для чая кружки? Это же американская манера. Где наши чашки? А как завариваем? Это что, по-вашему, заварка?
Цыплакова вытащила из чайника пакетик, позволила ему чернильно стечь.
– Это акварелька с гуашью, а не чай.
Шомер наконец не выдержал.
Напрягся, помрачнел:
– Когда пригласите нас, мадам Цыплакова, к себе домой, то и нальете нам правильный чай. И подадите в правильных чашках.
Вдруг Отец Игумен перестал мурчать, дрогнул осторожными ушами; кошачье воинство насторожилось.
Прошла минута, две; по графинчикам, бокалам, чашкам пробежала дрожь.
Еще один тупой удар, еще; заныли циркульные пилы; порубка и строительство возобновились.
Четвертая глава
1
– Пашка, ты? Ну, наконец! Я заждалась, соскучилась, люблю! Давай не будем больше ссориться! Прости, прости, я полная дура, прости!
Рыжая пулей выскочила из мастерской; в одной руке игла, в другой – заготовка для тулова. Он должен был подумать: слава Богу, мир! А подумал: что ж ты напустила холод!
– Снова окна настежь? Слушай, ты когда-нибудь доиграешься до воспаления!
Тата не желала замечать напряга. Прижалась, потерлась щекой; волосы растрепаны, должно быть, пахнут свежей краской. Павел чмокнул жену в макушку и вместо ожидаемого умиления, которое всегда приходит, когда они решают примириться, испытал прилив подростковой злости. Безудержной, неуправляемой. Сколько раз просил: ну сделай ты прическу, поухаживай за волосами, красивые же, но нет, мы гордые, нам и так неплохо, обойдемся.
Тут же сам себя перепугался и прикрыл раздражение лаской. Мягко отобрал иглу и заготовку, раздельно положил на полочку (в кукольное тело иглы не втыкают; у кукольников масса заморочек), и предложил:
– Все, стемнело уже, погуляем?
– Ну, пойдем, если хочешь. Хотя я с утра нагулялась.
Тата демонстрировала бабью, деревенскую покорность. Дескать, была виновата, за это даже погулять готова, но только потому, что просишь ты, а сама бы – ни за что и никогда.
Разумеется, он тоже не хотел на слякотный мороз, но как мог, оттягивал минуту, когда они усядутся за кухонный стол, и надо будет разговаривать глаза в глаза. Спешно вынул из шкафа Танину черную кофту, крупной вязки, длинную, разлапистую; поставил сапоги перед диванчиком, подал шубейку. Жена нырнула в рукава и намекающе застыла; он сообразил, что надо притянуть ее, губами коснуться шеи.
Тата довольно повела плечами; повернулась, снова откинулась, на миг прижалась вертким телом.
Фонари на Галерной светили неохотно, словно бы из милости, мутные огни плескались в черных лужах.
– Давай рассказывай, как все прошло?
– Ты про что? про Ройтмана? отлично. Заказчик остался доволен. Деньги будут выплачены в срок.
– А мякиши свои сфотографировал?
– Ах, я дурак. Ты знаешь, не дотумкал. Но диск с виртуальным музеем привез.
– Да нужен мне твой диск. Я люблю, чтобы все самодельное, ручками… Слушай, попроси кого-нибудь, пусть проберется к Ройтману и снимет? Как тать в нощи. А? Ты же можешь. Так хочется взглянуть, что получилось – в целом.
– У Ройтмана, пожалуй, снимешь…
Сквозь Галерную, как через вытяжку, тянуло темным холодом. Они вывернули к лунному Исакию, от Невского свернули на каналы. Здесь ветер сделался потише; окна светили желтым; на многих домах, во всю этажную длину, висели узкие плакаты: продается.
Говорили обо всем, что на язык ложится: кто звонил, а в усадьбе, знаешь, дело плохо, Шомер всем дает штабные поручения, шифруется и рассуждает про линии защиты, но карта, кажется бита, и, кстати, не надо было тогда отказываться от каско на машину, вот у Климовичей опять авария; между прочим, у меня такое ощущение, что у наших крыша окончательно поехала, так недалеко и до войны; да какая война, не смеши; так что, ты говоришь, тебе поручено? Сквозь идиллическое воркование он вспоминал, как позвонил сегодня той, и как включился автоответчик, на котором Старобахин приветствует лающим тоном: «Алё, меня нет, запишите информацию после гудка».
Они вернулись домой через час; вдвоем нарезали салат, настрогали сверху пармезану, Павел открыл бутылку красного, стал наливать – дрогнула рука, он расплескал.
Тата покачала головой.
– Что же ты сегодня так торопишься?
А он и вправду торопился; так плохой дирижер подгоняет оркестр, прикрывая скоростью нехватку чувства.
– Прости. Задергался. Тяжелый день.
– Ну, за тебя. Чтобы следующий был полегче.
Павел внутренне собрался, изобразил домашнюю усталость, выдержал невыносимо нежный Танин взгляд, мужественно перенес ее улыбку и заставил себя посмотреть на жену долгим доверчивым взглядом. Таня даже засмущалась.
– Пашуля, ты чего? так странно смотришь… передай мне, пожалуйста, перец.
Она, конечно, сильно изменилась. Не постарела, нет, но проявились новые черты. Припухлость верхней губки исчезла; нижняя губа, наоборот, чуть выпятилась; снегириные щеки опали, темно-серые глаза стали еще крупнее: что-то в этом есть опасное, базедовое, и привлекательное вместе с тем. Но главное, конечно же, не в этом. А в невероятной, строгой бледности. Рыжие, неприбранные волосы лишь оттеняют эту белизну. Как белилами накрашена. Бедная ты бедная. Врачи бормочут: как получится, не знаем, нервный сбой, соматика, когда-нибудь само пройдет.
Через месяц после тех ужасных родов (прошло уже четыре года – время мчится!) Тата вышла на привычную прогулку. Только что закончился июньский быстрый ливень, все вокруг сияло мокрым светом. Через полчаса вернулась, и Павел ее не узнал; перед ним стояла тетенька, состаренная лет на двадцать, с одутловатой мордочкой, заплывшими глазами и скошенной губой, как после укуса осы или шершня. Маленькие руки превратились в красные раздутые мешочки с отростками на месте пальцев; она с трудом дышала: обложило горло.
Оказалось, пережитый ужас вызвал аллергию. Но не привычную сенную лихорадку на цветение, не астму на клещей домашней пыли, не крапивницу на помидоры; началась редчайшая болезнь: полная несовместимость с солнцем. Стоит прямому лучу попасть на открытую кожу или скользнуть по сетчатке, организм выбрасывает снопы гистаминов, и по телу начинает разбегаться опухоль: вздуваются то уши, то руки, то коленные чашечки, то зоб, то грудь.
Врачи увлеклись интереснейшим случаем, не хотели выписывать Тату; к ней в затемненную палату водили аспирантов, с восторгом заставляли раздеваться и на минуту открывали шторы. Вот, вот, коллеги, видите? пошел процесс. Саларьеву пришлось скандалить; Тату отпустили под расписку, с нескрываемой надеждой, что она когда-нибудь вернется в их больницу.
Не вернулась. Но с тех пор живет усеченно. В пять – подъем, прогулка, если надо, круглосуточные магазины; после наступления вечерних сумерек – как правило, опять прогулка. А в дневное время – заточение. Завеси приспущены, всюду горит электричество. Это не трагедия, не катастрофа. Можно вечером поехать в гости или сходить в кино; на выставки ее пускают ночью. В каком-то смысле это даже лучше. Павел обожает бродить по безлюдным выставочным залам, когда вокруг мигает видео, покачиваются зыбкие конструкции, и такое чувство, что ты внутри проекта, часть чужого замысла, и невидимые зрители наблюдают за тобой.
Единственное, с чем справиться не удалось, так это с белыми ночами. Ядовитый привкус солнца сохраняется почти до самого рассвета, оставляя жалких полчаса на передышку, и квартира превращается в тюрьму. Поэтому в двадцатых числах мая они пакуют вещи, и вывозят Таню до конца июля – за границу. Как правило, в Испанию.
В Барселоне нет невыносимой, иссушающей жары; там дует ветерок, легко дышать. Ночью Тата не ложится. Часов до трех оттягивается в буйном городе, ест тапасы и пьет риоху, наблюдает за стариком-официантом, который важно разглаживает скатерть восковыми дрожащими ручками; протискивается через узкие, как будто бы прорезанные бритвой, улочки, где галопом носятся собаки, и когти цокают об асфальт, как если бы лошадь скакала на цыпочках… Потом на Рамбле вместе с одуревшими футбольными фанатами кричит: Оле-оле-оле! Барса! Оле-оле-оле! И поддевает пьяных англичан. С трех ночи до шести утра гуляет в полном одиночестве. То на покатой Еврейской горе, то в прибрежном парке, где лебеди смотрят на нее своими напряженными глазами.
Возвращается, задергивает шторы и ложится спать. Встает после обеда, пишет письма, чертит выкройки, читает.
Так что в целом они приспособились. Но от современных кукол Тата отказалась: электричество смещает краски. Теперь она делает лишь стилизации под старину. Напудренные дамы в париках, с большими мушками, кавалеры при смешных косичках, все немецкое, добротное, ненастоящее. И Тата тоже стала бледная, как дамы на портретах восемнадцатого века.
…Все темы на сегодня были проговорены. Они скучно жевали салат, запивая простым, неглубоким вином, и молчали – то ли каждый о своем, то ли о чем-то совместном.
– Ну что, чайку?
– Слушай, что-то сегодня не тянет. После вина – не пойдет.
– Тебя – не тянет – чаю? Ушам своим не верю. Паша, ты не болен? Ладно, как скажешь. Отложим чай до завтра.
Видно было: Тата подавила вспыхнувшее мелочное раздражение. Растворила его в себе до конца, размешала, так, чтоб ни осталось и следа. Вымыла посуду, подошла, прижалась теплым животом. Плотно, доверчиво, с легким подтекстом.
О, Господи, только не сейчас, не это.
– Тат, все-таки, ты знаешь, я разбит. – Пришлось добавить толику смущения.
Ага, ты опять разозлилась. Наши бледные щечки пошли ярко-красными пятнами. Ну, сдержишься или прорвется? – Нет, сдержалась.
– Ну конечно, самолет, дорога, долгий день. Тогда по койкам? Что, спокойной ночи?
– Спокойной ночи, Тат. Давай, ложись, я отправлю отчет и приду.
В кабинете все устроено с удобством. Книги – только те, что сегодня в работе. На длинном столе у окна – мощная монтажная система, есть авидовская версия, есть эппловская, есть тридешная программа для объемной анимации. На стене экран, большой, растянутый, киношный, по бокам два приставных экранчика, похожие на электронное трюмо. На подиуме возле мягкого дивана – почти игрушечная телестудия, два метра на два и полметра в высоту. Над выгородкой сеть вращающихся прожекторов. Внизу, на рельсе, крохотные камеры, и еще одна, телескопическая, висит на закрученном тросике.
Обдумывая новую идею, Павел гасит люстру и зажигает маленькие прожектора: сердцевина комнаты мертвенно исходит синим светом, как в больнице. Он запускает камеры, как запускают самолетики или кораблики с дистанционным управлением. Подает с компьютера проекцию – вспыхивают образы музейных залов, экспонатов, посетителей; он чертит электронным грифелем, приводит всех в движение, отслеживая на экране, как будет разворачиваться кадр. Наезд, отъезд, круговой разворот. Конечно же, это излишество; можно обойтись и обычным 3D, но работа, доставляющая удовольствие, начинает словно думать за тебя, она живет своей отдельной жизнью, и с этим чувством мало что сравнится. Только беззаконная влюбленность.
Господи, но что же ему делать? Как избавиться от наваждения, пережить его и не наделать глупостей? Оно же кончится когда-нибудь? Такое не бывает слишком долго? А в подкорке свербело: у тебя же есть ее мобильный, брось эсэмэску с питерского номера, она не догадается, кто написал.








