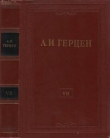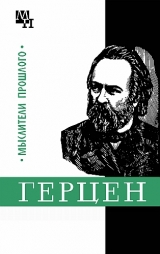
Текст книги "Герцен"
Автор книги: Александр Володин
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
7. «Сделать философию практическою…»
В историческом развитии связь философии с политикой выступает обычно как очень сложная и опосредованная. В сочинениях же Герцена 40-х годов философия, как мы видим, занимает место ближайшей отправной теоретической посылки для практического действия и социалистического идеала.
В таком отношении к философии Герцен был не одинок. Подобные формы общественной мысли в виде радикально-социалистической интерпретации гегельянства развивались в ряде стран Европы 30—40-х годов XIX в. Выросшее в той или иной степени из так называемого левого гегельянства, это течение философско-политической мысли (его условно можно определить как «философию практики» или «философию действия») представлено, помимо Герцена, целой группой мыслителей. Среди них А. Чешковский, А. Руге, М. Гесс, В. Белинский, М. Бакунин, Ф. Клацел, А. Сметана, Э. Дембовский, Г. Каменьский и др.
Социальные и философские взгляды этих мыслителей существенно различались между собой, что объясняется как спецификой национальных условий, разным характером решавшихся непосредственных задач, так и своеобразием мышления каждого отдельного мыслителя. Имелись значительные отличия также и в самосознании ими смысла и направленности своего творчества и т. п. Однако вместе с тем радикальные философско-политические концепции упомянутых мыслителей Германии, Польши, Чехии и России имели и некоторые более или менее общие черты. Интегрально их можно охарактеризовать следующим образом.
За основу философии истории принимается гегелевская диалектика как принцип постоянного движения, осуществляющегося в виде отрицания, борьбы нового со старым, в которой силы разума неизбежно– хотя и не сразу – одерживают победу. Представление об истории как борьбе революционного идеального начала против начала косного, инертного, материального выступает как философское основание острой критики тех сторон социально-политической действительности, которые представляются несоответствующими, противоречащими разуму.
Под огонь критики попадают при этом не только атрибуты правящих режимов – церковь, цензура, полиция, распоряжения и действия правительства и т. д., но и сам Гегель, точнее говоря, его политическая консервативная платформа. В ней усматривается своеобразная дань философа старому, приспособление его к существующему, противоречащее его собственному методу.
Углубление критики Гегеля приводит, далее, к тому, что заимствованная из его философии идея неодолимого шествия человечества ко все большей свободе истолковывается таким образом, что гегелевская концепция в целом обвиняется в неисторическом и намеренном завершении общественного процесса. Философия, вместо того чтобы замыкаться в собственной абстрактно-теоретической сфере, должна теперь раскрыться в действительности, должна быть «ринута в жизнь». «В лице Гегеля, – писал Белинский, – философия достигла высшего своего развития, но вместе с ним же она и кончилась как знание таинственное и чуждое жизни; возмужавшая и окрепшая, отныне философия возвращается в жизнь… Начало этого благодатного примирения философии с практикой совершилось в левой стороне нынешнего гегелианизма. Примирение это обнаружилось и жизненностию вопросов, которые занимают теперь философию, и тем, что она оставляет понемногу свой тяжелый схоластический язык…» (11, VII, стр. 50).
С этим связана идея о практически прогнозирующем характере философии, которая из концепции, лишь объясняющей прошлое и настоящее, должна стать теорией будущего. В этом состоит ее основная жизненная функция. Как писал А. Чешковский, «констатация познаваемости будущего есть необходимая предпосылка для организма истории» (цит. по 27, стр. 151). Настало время перехода от теорий равенства и свободы к их практическому воплощению. «До сих пор философия относилась только к тому, что есть и было, но не к тому, что будет, так что немецкую философию, и именно ее последнюю фазу, гегельянство, можно называть философией прошлого…» – утверждал М. Гесс. – «Если философия не может больше возвратиться к догматизму, то она должна, чтобы достигнуть чего-то положительного, перешагнуть через самое себя к делу. Философия дела отличается от прежней философии истории тем, что она влечет в область спекуляции не только прошлое и настоящее, но вместе с этими двумя факторами и исходя из них также и будущее» (цит. по 27, стр. 232).
Идея перевода философии в жизнь, идея, как писал Белинский, «живого примирения философии с жизнью, теории с практикой» (11, VIII, стр. 502), необходимо оказывается связанной с трансформацией законов и категорий гегелевской диалектики – как форм существования надмирового духа – в законы развития особой идеальной, но и вполне реальной «личности» – человечества. Основные категории диалектики рассматриваются как законы его развития, либо раскрывающие его природу, либо фиксирующие несовпадение человеческой сущности с условиями ее существования. История в целом истолковывается как движение человечества к бытию, наиболее адекватному его природе (здесь обнаруживается сближение с философским антропологизмом). «В непосредственной жизни человечества, – писал Белинский, – мы видим стремление к разумному сознанию, стремление – непосредственное сделать в то же время и сознательным, ибо полное торжество разумности состоит в гармоническом слиянии непосредственного существования с сознательным». Близко то время, когда человечество «будет человечеством не только непосредственно, как было доселе, но и сознательно» (11, VIII, стр. 278, 279).
Этот сознательный период существования человечества, постигнувшего и одействотворившего сущность собственного предназначения, сближается с социалистическим идеалом. Философия Гегеля выступает, таким образом, как своеобразная теоретическая база социалистических утопий, как общая теория социального вопроса. В публицистике это выражается в призыве (выдвинутом впервые еще Г. Гейне) объединить немецкую философскую теорию с французской социальнополитической практикой. При этом гегелевская идея примирения противоположностей сближается иногда, как у Герцена, с идеями социалистов о ликвидации антагонизмов и «примирении» человечества.
Как результат такого рода синтеза теории и практики, философии и социализма и выступает новая философия – «философия дела», «практики», «творчества», философия как «алгебра революции». Она представляется не только венцом развития мировой мысли, но и как своеобразное слияние теории с действительностью. Раньше человек был всего-навсего бессознательным орудием абсолютного духа; теперь он сам сознательно определяет свою судьбу. История превращается в продукт и процесс сознательной деятельности людей. Отныне люди будут руководить становлением истории по законам разума, поскольку они раскрылись им в гегелевской философии. Одним из первых в европейской философии эту мысль развил А. Чешковский: «Практическая философия, или, точнее говоря, философия практики, есть конкретнейшее влияние на жизнь и социальные отношения, развитие истины в конкретной деятельности – таков вообще будущий удел философии». И далее: «Отныне философия начнет становиться прикладной… теперь, следовательно, начнется ее постоянное влияние на социальные отношения человечества, чтобы развивать абсолютную объективную истину не только в уже существующей, но и в самой образующейся действительности» (цит. по 27, стр. 151). По словам статьи М. Бакунина «Реакция в Германии», очень высоко оцененной Герценом (см. 9, II, стр. 256–257), Гегель в качестве вершины мировой философии «уже перерос теорию… и постулировал новый практический мир, мир, который никоим образом не будет рожден путем формального приложения и распространения готовых теорий, а будет создан только самобытною работою практического автономного духа». Момент постижения теории есть вместе с тем и момент ее завершения; «завершение же ее есть ее саморазрешение в самобытный и новый практический мир, в действительное царство свободы» (10, стр. 137).
Абстрактная мысль сменяется действием, а идеальное существование есть вообще не что иное, как творчество. «Понятие творчества, – писал Эдвард Дембовский, – решает задачу нашего времени, задачу соединения мысли с делом, ибо оно есть выражение их союза; это понятие является принципом, который ляжет в основу будущего мира, а, следовательно, и будущей философии» (19, стр. 274). Подобная идея развивалась и другим польским мыслителем – Генриком Каменьским: «Сделать философию практической– это то же самое, что поднять ее на ступень, на которой она будет обладать силой действия. Она станет руководительницей всех человеческих поступков и разрешит общественные вопросы» (24, стр. 802).
Поскольку «философия практики» включает в себя, таким образом, принцип активности, постольку в этой форме очень резко ставится проблема исторического субъекта.Последняя разрабатывается зачастую как проблема формирования своеобразной духовной элиты, объединения критически мыслящих личностей, ведущих за собою косную массу. У некоторых же мыслителей, как это мы видим в сочинениях Герцена, эта проблема выступает как проблема внедрения философии, науки в народные массы. Однако фактическая неразвитость исторической инициативы народа реально ограничивает этот принцип сближения с массами рамками постановки вопроса.
Сходство попыток создать «философию дела» («философию практики», «философию творчества», философию как «алгебру революции» и т. п.) у значительного ряда передовых мыслителей 30—40-х годов XIX в. Германии, Польши, Чехии, России (а, возможно, и других народов) свидетельствует о наличии определенного общего этапа в развитии социально-философской мысли этих стран. Эта общность объясняется не только одной и той же исходной теоретической концепцией (Гегель) и тесными идейными контактами (Герцен и Огарев, например, штудировали сочинение Чешковского «Пролегомена к историософии» (см., напр., 9, XXII, стр. 38) [50]50
Подробнее об отношении Герцена к Чешковскому см. в статье А. Балицкого (см. 49). К сожалению, автору осталась неизвестной впервые опубликованная в 1962 г. статья Герцена «О публичных чтеньях г-на Грановского (Письмо второе)», содержавшая развернутую оценку философско-исторической платформы Чешковского (см. 9, XXX, стр. 487–488).
[Закрыть]; Бакунин печатался в журнале Руге и т. п.), но прежде всего определенной объективной общностью задач социального развития, сходством условий, в которых находилась общественная мысль этих стран.
Это был этап становления радикальной буржуазно-демократической (в ряде стран – крестьянской) идеологии, становления, совершающегося в условиях, когда буржуазный строй на Западе уже обнаружил свой антинародный характер и передовые французские и английские мыслители уже выдвинули новый общественный идеал – социалистический. Однако реальное движение масс в направлении к социализму находится даже и в самых передовых западных странах в сущности еще в зачаточном состоянии. У мыслителей же относительно менее развитых в социально-экономическом отношении стран вообще отсутствуют четкие представления о классово-экономической структуре общества и о тех социальных силах, которые могут поддержать идею социализма. Эта неразвитость классовых отношений выражается в сфере общественной мысли, в частности в том, что политическое сознание оказывается заключенным в философские оболочки.
Налицо новая по сравнению с западноевропейским Просвещением XVIII в. форма антифеодальной идеологии, своеобразие которой состоит как в том, что, если не по существу, то по форме, она является антибуржуазной, так и в том, что она опирается на идеи более высокоразвитой философии, прежде всего философии Гегеля.
Научно-теоретическое значение «философии практики» состоит в попытках не только «спасти» диалектическое, методологическое начало гегелевской философии, высвободив его из-под консервативно-политической оболочки, но и применить диалектику как метод рационального анализа реальных исторических явлений (впрочем, часто на идеалистический манер – в виде подведения конкретно-исторического материала под формулы абстрактной логики). Практическое значение данного типа идеологии заключалось в «рационализации» общественного сознания, в перенесении некоторых важнейших социальных проблем в сферу исторического и философского рационализма.
Слабой стороной «философии практики» было упрощенное понимание связи между общей методологией и политической практикой: философия якобы и есть общая теория истории. «…Философия, – писал Белинский, – есть душа и смысл истории, а история есть живое, практическое проявление философии в событиях и фактах» (11, VI, стр. 91–92). Тем самым по существу снимался вопрос о своеобразных законах общественного развития как особой сферы бытия, не совпадающей с природой, но и не сводящейся к духовному творчеству. Поэтому практические рецепты социального действия выводились обычно не из законов исторически конкретной действительности, а из общих философско-социологических рассуждений, отличающихся к тому же идеализмом. Несмотря на материалистическую тенденцию, гегельянский подход к философии как царице наук и к истории как проявлению разума оставался в значительной мере не преодоленным.
Это приводило, с одной стороны, к невольной телеологизации исторического процесса, развивающегося якобы по законам «разумной необходимости» (Белинский), где случайность не играет никакой существенной роли, не имеет «реального значения», где действительность предстает как «необходимое развитие свободного духа» (10, стр. 128). С этих позиций оказывалось затруднительным объяснение медленности и трудности прогресса, периодов застоя в истории, «эпох гниения и смерти обществ», зигзагов в развитии социального процесса, исторической спячки народных масс на протяжении долгих веков и т. п.
С другой стороны, слишком большая абстрактность отправных принципов обусловливала и то обстоятельство, что действие выступало в этом случае не как следствие точного знания конкретных ситуаций, а в качестве результата своеобразных философско-нравственных императивов; знание порой оборачивалось верой, рационализм – иррационализмом. Это не могло не приводить к растерянности при реальном столкновении с действительностью, к настроениям скепсиса и пессимизма, а в переломные моменты классовой борьбы к кризису, краху данного типа идеологии, к «духовным драмам» ее адептов.
Показательной в этом отношении является духовная драма Герцена в эпоху революции 1848 г.
Глава III. Драма исканий
1. «Мы обманулись, мы обмануты»
«Нет, это не пустые мечты» – эти слова гетевской «Надежды» как заклинание часто повторялись Герценом и его друзьями и в 30-е и в 40-е годы. Герцен верил в скорое осуществление социализма, хотя некоторые факты и подмешивали к этой вере определенную долю скептицизма. Точнее даже сказать: Герцен жил этой верой, то чуть затухающей, то ярко вспыхивающей.
И когда в феврале 1848 г. восставший парижский люд смел монархию банкиров, выбросил бюст короля из Тюильрийского дворца и сжег трон, когда в воздухе зазвенели призывы ко всеобщему братству и многочисленные ораторы одушевленно стали говорить о том, что провозглашение республики положило конец эксплуатации человека человеком и классовой борьбе, показалось, что мечта об обществе подлинного равенства начинает воплощаться в жизнь, что разум торжествует, что история подтверждает прогнозы и предначертания социалистов. Декорации были приняты Герценом – как и многими другими, как и самими парижскими «блузниками», почувствовавшими себя вдруг хозяевами положения, – за подлинную сущность событий.
Но с каждым днем все более обнаруживался антипролетарский характер действий правительства, отклонившего требование рабочих об объявлении государственным знаменем алого стяга. «Организация труда», которой требовали пролетарии, обернулась на деле созданием так называемых национальных мастерских. Рабочие добивались уничтожения эксплуатации человека человеком, в ответ на это правительство учредило комиссию во главе с Луи Бланом, не имевшую никакой реальной власти. Почти открыто готовила буржуазия штыки и пули для народа, которому она кланялась в феврале. Еще каких-нибудь два месяца назад буржуазия заискивала перед рабочими, весною 1848 г. она не только устранила социалистов – Альбера и Луи Блана – из правительства, не только не хотела больше слушать о министерстве работ, но даже стала преследовать социалистов: «…слово „социализм“ делалось уже клеймом, которым обозначали людей, отверженных мещанским обществом и преданных на все полицейские преследования» (9, V, стр. 137). «…Мы обманулись, мы обмануты», – восклицает Герцен после майских событий, когда сорвалась попытка масс путем демонстрации добиться роспуска буржуазного Учредительного собрания. «…Революция побеждена, вслед за нею будет побеждена и республика» (9, V, стр. 132).
Расстрел повернувшей к контрреволюции буржуазией парижских пролетариев в июне 1848 г. окончательно отрезвил Герцена. Ему открылась вся пропасть, расколовшая европейское общество: буржуазный характер власти, возникшей из революции, и социалистическая природа одного лишь пролетариата.
Порожденная этими событиями духовная драма Герцена, имевшая главным своим политическим аспектом разочарование в буржуазной политической демократии, была частным выражением общего кризиса освободительной мысли середины XIX в. Как и этот кризис вообще, духовная драма Герцена ярко обнаружила окончательный крах идеологии Просвещения, в основе которой лежало представление о нерасторжимости и единстве интересов всего народа, о разуме человечества, правящем миром. И в самом деле. Несмотря на фразу о противоположности интересов буржуа и пролетариев, Герцен до июня 1848 г. еще не представлял себе всю глубину противоречий между «блузниками» и «мещанами», неимущими и собственниками. И лишь спровоцированное буржуазией июньское выступление парижских пролетариев и разгром его силами «порядка» – революция отчаяния, как назвал ее Маркс, – просветили его на этот счет. Силы правительственных войск превосходили силы повстанцев в несколько раз. Буржуа уничтожали рабочих, как диких зверей. Расстрелы пленных, расправа над ранеными, огульная резня всех, кто в блузе… Сотни инсургентов пали в бою, тысячи были уничтожены карателями после боя. Мировая реакция рукоплескала палачам. Многоопытный в кровавых делах Николай I радостно приветствовал генерал-усмирителя Кавеньяка с разгромом «разрушительных учений коммунизма». Но Николай ошибался – уничтожить движение к социализму было невозможно. Разрушено было иное. Вместе с пороховым дымом развеялись прежние политические иллюзии пролетариата. Июнь разбил в пух и в прах миф о «надклассовом» социализме, разоблачил легенду о возможности соглашения классов, показал всю непроходимую глупость сказки о всеобщей заинтересованности в обществе социального равенства, развеял небылицы о «трудящихся вообще». За четыре дня борьбы пролетариат наголову перерос своих мелкобуржуазных вождей и утопически-социалистических идеологов. Он увидел, что только он один противостоит обществу частной собственности и капиталистической эксплуатации.
У Герцена, который был свидетелем небывалого позора буржуазии, окончательно раскрылись глаза на сущность ее «либерализма». Сравнивая террор якобинцев XVIII в. и контрреволюционный террор 1848 г., он отмечает жестокую свирепость современной ему буржуазии. Якобинцы публично объявляли о казнях; их террор во многом определялся революционной необходимостью; списки осужденных на гильотину внимательно рассматривались. Палачи 1848 г. карали по ночам, без суда и следствия, «мстили подло, безопасно, втихомолку» (9, V, стр. 154). Со всей силой революционной страсти Герцен, тяжело переживавший поражение пролетариата, обрушился на этот предательский «либерализм»: «Либералы всех стран, со времени Реставрации, звали народы на низвержение монархически-феодального устройства во имя равенства… Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стен явился– не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле – пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот „несчастный, обделенный брат“, о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же егодоля во всех благах, в чем егосвобода, егоравенство, егобратство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от братаза штыками осадного положения, спасая цивилизацию и порядок!»(9, VI, стр. 53).
В этих рассуждениях уловлена та закономерность, что народ в своем революционном творчестве вышел в 1848 г. за пределы буржуазной революции. Однако не совсем понимая то, что буржуазия не может обойтись в революции без развязывания инициативы народа, его страстей, его силы, Герцен останавливался в некоторой растерянности перед следующим парадоксом: «либерализм посадил народ на трон и, кланяясь ему в пояс, старался в то же время оставить власть себе» (9, VI, стр. 82).
Не умея объяснить действительной сущности буржуазного либерализма, Герцен мучился вопросом: где причина антинародного характера деятельности членов временного правительства? Ему казалось, что поражение революции объясняется во многом их личным предательством. Он мучительно размышлял над тем, «отчего люди, провозглашавшие республику, сделались палачами свободы» (9, VI, стр. 52). «Почему именно этим людям в руки попалась судьба народа, освободившегося за минуту до того?» (9, V, стр. 149). Герцен никак не хотел понять, что «эти люди» представляли интересы определенного класса, что с провозглашением республики в феврале 1848 г. никакого «освобождения» народа собственно не произошло, что политическое руководство движением было всегда в руках буржуазии, что революция не могла быть иной, кроме как буржуазной.
Иначе говоря, буржуазная революция в условиях, когда перед человечеством маячат уже идеалы социализма, была воспринята Герценом как предательство интересов народа, как исторический анахронизм. Революция, с которой он связывал свои мечты, признавалась им внутренне порочной. Но это было лишь одной стороной его идейного кризиса. Другая состояла в том, что, окончательно разочаровавшись в буржуазной демократии, Герцен вместе с тем не видел сил, которые могли бы вывести общество из существующего положения. Этот сложный характер духовной драмы Герцена был подчеркнут В. И. Лениным, который писал, что она «была порождением и отражением той всемирноисторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии ужеумирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще несозрела» (7, стр. 256).
Рассматривая июньские события 1848 г. как начало борьбы «между гнилой, отжившей, бесчеловечной цивилизацией и новым социализмом» (9, XXIII, стр. 80), Герцен полагал, однако, что пролетариату долго еще не подняться после расправы, учиненной над ним буржуазией. Все больше одолевали его сомнения в возможности скорого осуществления социализма. Вывод, к которому он однажды приходит, полон печали: будущего предвидеть нельзя, гарантий в неизбежном осуществлении социализма нет. «Да здравствует смерть!» – провозглашает Герцен и в одной из статей «С того берега» (1848) и в последнем «Письме» из Франции (1851). В этом призыве – убеждение в том, что старый христианско-феодальный мир умирает и ничто не может остановить его гибели, однако массы еще не готовы к социализму.
«У меня кружилась голова от моих открытий, пропасть открывалась перед глазами, и я чувствовал, как почва исчезала под ногами» (9, X, стр. 116) – так Герцен характеризовал свое настроение, вылившееся в «Эпилоге к 1849 г.». В «Былом и думах» он с предельной правдивостью так сказал о своем идейном кризисе: «Сомнение заносило свою тяжелую ногу на последние достояния; оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторские мантии, а революционные знамена… из общих идей оно пробиралось в жизнь» (9, X, стр. 232).
В этом признании многие буржуазные авторы усматривали отказ Герцена от идеи революции (см., напр., 14, стр. 190, 212, 217). В действительности же речь шла об отказе от прежних «революционных знамен». Оказавшись последовательнее и смелее духом многих современных ему демократов, Герцен признал несостоятельность имевшихся налицо теорий освобождения. Это была, как он сам говорил, «болезнь истины».
«Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших „С того берега“, – писал он. – Я в себе преследовал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и обман; я не над ближним издевался, а над самим собой и, снова увлеченный, мечтал уже быть свободным, но тут запнулся. Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя.
Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться… от лишних.
И надменно я поставил заглавием последней статьи: „Omnia mea mecum porto“ [51]51
Все свое ношу с собой (лат.).
[Закрыть].
Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая в омуте событий, в круговороте общих интересов, обособлялась, снова сводилась на период юного лиризма без юности, без веры. С этим faro da me [52]52
Ставкой на самого себя (итал.).
[Закрыть]моя лодка должна была разбиться о подводные камни, и разбилась. Правда, я уцелел, но без всего…» (9, X, стр. 233–234).
…Лишь очень медленно и постепенно Герцен обретал новую веру в человечество и в исторический прогресс. Его скептицизм был, по словам В. И. Ленина, формой перехода от надклассового демократизма к новому, пролетарскому мировоззрению. Но достичь последнего Герцену так и не удалось.