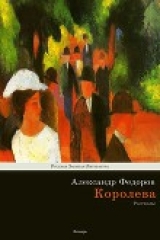
Текст книги "Королева"
Автор книги: Александр Фёдоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
II
На другой день под вечер по пароходу распространилась страшная весть: обе ядовитейшие змеи ускользнули из своего стеклянного плена.
Как это случилось, никто не знал. Сторож их, раз в день открывавший стеклянный ящик сверху, клялся, что он аккуратно закрыл его вчера. Наконец, невероятно, чтобы они могли выпрыгнуть со дна ящика через стеклянную перегородку. Тем не менее его едва не растерзали поражённые ужасом и яростью пассажиры. Два жала смерти были на свободе, и каждое мгновение грозило гибелью любому из тех, что злорадствовали над змеями.
Не находилось уголка, где можно было бы чувствовать себя в безопасности, и почти все видели себя приговорёнными к смертной казни, которая должна была поразить тайно из-за любого угла, из любой щели. Океан представлялся громадной водяной могилой, а корабль – эшафотом, где в качестве палача выступала сама судьба.
С какою радостью все бросились бы на берег… Но ближайший берег отстоял не менее, чем в пяти сутках езды. Пять длительно-бесконечных дней и ночей – 43,200 секунд, почти столько же ударов сердца, из которых каждый удар мог оказаться последним.
Не только командир парохода, но и пассажиры с своей стороны назначили громаднейшие премии за убийство этих змей. Но матросы были такие же люди, у них также были дети, матери, жены, возлюбленные… наконец, – сердца, которые также привязывали их к жизни и заставляли дрожать за неё больше, чем на войне, больше, чем во время кораблекрушения, потому что тогда долг умерял их страх… Наконец, там была борьба. И вот люди с бледными лицами, с напряжённо ищущими глазами, как стадо, стали жаться в кучу, чтобы таким образом иметь тысячу глаз, тысячу рук и ног для обнаружения и казни скрывшихся куда-то врагов. Они перестали стесняться друг перед другом в своей трусости, готовые негодовать на тех, кто ещё сохранил самообладание или пытался сохранить его: ведь безумцы лишали их лишних стерегущих глаз, лишних орудий поражения.
И в то самое время, как дикие крики то и дело заставляли всех вздрагивать от ужаса ожидания из-за простого кончика бечёвки, даже – тени, казавшейся одной из змеек, – только три человека явно не ощущали ни малейшего страха: это были двое влюблённых и старый индус.
Он следил за ними, когда они спокойно гуляли по палубам, радостно приветствуя летающих рыбок, которые, подобно сверкающим стрелкам, выскакивали из воды и летели по воздуху, пока не высыхали их крылышки.
– Вы безумцы! – кричала им толпа. – Вы не имеете права так рисковать собою. – Они только смеялись в ответ на эти крики. Тогда изумлённый их беспечностью старик сказал:
– Если я не ищу спасения, вместе с тем и не дорожу своей жизнью, – это понятно. Я стар, я изжил свою жизнь, или, как говорят у вас в Европе, растратил давно свой капитал, а жить на проценты не в моей натуре. Но вы… вы, считающие любовь таким великим благом, как вы не дрожите каждый за свою жизнь?
– Моя жизнь в нём, – ответила она, ни минуты не задумываясь.
– А моя в ней.
– Но ведь вы оба смертны.
– Любовь сильнее смерти.
– Пусть, – сказал он, – дрожат за свою жизнь те, что не знают любви, подобной нашей. Они хватаются за жизнь потому, что ждут от неё чего-нибудь лучшего, чем то, что они пережили и переживают. Они, как лавочники, надеются нажить на товаре тем больше, чем меньше у них этого товара остаётся. Мы верим, что никто из нас не переживёт смерти другого, и радостно будет умереть обоим вместе, прикладывая к холодеющим губам свои губы, как печать бессмертия.
И они снова стали следить за перелётом рыбок, который в стремительном движении своём пронизывали зеленые упругие волны, и влага давала им новые силы летать трепеща прозрачными крылышками.
Старик отошёл побеждённый.
Он остановился на пустой палубе, глядя на эту пару счастливцев. Казалось, он новой мыслью измерял глубину своего прошлого, глубину человеческого бытия, и взгляд его прояснел на одно мгновение, получил ту же силу полёта, как эти рыбки, пронзающие родную им стихию.
Но когда он перевёл глаза на объятую ужасом и смятением толпу, его лицо исказилось отвращением и презрением к ним.
Он колебался несколько мгновений, затем медленно пошёл куда-то и вернулся скоро с большой тарелкой молока. Поставив эту тарелку посреди опустелой палубы, он длительно и странно засвистел, и от этого свиста всем вдруг стало жутко до ледяного озноба.
Острая мысль поразила всех: не кто иной, как он выпустил змей. Для чего? Это была тайна, но у всех сразу явилась уверенность, настолько ясная, что они даже не сказали друг другу ни слова, а только обменялись взглядами, кричащим сильнее слов:
«Это сделал он! Он!»
Но никто не смел крикнуть этого ему; они страшились взглянуть на него, ожидая какого-то чуда от старика, похожего на пророка или на древнего мага.
И вдруг глаза всех остановились на змеях, которые появились неизвестно откуда и, быть может, разбуженные свистом, похожим также на свист взбешённой змеи, медленно извиваясь, тянулись к чашке с молоком, издалека почуяв его.
Две змейки: красная, как коралл, и синяя, как бирюза.
Вот они приблизились к тарелке и, подняв свои острые головки, перекинули их через край её и замерли, с жадностью всасывая в себя молоко.
– Убить их! Убить! – раздался полный ужаса шёпот, но никто не решался сдвинуться с места.
Так прошло несколько острых, как иглы, и жгучих, как искры, – минут. Змеи могли удовлетворить свою жажду и ускользнуть.
Этот старый колдун не имел права допускать змей уползти.
Но он стоял в стороне, не двигаясь, глядя в ту сторону, где прогуливались влюблённые.
Наконец и они заметили эту картину. Тогда, весело сказав что-то друг другу, они пошли по направлению к этим змеям.
В руках у них не было никакого оружия, но страшно было крикнуть им, чтобы они захватили что-нибудь с собою, чтобы убить смертельных гадов: змеи могли встревожиться и уползти.
Ужас оковал всех, когда оба приблизились к змеям, начинавшим уже слегка обнаруживать беспокойство, и враз склонились к ним с протянутыми руками.
– Убить их! Убить! – вырвался зверский вопль у толпы, и трудно было сказать, относился он к змеям, или к тем, кто мог спугнуть змей.
Но в то же время, ловко захваченные у самой шеи пальцами, две змейки повисли в его и её руках; одна, как струя алой крови, другая, как синяя лента.
И с теми же весёлыми улыбками, глядя друг на друга, они понесли их обратно в стеклянный плен.
Старый индус провожал их посветлевшим взглядом.
Чиновник
I
Он и раньше чувствовал некоторое недомогание, а в это серое мартовское утро проснулся совсем больным. От скудного сырого воздуха шторы, закрывавшие окна его спальни, казались ещё более тяжёлыми и отощавшими, несмотря на ограждавшая их двойные рамы. И даже обычное дребезжание уличной жизни, которое он привык не замечать в продолжение этих двадцати с лишним лет, сейчас тоже как-то сыро и назойливо касалось его. Особенно неприятен был редкий звон колокола с соседней военной церкви, напоминавший о чем-то неизбежном.
«Ну, вот, теперь пойдут так каждый день звонить! – подумал он с гримасой. – И как это я мог прежде любить великопостный звон!»
Донн… донн… донн…
Звуки уныло ударяли о стекла, как серые крылья дня, и глохли в занавесках.
Если бы не важный доклад министру, он в этот день, пожалуй, не пошёл бы на службу. Тело, и особенно голова, казалось, были налиты этой сырой томительной тяжестью утра, и в мягких, пухлых пальцах рук и ног что-то зудело и покалывало.
Перед кофе он проглотил новые пилюли, затем привычно оделся и поехал на службу.
Обыкновенно он отправлялся туда пешком; на этот раз приходилось экономить силы.
Колокольный звон, не переставая, посылал удар за ударом, покрывая уличный шум мягким, прозрачным трауром; звон уже шёл теперь от разных церквей и сливался в один поющий похоронный голос, тоже напоминавший о чем-то, почти забытом и близко-печальном.
II
Делая доклад министру, чиновник вспомнил этот звон, и вдруг ощутил такую слабость, что позволил себе опереться на ручку министерского кресла, чтоб не упасть.
– Что с вами, дорогой мой?
Он постарался овладеть собой и опустился в соседнее кресло, чувствуя, как этот звон бродит в нём приливающими и отливающими волнами.
– Вы побледнели, вы нездоровы?
Ему стало совестно этой слабости; но еле хватило сил успокоительно ответить:
– Ничего, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться – минутное недомогание.
Но министр внимательно и ласково коснулся его руки. Рука была влажная и холодная.
– Вы совсем нездоровы! Вам надо лечиться.
– Это, ваше превосходительство, пройдёт.
– Да, но нельзя игнорировать…
– Не извольте беспокоиться, лёгкое утомление…
– С этим шутить нельзя, вы заработались, вам необходимо отдохнуть. Насколько помнится, вот уже два года вы не брали отпуска? Посоветовались бы с докторами.
– Ах, ваше превосходительство, разве можно в такое время думать об отпуске?
– Именно в такое время.
Министр мягко и убедительно продолжал ему внушать бархатистым голосом, что именно в такое время необходимо дорожить здоровьем людям, подобным ему, и в конце концов убедил его взять двухмесячный отпуск.
III
На этот раз Арефьев решил отправиться в деревню, даже не советуясь с докторами. Они, наверное, послали бы в какой-нибудь модный курорт, всегда напоминавший в конце концов петербургскую гостиную; а между тем его неудержимо тянуло в деревню.
Более двадцати лет он не заглядывал туда, несмотря на все увещания своей матушки, и то время, когда он был там, представлялось ему настолько далёким, что и себе он казался совсем другим человеком.
Но на вокзале вся эта странная затея вдруг показалась ему нелепой и дикой.
Серый и дождливый день, чадный воздух, артельщики, шпионы и пассажиры, наполнявшие вокзал, вызвали в нём чувство, похожее на ужас.
«Куда я еду? Зачем?» – спрашивал он себя.
И, если бы не стыд перед лакеем, хлопотавшим о том, как удобнее устроить барина в купе, он бы, наверное, вернулся домой.
Но стыд и слабость лишали его энергии.
Он механически распорядился послать телеграмму в родное гнездо и, совершенно обессиленный непривычными движениями и суетой, задыхаясь от усталости, расположился в купе.
Перед глазами ещё мелькали обрывки последних впечатлений: министр, сыщики, пассажиры, канцелярии и вокзальный зал, а в ушах дребезжал, покрываемый унылыми звуками колокола, столичный шум.
Среди нелепых клочьев жизни почему-то особенно противно вспоминалась красная фабричная труба, с чёрным клоком дыма, падавшим из неё в тяжёлую слякоть воздуха. И хотелось поскорее уйти от этого куда-нибудь, забыться.
Но когда поезд тронулся, ему, помимо нездоровья, чувствовалось не по себе; точно он изменял своему долгу. Однако, наперекор всем этим чувствам, ласково и успокоительно позванивало смутное сознание освобождения.
Полутёмный, грязный перрон уплывал с серыми, вокзальными стенами, с серыми, скучными людьми, которые как будто создали и этот серый липкий воздух, и похоронный звон, и чёрный клок дыма, развевавшийся как обрывок траурного знамени над промокшим и прогнившим городом.
От мелькания перед окном закружилась голова; но было приятно, когда кончились стены и пошли взрытые пустыри, с голыми, укоризненно торчавшими деревьями, с тёмными полосами лесов на горизонте, с грязными извивающимися по талому снегу дорогами.
Опять стукнул в голову вопрос: куда и зачем он едет? Но теперь этот вопрос уже не пугал, а что-то обещал впереди, и было почти приятно вытянуться на диване и отдаться во власть бессилия и покоя.
Он задремал, и когда очнулся, Петербург был далеко, и печальный весенний серый вечер глядел с пустых обнажённых полей глубоким, тусклым взглядом, как далёкое прошлое.
IV
Это была первая ночь, которую он провёл без неприятных пробуждений, беспокоивших его в Петербурге.
Проснулся он, однако, в обычный час, прислушался, и, вместо дребезжания столичного шума и церковного перезвона, услышал ровное постукивание поезда, в котором было что-то бодрящее и твёрдое.
Он поднял занавесочку вагонного стекла и с удовольствием заметил, что нет перед глазами вывески модного магазина с шляпами, который много лет так настойчиво-глупо и нагло лезли ему в глаза, как будто все людские головы предназначались специально для них.
День был также серый, но казался светлее от отсутствия каменных стен и шума, который там также как будто затемнял воздух. И деревья здесь не имели такого укоризненного вида, как около Петербурга. Крутясь перед глазами в лёгком, почти пьяном танце, они весело растопыривали веточки, ещё голые, но уже тревожно и чутко насторожившиеся.
На одной из станций он вышел на платформу.
Вокзал был большой и шумный, но имел совсем иной вид, чем петербургский вокзал, и люди тут были также несколько иные.
Вчерашнее утомление и слабость ещё давали себя знать, но во всём этом уже не было той тяжести и давящей пустоты, что угнетали вчера.
Это был обычный час его службы, и странно было, вместо министерства, где всё так однообразно и точно, видеть живую толпу, где все чужие друг другу, и всё же среди этих чужих людей чувствовалось больше внутренней связи, чем в холодной высокой казённой зале.
И когда вся эта толпа умчалась с поездом и осталось только несколько пассажиров, которым нужно было пересесть в другой поезд, как и ему, он вздохнул с некоторой тоской, чего ни на минуту не ощущал, расставаясь со своими сослуживцами. Более того: отношение к сослуживцам не превышало того, что бывает у зрителя после театра марионеток, и это настолько его самого поразило, что, уже севши в новый поезд, он осуждал себя за свою непонятную ересь. Если бы не нездоровье, всё ещё дававшее себя знать, чиновник даже не отдавал бы Петербургу, вероятно, и этой дани, но оно связывало его с служебной обстановкой.
Поезд, в которой он пересел, был небольшой, шёл по новой дороге и часто останавливался. И станции, на которых он останавливался, были также новые, и приятно было выходить перед ними на платформу и даже есть борщ, которого не осмеливался бы попробовать в Петербурге.
Случайные разговоры с попутчиками были также далеки от петербургских; говорили не о «входящих» и «исходящих», не о запросах и нуждах министерства, и даже не о политике, а о земле и хлебе, и, по-видимому, большинству этих людей не было никакого дела ни до его министерства, ни до его политики, и жили они маленькими интересами, однако же исходившими от них, как исходили пары из земли, на которой они жили.
V
Поезд мчался к югу, и с каждой станцией навстречу шло что-то глубоко-ясное, нежное и волнующее воспоминаниями и надеждами, давно забытыми.
На одной из маленьких станций он в первый раз увидел грачей.
Они кружились над голыми деревьями и отчаянно кричали, как будто негодуя, что здесь не всё ещё готово к их прибытию, что деревья ещё голы, а в низинах залегают потемневшие, точно закоптелые, пласты снега.
В прежнее время, когда Арефьев был студентом, здесь приходилось ехать не по железной дороге, а на лошадях, и ему вспоминался этот длинный путь от станции до родного гнёзда, и это были воспоминания из другого мира, из другой жизни.
В полдень поезд остановился у станций Вязово, и, когда Арефьев вышел из вагона, его ослепил яркий солнечный блеск и охватил тёплый влажный воздух; закружилась голова. Ноги задрожали и глаза заволокло туманом, похожим на тот белый душистый пар, который поднимался от земли.
От слабости он опустился на скамейку около станции и на минуту закрыл глаза.
Но как эта слабость была непохожа на то, что он испытал в кабинете министра! Закрыв глаза, он с удовольствием отдавался ей, как ласке, в то время, как скворцы трещали вокруг него на деревьях с таким оживлением, точно школьники, вырвавшиеся на волю.
Арефьев глубоко вздохнул, открыл глаза, и, к удивлению своему, заметил, что глаза были влажны. Слабость быстро проходила, и, казалось, он с головой выкупался в свежей, лёгкой воде.
Когда снова пришлось сесть в вагон, он уже досадовал на его железные стены и на маленькое окно, о которое разбивались солнечные лучи.
Но утомление требовало сна, и он уснул, забыв об опасении, возбуждённом в нём станционным борщом и громадными, как подошвы, так называемыми, пожарскими котлетами.
Проснулся под вечер, когда закат кротко сиял вдалеке и весь воздух замер в этом розовом сиянии; воздушно реяли даль и леса, и большая ветряная мельница на бугре, тяжело шевелившая крыльями, точно колдующая среди этих дымящихся паром полей, где и деревни и церкви кажутся как будто выросшими из земли, вечно родными ей.
Ещё две-три станции, и он на месте. Он был единственный пассажир, покидавший поезд, и сразу догадался, приближаясь к платформе, что эта тройка, позванивавшая бубенчиками в сером свежем сумраке вечера – для него.
Едва он ступил из вагона, как радостный всхлипывающий голос встретил его:
– Серёженька, милый!
И маленькая сухая фигурка, в старомодном салопе, всегда несколько конфузившем его в Петербурге, прижалась к нему, и он почувствовал слабые объятия старческих рук и прикосновение к своей бороде, щекам тонких материнских губ.
Непривычно взволнованный, он долго не мог овладеть собой.
– Ну, зачем ты сама, ночью… по такой дороге?..
Но она радостно останавливала его:
– Что ты, что ты, Серёженька! Разве я могла не встретить?.. Столько лет!..
Она всхлипнула, и он сам едва удержался, чтобы не расплакаться.
– Да, да, столько лет!..
Он старался рассмотреть морщинистое лицо матери, такое родное, и всегда новое, особенно близкое в эту минуту. Он как будто не видел её все эти двадцать лет, и та старушка, что приезжала в Петербург, была не она, а её двойник, который несколько стеснял его и являлся в петербургской жизни каким-то не идущим к ней живым пятном.
Теперь, когда он сидел с ней рядом, в новой, специально для него купленной, коляске, досадно было, что эта коляска не та, в которой когда-то он делал около сотни вёрст домой от той далёкой станции.
Обняв мать, он с волнением слушал её голос, странно сливавшийся с перезвоном бубенчиков.
Вот, бубенчики были те, и он слушал их, пожалуй, с тою же нежностью, как и материнский голос, – те же были звёзды и та же тишина. Звёзды, звёзды… Как это странно – он не помнил за эти двадцать с лишним лет, чтобы хоть раз обратил внимание на звёзды. И эти звёзды тоже, как будто, имели свой голос, тоже родной, ласковый, который звучал около него.
Если бы не некоторая усталость, ощущавшаяся после дороги, чиновник мог бы забыть совсем о минувших двадцати годах и о министерстве. Он слушал мать, не вникая в её слова, отвечая ей кивками головы, улыбкой, в то время, как душа его одевалась тихой грустью этой ночи, нежностью воспоминаний, светивших как звёзды. Приятно было чувствовать около себя мать и ночной весенний холодок, от которого отвердела дорога и остекленели лужи, значительно и весело трещащие ледком под колёсами и под копытами лошадей.
И минутами казалось, что он маленький мальчик и что вся его служебная деятельность, целый огромный период жизни – сон, случайно прочитанная бумага с казёнными печатями, прошитая крепкими нитками.
Он засмеялся от радости, когда очутился около родного дома и услышал собачий лай, и взошёл на подновлённое крыльцо, где, несмотря на поздний час, с хлебом-солью встретили его люди.
Как низки стали потолки, как сжались стены! С горькой печалью он оглядывал старую мебель, часы, зеркало, и теперь ему жутко было взглянуть на него и встретить одутловатое, вялое лицо с безжизненными бакенбардами. Войдя в детскую комнату, где всё осталось так, как было, когда он покинул её в последний раз, не выдержал и должен был отвернуться к окну, выходившему в сад, и долго барабанил по стеклу, на котором, бывало, зимой мороз выписывал такие чудесные узоры.
VI
Странно и ново было ему проснуться утром дома.
Да, да, именно это было дома! И самый воздух был такой, какой должен быть дома, а не в петербургской квартире, которая, несмотря на весь холостяцкий комфорт, всё же представляла собой что-то вроде гостиницы, случайное, временное помещение – не больше. А здесь пахло наливками, старыми деревянными стенами и приятной свежестью, напоминающей запах весенней рощи.
Взглядывая каждое утро в окно, он видел сад, старый сад, где меж стволами деревьев, среди жёлтой измятой прошлогодней травы, пробивалась молодая зелень и почки на деревьях набухли, и весенние птицы хлопотали, свистели, радуясь весне. В первое время он опьянел от воздуха, от сытных деревенских кушаний, которыми закармливала его мать. По настоянию её, он сделал необходимые визиты в новой коляске соседям, а затем пошли день за днём легко, спокойно и вкусно с ленивой улыбкой, жившей здесь, как будто, в самой природе.
Ещё сначала были минуты усталости и покалывания, и недомогания, но уже через неделю он стал совсем здоров и даже не удивлялся этому чуду: так оно и должно было быть само собой.
Перед глазами его с каждым днём всё нежнее оживала земля и сад, и томительно-сладко было видеть, вместо исписанных бумаг, могучие вспаханные поля, а вместо однообразных чёрных букв – лопающиеся почки.
Впереди предстояло целых два месяца такого покоя и безделья; но как-то так выходило, что весь день был заполнен простыми, свежими впечатлениями.
Шестой… восьмой… десятый…








