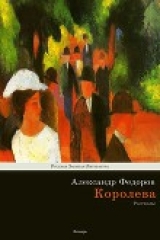
Текст книги "Королева"
Автор книги: Александр Фёдоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
VII
Приблизительно на двенадцатый день, как-то проснувшись, чиновник ощутил лёгкий укол совести, похожий на укор.
Правда, он не обманывал министра, когда сделалось дурно при докладе; но, ведь, теперь-то он здоров, совершенно здоров! За него работают там другие, но он знал себе цену, и ясно было, что другие не могут вполне заменить его. Во время прогулок по полям, где в первые дни он ни разу не вспомнил о министерстве, – теперь нет-нет, да и вспоминались ему деловые бумаги, и как-то ночью даже приснилось, что он входит с весьма важным докладом к министру, и тот покровительственно пожимает ему руку и говорит, что без них двоих едва ли не погибла бы Россия.
Если бы не наступающая Пасха, он уехал бы тотчас, но тут приходилось повременить, чтобы не слишком огорчать мать. Зато на второй день Пасхи он решительно объявил ей, что уезжает.
– Господи, да как же это так? Ведь, и месяца не прошло!..
Но он был непреклонен. Слово «долг» так внушительно и строго звучало из его уст, что представлялось его матери каменной стеной, через которую её протянутые руки не могли достать и удержать сына.
VIII
В пасхальное солнечное утро, посвежевший, здоровый, Арефьев снова садился в вагон. Несмотря на все его протесты, мать заставила половину купе банками с вареньем и всякими домашними печеньями и гостинцами.
Солнце, птицы и тёплый ветер, пахнущий ожившей землёй и нежностью ещё непробужденных цветов, провожали его необыкновенно приветливо, но чиновник почти не замечал их: перед его глазами внушительно и строго вставали «входящие» и «исходящие», и министерская палата звала его, как мир, с которым он больше свыкся, чем с свободой широких воскресших полей.
Он даже не пожалел о матери, провожавшей сына с постоянной мыслью, что, может быть, видит его в последний раз. Едва ли он даже заметил, через несколько часов пути, когда вышел на одной из станций, что тут как будто уже не так тепло, как дома, и как будто меньше птиц, и не так ласково обвевает ветер.
Вероятно, этому мешало лёгкое утомление после прощания с матерью и после всей этой неизбежной суеты перед отъездом. Опять стучали колеса вагона, но в этом стуке не было уже прежнего бодрого возбуждения – это был сухой, деловой стук, и даже ясно было слышно, как он выговаривал: «Долг, долг, долг, долг».
«Да, да, долг прежде всего».
«Прежде всего, прежде всего…» – стучали колеса.
И под этот стук сами собой закрывались глаза, и в смутной полудремоте казалось, что это стучит хорошо налаженная министерская машина, в которой он сам вертится, как одно из важных колёс.
Чиновник задремал с приятным сознанием этой важности и, когда проснулся, был обеденный час, и он снова поел борща, но борщ, однако, на этот раз показался не таким вкусным.
На пересадочной станции одна из банок с вареньем разбилась, и боясь дальнейших неприятностей и возни с этими гостинцами, он с удовольствием оставил их, как последнее вещественное напоминание о родном гнезде, и перебрался в новый поезд с прежним багажом.
Вместе с ним, он, как будто, оставил ещё что-то, какую-то частичку самого себя, и оставил навсегда.
Сердце кольнуло чувство, похожее на сожаление, – но что могло оно значит перед сознанием исполняемого долга! Чиновник мысленно махнул на него рукой и даже не без удовольствия заметил в несколько новой обстановке поезда и в людях что-то неуловимо приближавшее его к Петербургу, в чём ощущалась им даже некоторая нравственная опора.
С этой приятной мыслью он заснул, но проснулся среди ночи от странного сна: «входящие» и «исходящие» бумаги стояли перед ним целым лесом и как-то насмешливо кланялись ему, а иные из них прямо делали оскорбительные гримасы. Это до такой степени его взволновало, что он затопал на них ногами и накричал начальническим тоном, но это не только их не усмирило, но, наоборот, они подняли невероятный визг и топот, наступая на него с дикими прыжками, с криками: «Долг, долг прежде всего, прежде всего»!
Чиновник проснулся; стучали колеса вагона, но и в стуке на этот раз ему слышалась насмешка сна. Конечно, он тотчас же объяснил себе это неприятное сновидение тяжестью в желудке от съеденного борща. И в голове была лёгкая муть, которая мешала заснуть ему снова. Чуть ли не в первый раз после выезда из Петербурга он вспомнил о новых модных пилюлях, которые так покорно глотал прежде, и с трудом разыскал их в чемодане, куда на всякий случай их уложила его матушка.
Утром, на полпути от Петербурга, чиновник уже ощутил и лёгкое покалывание в пальцах. Это было, конечно, вполне объяснимо: серенький денёк даже сквозь окна дышал сыростью и, как будто, понятия не имел о том лёгком, ярком солнце, что обогрело и ободрило его на юге.
От земли здесь также шёл пар, но это был не тот лёгкий, душистый пар, как там, и чем дальше, тем тяжелее и сырее становился воздух, серее и глуше замыкались дали.
Пилюль не хватило, да они и не помогали ему; разумеется, они потеряли свою свежесть и силу. В аптечках на станциях ничего подобного достать было нельзя, и чиновник ещё более убеждался, насколько необходимо его присутствие там, откуда порядок должен расходиться по всей стране.
В Петербург он должен был приехать к ночи; но уже с самого начала этого дня он испытывал всё усиливающееся недомогание, которое раздражало его и повергало в недоумение. Он винил в этом нездоровье те лёгкие неприятности и неурядицы, которых не замечал, когда ехал из Петербурга.
Теперь они раздражали его и порою вызывали гнев. На одной из станций потребовалась даже жалобная книга. Ради неё пришлось выйти из вагона, но это был уже последний его выход.
Серое, закоптелое небо, скучные, грязные деревья без признака зелени, – всё это, как будто, не только ожило за истёкшие дни, а, наоборот, ещё более помертвело и насупилось.
Он замкнулся в купе, чтобы не видеть ни этой природы, ни людей, как будто тащивших за собой всю эту муть, сырость и убожество.
Перед окном, вместо широких полей, стояли колкие стены хвои, ржавых и заплесневелых, как люди, вышедшие из болота, дышавшего издали знакомым петербургским дыханием.
Он вытягивался на диване, подкладывал под себя подушки, чтобы отдохнуть, но тело наливалось этой мутной сыростью и во рту ощущался такой вкус, точно он съел кусок этой мути.
Теперь уже нечего было думать о том, чтобы управиться самому с вещами и прикатить к себе домой, на удивление лакея, молодцом. Он послал телеграмму, чтобы его встретили, и с болезненной тоской ждал прибытия на место.
«Это всё от дороги и от скверной еды, – успокаивал себя чиновник. – Вот, приеду, отдохну, и министр завтра не узнает меня: таким молодцом явлюсь я перед ним. Воображаю, как он будет удивлён! Ваше превосходительство! – скажу я ему на это. – Есть обстоятельства, высшие, чем заботы о личном покое и здоровье. Это – долг. Долг прежде всего».
«Долг, долг, долг, прежде всего, прежде всего», – стучали колеса, и в этом стуке была та же самая тяжесть и сырость, от которой трудно было дышать.
«Сиверская… Гатчина… Через час Петербург».
В полном изнеможении он глядел на стекло, всё мокрое, с грязными потёками, точно заплёванное этим гнилым, ядовитым днём. Даже в Гатчине он не вышел из вагона, так как шёл дождь, – не тот весёлый, радостный дождь, как было на юге. Здесь с неба падала какая-то грязь, точно бесконечные пьяные слёзы.
На платформе, освещённой электричеством, подобно мертвецам, шевелились люди, артельщики, и опять шпионы, с безразличными лицами и шмыгающими глазами.
На петербургской станции встретил его лакей, и пришлось опереться на его здоровую руку, чтобы дойти до кареты.
Это здоровье почти оскорбило его, и особенно было неприятно, когда лакей сказал:
– А я думал, что вы поправитесь, ваше превосходительство.
IX
На другое утро чиновник через силу поднялся с постели, и ему показалось, что он не уезжал совсем из этой квартиры и что впереди у него такая же слякоть и приближение к той палате, в которой нет ни «входящих», ни «исходящих».
То состояние, в котором он был дома, представлялось ему даже не сном, а как будто картинкой, которую он видел где-то, – может быть, в детстве, на крышке нянькиного сундука.
Однако он превозмог себя, надел вицмундир и решил пешком отправиться в департамент.
Но на этот раз чиновнику не удалось переступить порога не только министерского кабинета, но и своей собственной квартиры: ноги у него задрожали как только он взял в руки портфель, точно из этого портфеля в его тело ударил расслабляющий ток.
– Гри…ри…горий!.. – еле промямлил он и опустился на руки лакея.
Коллега
I
Степанов затрепетал от волнения, прочитав в газете сообщение, что в гостинице «Париж» остановился проездом знаменитый писатель Агишев.
Степанов сам мечтал о писательской славе, на что имел полное основание. По крайней мере его поддерживал в этом убеждении ближайший друг и любитель литературы Кругликов. И у самого претендента были на это некоторые фактические данные: не говоря о рассказе, напечатанном в местной газете, он имел в своём портфеле дюжины полторы оконченных и неоконченных произведений, заслуживших одобрение не только Кругликова и прочих друзей и приятелей обоего пола, – это не штука, – у него было письмо от самого известного критика Силачева, заведовавшего толстым журналом «Вперёд». Силачев хотя и не принял его рассказа, но отметил достоинства, помянул о небольшом, но «собственном» стакане, из которого пьёт автор, и благословлял автора «на трудный путь, тернистый путь… сеять разумное, доброе, вечное».
Степанов облил слезами радости это письмо и с тех пор вот уже целый год, не расставался с ним ни днём, ни ночью.
Письмо это знали наизусть не только он сам и его близкие, но и чуть ли не весь город: оно было напечатано в местной газете, да и сам автор освежал его в памяти забывчивых непрестанным чтением.
От продолжительного злоупотребления письмо, конечно, скоро утратило свою первоначальную свежесть и даже цельность, но каждая буква его продолжала служить автору залогом бессмертия.
В высшей степени ободрённый им, он успел за этот год написать целую трагедию в пяти действиях и семи картинах, где под маской исторического сюжета обрисовал все язвы и раны современного строя.
Представлялся благоприятный случай не только получить компетентный отзыв об этой пьесе, но и дать ей настоящий ход.
Не тратя времени, Степанов побежал к Кругликову посоветоваться насчёт этого важного события.
Кругликов был потрясён не меньше своего друга. Прежде всего у него явилась благодарная мысль чествовать известного писателя с соответствующей помпой. Но вспомнив, как в прошлом году осрамился на подобном торжестве издатель местной газеты, громко величая в своей речи одного из ветеранов русской литературы ветеринаром русской литературы. Кругликов махнул рукой на помпу.
Встретив задыхающего от волнения товарища, он вмиг загорелся его мечтой, и друзья бросились друг другу в объятия, как Дон Карлос и маркиз Поза. Но друг писателя, как человек более зрелый и положительный, решил выработать сначала строгий план, а затем, уже действовать.
– Тут, брат, нельзя пренебрегать мелочами, важно произвести благоприятное впечатление. Талант талантом, но прежде всего нужно вызвать доверие к себе. Ведь это, брат, не кто-нибудь, а, можно сказать, генерал от литературы. Тут нельзя так… очертя голову действовать, нужно взвесить всё.
– Да что же тут взвешивать?
– Как что! Да вот, например, твоя наружность…
– Что ж моя наружность? Кажется, моя наружность…
– Экий ты, братец, обидчивый. Дело не в том, что ты имеешь успех у барышень: барышни это одно, а знаменитый писатель другое. Нашим барышням твои длинные волосы нравятся, а ему навряд ли понравятся. Я, брат, видел его портрет: у него волосы-то ёжиком острижены. Это, брат, прежде писатели длинные волосы носили, а теперь другая мода.
– Что ж, волосы, можно, пожалуй, остричь…
– Непременно остриги: лоб больше казаться будет.
Писатель посмотрел в зеркало и поднял со лба волосы.
– Гм. Пожалуй, это верно.
– Уж чего же верней. Вот тоже рубашка. Непременно, братец, надо крахмальный воротник. И непременно, как у него отложной-стоячий. Это я тебе свой дам, воротничок и рубашку.
– Широко будет.
– Широко – не беда. Вот если узко – скверно: точно изюм в прянике. Галстук тоже надо будет поаккуратней. Вот жалко – бархатного пиджака у тебя нет… Теперь, брат, как я читал, всякий писатель и художник норовит бархатный пиджак себе сделать.
– Ну, это дорого. Когда-нибудь потом разве.
– Гм. Потом. Зачем же откладывать. Можно по случаю какую-нибудь женскую юбку купить бархатную. Впрочем, оно, пожалуй, и лучше, что нет сейчас. Сюртук для такого визита приличнее. А в пиджаке, хотя и в бархатном, за амикошонство может счесть.
– Да у меня и сюртука нет.
– Жалко, что мой тебе чересчур велик. Ну, да это не беда: у меня тут певчий есть, приятель, знаешь, Оглоушев; с него как раз сюртук по твоим фасонам будет.
Он осмотрел писателя деловым взглядом.
– Ну, остальное касательно внешности, кажется, всё в порядке. Вот брюки у тебя на коленках очень того… вытянуты, точно ты архиерейский служка, а не писатель. Ну, да это сойдёт. Теперь другое: есть ли у тебя визитная карточка?
– Ну что там, какая там визитная карточка. Зачем ещё?
– То есть, как же это зачем? Надо же ему знать, с кем он имеет дело.
– Я отрекомендоваться могу: писатель Иван Иванович Степанов.
– Так, так. А почему же он будет знать, что ты не самозванец? Ещё за шпика, пожалуй, примет. Может быть, так: ты возьмёшь мою карточку, а Степанов, скажешь, твой псевдоним.
– Нет, я от своего имени отрекаться не намерен. Волосы остригу и воротник твой одену, и сюртук певчего, а уж своё имя – извини.
– Ну, ну, хорошо, хорошо. Экий ты, братец, недотыкомка. И так обойдёмся. Можно автограф дать. На картоне возьмёшь и напишешь автограф. Это, пожалуй, даже ещё лучше будет. Автограф и подпись под трагедией. Вне сомнений.
– Ну, это ты уж слишком. Что он Нат Пинкертон, что ли?
– На всякий случай не мешает. Трагедия с тобой?
– Со мной.
– И рассказы с тобой?
– Со мной.
– И письмо Силачева с тобой?
– Со мной.
Кругликов выпрямился, торжественно подошёл к писателю, положил ему обе руки на плечи и с раздувающимися ноздрями дрожащим от волнения голосом произнёс:
– Ну, братец, в путь. Видимо, сама судьба послала сюда Агишева. Я чувствую, что звезда твоя восходит. Он, наверное, будет потрясён твоей трагедией. Определит её на сцену… А уж там, брат, поприще широко: знай работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь! – не совсем кстати, но с большим чувством продекламировал он, и оба приятеля, растроганные, заключили друг друга в объятия.
II
После того, как парикмахер обработал голову писателя, тот чуть-чуть не зарыдал, увидя себя без пышного украшения, припасённого в жертву новой столичной моде. Ещё рука его делала машинальные движения, как бы откидывая назад густые пряди, но эти движения были жалки и беспомощны, как движения куриных крыльев.
Сам Кругликов втайне пожалел о своей опрометчивой настойчивости, вспомнив, что, кроме Агишева, было много других столичных писателей с длинными волосами. Лоб, действительно, казался больше, но зато вся голова до такой степени потеряла в объёме, что напоминала одуванчик после того, как на него сильно дунут. Впечатление от этой головки получалось очень жалкое, особенно, когда Степанов провалился в своей собственной шапке.
Терзали угрызения совести, и чтобы загладить их, Кругликов пожертвовал лучшим своим воротником. Но и воротник был безмерно велик. А от певческого сюртука так несло ладаном, что, казалось, он таил в себе тридцать тысяч панихид.
Но этим не исчерпывались заботы: главное было впереди. Предстояло выработать весь церемониал визита – все, начиная от первого поклона и кончая приветствием, с которым молодой писатель должен обратиться к своему собрату.
– Ну вот, хорошо. Ты подаёшь свою карточку, и там говорят: проси.
Писатель побледнел от одного этого представления, и так вобрал в себя воздуху как будто собирался лететь.
Кругликов неодобрительно покачал головой.
– Экий ты, братец, чудак! Вытянулся во фронт, как солдат. Будь поразвязнее. Ведь он хоть и генерал от литературы, а всё-таки, как-никак, вы коллеги. Ещё, может быть, ты превзойдёшь его.
– Ну, уж ты скажешь!
– И скажу. Но дело не в том. Самое лучшее, по-моему, принять такую позу: правую ногу выставить, а левую за спину; лёгкий поклон… таким манером он протягивает тебе руку… Ты не вздумай ему первый руку протянуть. Это, брат, по чину не полагается. «Здравствуйте, коллега, прошу вас садиться».
Кругликов так вошёл в свою роль, что опустился в кресло и сделал покровительственный жест, совсем ему несвойственный. Но так как приятель его после первого вступления не подавал никаких признаков жизни, он опять вернулся к настоящему:
– Ну, что же ты, братец, онемел, точно рыба. Нельзя же так. Он подумает, что ты пришёл к нему на бедность просить.
Писатель возопил, оробев:
– Да, хорошо тебе разговаривать! Если бы ты был в моем положении, тогда бы понял меня. У меня при одной мысли во рту пересыхает и в горле спазмы делаются. А тут ещё остригся… голова кажется такой лёгкой, как будто её и нет совсем. Я, кажется, не пойду.
– Да ты с ума сошёл! – закричал на него товарищ. – Человеку так фортунит, что стоит только сказать: «Сезам, отворись…» – а он труса празднует. Ну, нет, брат, я силой тебя поволоку, если так. Я тебя по рукам и по ногам свяжу, а доставлю куда надо.
– Ну, ну, чего ты кричишь, хорошо, я пойду. Только дай мне… выпить чего-нибудь.
– Вот это идея. Хвати-ка, брат, для храбрости рюмку водки. И глотку промочишь, и кураж подымешь таким манером. Да и для вдохновения недурно. In vino veritas, как говорили греки.
– Боюсь, пахнуть будет. Подумает, я – алкоголик.
– Это не беда. Все настоящие таланты пьют. Скажешь, Толстой не пьёт, так ведь Толстой, брат, гений. Да и неизвестно ещё. Может быть, если бы он пил, так ещё лучше писал бы.
– Нет, это неловко.
– А, что там! В крайнем случае кофейных зёрен погрызть, весь запах отобьёт.
Водка появилась, и Кругликов решался до конца делить с своим другом писательскую чашу.
Выпили по одной, закусили огурчиками и опять возобновили репетицию.
Кругликов ещё лучше изображал знаменитого писателя, что повергло начинающего в ещё больший трепет.
Для куража понадобилась ещё одна, за ней другая… третья…
Когда первый графинчик подходил к концу, первая сцена вплоть до вступительной речи была отделана на славу. Но для речи понадобилось послать за вином. Надо было не ударить лицом в грязь и выразить с блеском волнующие чувства – какое, мол, счастье лично видеть великого писателя земли русской и прочее и прочее…
– Главное – не стесняться, – всё настойчивее поощрял друга Кругликов. – Что ты, в самом деле, подчинённый что ли его.
– Да, нет, я стесняться теперь не буду. Не мальчишка я, в самом деле. И стричься, собственно говоря, не надо было.
– Н-да, пожалуй, действительно можно было и не стричься. Да, так теперь вот насчёт речи. Собственно, по мне, все эти поклоны да расшаркивания – всё это можно было бы послать к чёрту.
– Само-собой, к чёрту! Что я балерина, что ли, чтобы разные позы принимать.
– Верно. Но речь – это другое дело. Речь необходима. Хоть вы и коллеги, а всё-таки, братец, ты младший, а он старший.
– Что ж, я от речи не отказываюсь. Речь, действительно, необходима. Выпьем для вдохновения.
Выпили.
– Речь необходима, – продолжал писатель, – только, конечно, не какая-нибудь такая… официально-пространная, – не без труда выговорил он.
– Ну, разумеется. Что за китайские церемонии. По-моему прямо: «Коллега! Рад приветствовать вас в нашем богоспасаемом граде…»
– К чёрту, богоспасаемый град! Что мы, архимандриты, что ли! Просто: коллега, рад приветствовать.
Вино снова забулькало из бутылок в стаканы, из стаканов в глотки.
– Видишь, я тебе говорил in vino Veritas, – так оно и оказалось. Теперь всё ясно и просто, как и что надо делать. Выпьем ещё для полировки пива, и айда.
Вылили пива. И после первых же глотков задача ещё более упростилась.
– По-моему, собственно, и никакой такой приветственной речи не нужно совсем, – заявил Кругликов. – Нечего тебе унижаться перед ним. Нужно сразу стать на товарищескую ногу. Он обязан сделать для тебя всё в силу долга перед литературой и родиной. Ты прямо ему это и скажи.
– Прямо и скажу.
– Сначала протяни ему руку, посмотри ему этак прямо в глаза. Этаким все прони… фу, чёрт!.. этаким… икающим взглядом, и прямо скажи… Выпьем.
– Прямо так и скажу. Взгляну вот так… и скажу…
Опять выпили.
Политура была наведена в достаточной степени. Четырехсложных слов в разговоре приятели избегали, зато вообще в словах не было недостатка, и если бы кому-нибудь из них, действительно, пришлось сказать самую пространную речь, ни тот, ни другой не почувствовали бы ни малейшего затруднения.
Но речь была обоими отвергнута окончательно. Решено было ограничиться простым внушением, что знаменитый писатель обязан помочь своему начинающему коллеге, который, может быть, далеко превосходит его своим талантом.
– Будущее это покажет, – убеждённо говорил Кругликов. – По-моему, в твоей трагедии есть прямо Шекспировские штрихи. По-моему, ты сам себе ещё не знаешь цены.
– Это верно. Однако же я чувствую этакий размах… полёт вдохновения.
– Пойдём выпьем ещё по рюмке коньяку за твой талант, и баста.
Зашли в ресторан, выпили коньяку по одной… другой… третьей рюмке, и тогда уже смело двинулись к знаменитому писателю.
Не беда, что стало уже темно: со своим братом-коллегой нечего церемониться.
– Да и не велика птица, – заявил около самой двери Степанов. – Не Лев Толстой. Ну, талант, скажем, что ж из того. Я сам талант.
– Ты так ему и скажи.
– Так и скажу. И никаких карточек… Никаких автографов.
– Стой, я с тобой пойду, – решительно заявил Кругликов. – В случае чего, я тебя в обиду не дам.








