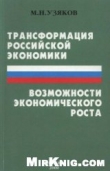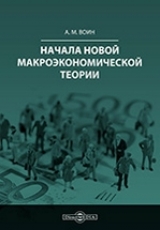
Текст книги "Начала новой макроэкономической теории"
Автор книги: Александр Воин
Жанр:
Экономика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
и
“Очевидно, Чейни не прав – дефицит кое-что значит”?
Они свидетельствуют о том, что заявления американских и вообще западных экономистов и политиков после кризиса 1932 – 1937-го годов, что они все поняли и кризисов больше не будет, т.к. они теперь умеют их предотвращать, это – явное преувеличение. Что-то они, безусловно, поняли, но далеко не все и ряд важных вещей не понимают и сейчас. Поэтому описываемая ситуация, это не ситуация, в которой люди осознанно идут на большие риски из-за азарта и под давлением обстоятельств. Это ситуация, в которой люди, азартно рискуя, еще и не понимают, какие именно риски они берут на себя (и, к сожалению, не только на себя, но и на свою страну и на все человечество). То, что дело обстоит именно так, можно подтвердить еще многими цитатами из Фукуямы. Например, такими:
“Идеи – это одна из главных статей нашего экспорта, а с начала 1980-х годов, когда на президентских выборах победил Рональд Рейган, на мировом уровне доминировали две идеи, американские по своей сути. Первая – это определенная концепция капитализма, гласившая, что двигателем экономического роста являются невысокие налоги, мягкие регулятивные механизмы и ограниченная по сравнению с прежними временами роль правительства. Рейганизм обратил вспять тенденцию ко все большему наращиванию мощи правительства, которая существовала последние 100 лет. Отказ от регулирования стал девизом современности не только в США, но и по всему миру…...
Большие идеи рождаются в контексте определенной исторической эпохи. Им редко удается пережить кардинальные перемены в обстановке. Вот почему в политической жизни доминирование левых и господство правых обычно сменяют друг друга циклически, на памяти одного поколения.
Для своего времени рейганизм (или тэтчеризм – его британская разновидность) подходил отлично. Со времен “Нового курса” Франклина Рузвельта в 1930-е годы государственные аппараты по всему миру неуклонно разрастались и разрастались. К 1970-м годам крупные “государства благосостояния” и экономические системы, скованные бюрократическими ограничениями, доказали свою огромную дисфункциональность…..Благодаря революции, которую осуществили Рейган и Тэтчер, стало проще нанимать и увольнять работников, что причинило людям огромные страдания в условиях сокращения или полного упразднения производства в традиционных отраслях. Но одновременно это подготовило почву для почти тридцати лет экономического роста и возникновения новых секторов типа информационных технологий и генной инженерии.
….Как и все движения, преобразующие общество, рейгановская революция сбилась с дороги, так как для многих сторонников она сделалась непогрешимой идеологией, а не прагматичным ответом на крайности государства благосостояния. Две идеи получили сакральный статус: “налоговые льготы себя окупят” и “финансовые рынки могут саморегулироваться”.
До 1980-х годов консерваторы практиковали консервативный подход к фискальной системе: то есть не желали тратить больше, чем получали в бюджет в качестве налогов. Но рейганомика привнесла идею, что практически любая налоговая льгота будет столь хорошим стимулом для роста, что в итоге доходы государства за счет налоговых отчислений только повысятся (это так называемая кривая Лаффера). На деле верен традиционный взгляд: если ты сокращаешь налоги, не сокращая расходов, то получишь опасный дефицит бюджета….
Второй священный принцип эпохи Рейгана – отказ от регулирования финансового сектора…..но отказ от регулирования породил лавину новаторских невиданных продуктов типа коллатеризированных долговых обязательств, которые лежат в основе нынешнего кризиса”.
Как видим, тут Фукуяма прямым текстом признает, что в основе нынешнего кризиса лежит не какая-то мистическая, от нас никак не зависящая цикличность, а вполне конкретные ошибки в экономической политике американского правительства и находящихся под его влиянием Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. Но, признавая это, Фукуяма умудряется и некую цикличность, якобы объективно неизбежную, сохранять. Вот, мол, меняются в Америке правительства, республиканские и демократические, и каждое гнет свою экономическую политику. Каждая из этих двух политик верна и хороша при определенных обстоятельствах, но ее продолжают применять и когда обстоятельства изменились, аж до тех пор, пока не загонят экономику в тупик или кризис. И только после этого меняют на другую. Получается вроде, что, хотя в основе кризисов лежат ошибки, но совершение этих ошибок циклично неизбежно. Вот “100 лет”, со времен Рузвельта и до Рейгана (хотя на самом деле со времен Рузвельта и до Рейгана прошло отнюдь не 100 лет) господствовала и нарастала политика государственного регулирования экономики, пока не довела эту экономику до полной “дисфункциональности”. Тогда ударились в другую крайность, полностью освободили экономику от регулирования, включая финансовый сектор, и снизили налоги, не ограничивая при этом расходов. Не просто не ограничивая, а раздули их до небес, за счет заимствований где угодно, в какой угодно форме (включая ничем не обеспеченное печатание денег, что есть тоже форма заимствования). И вот вам “объективная” цикличность с “обязательными” ошибками.
Тут невольно хочется воскликнуть: пардон, пардон! Такая цикличность была бы объективной, если бы она была в дикой природе или среди нецивилизованных дикарей, методом проб и ошибок познающих полезность и одновременно опасность , скажем, огня. Но как можно считать такие вещи объективными в современном, обремененном наукой обществе? Неужели нет экономических теорий, которые бы указывали, в каких обстоятельствах какую экономическую политику применять, и до каких пор? Более того, неужели экономической науке известны только два не вариируемых вида экономической политики: одна – жесткое регулирование всего и вся государством, другая – полный отказ от регулирования с минимальными налогами и т. д.? Неужели нельзя это регулировать, а это не регулировать или регулировать это в такой степени, а это в такой, с точными цифрами, указанными этой самой наукой? Кто тут больше виноват: ученые экономисты или политики?
Недавно выступал по радио директор украинского института теоретической физики и на вопрос не то ведущего, не то кого-то из радиослушателей сказал, что наука никогда не претендовала, что она знает все. Большинство слушателей, я думаю, с ним охотно согласилось,… имея в виду физику. Согласилось, имея в виду такую, примерно, картинку: Физика лезет в космос и в микромир. И там и там бесконечность. До сих пор мы уже долезли нашими приборами, а дальше пока не проникли. Понятно поэтому, что дальше мы пока не знаем. Но, следуя этой же логике, большинство не понимает, как может наука экономика чего-то не разуметь в своей сфере. Ну, в мире есть много предприятий и банков, но не бесконечно же много. А уж видов собственности, производственных отношений, финансовых инструментов и т.п. хоть тоже подразвелось, но если не несколькими сотнями, то уж несколькими тысячами их перечень можно исчерпать. Главное же, что любой финансовый инструмент, он же не возник в момент Большого Взрыва, куда нам вплотную не подобраться. Он создан нами самими и совсем недавно (в сравнении с продолжительностью жизни вселенной). Так неужели те, кто создавал какие-нибудь коллатеризованные акции и кто разрешал их, не понимали, что будет, если такой инструмент запустить на финансовый рынок? Нет, это, конечно, злой умысел банкиров и американского правительства (от которого, кстати, оно само пострадало, уступив власть на очередных выборах).
Этой неспособности экономической науки все знать и понимать в своей области не понимают не только простые граждане, но и журналисты, политологи и политики. Отсюда этот постоянный рефрен о профессионалах. “В БЮТ не профессионалы, а у нас профессионалы”. “Нужно, вообще, составить правительство не из политиков, а из профессионалов”. Спрашивается, а кто профессионал? Каждый не только политик, но и политолог, журналист считает себя профессионалом и выдает рекомендации, как нужно поступить, чтобы выйти из кризиса. При этом ни один не ссылается ни на какую экономическую теорию из существующих и не предлагает свою, и практически не аргументирует своих рекомендаций. Все очень просто: нужно взять голову Ивана Ивановича, приставить к ней уши Ивана Петровича и нос Ивана Сидоровича и получится прекрасное лицо. В таком, примерно, духе выдаются рекомендации по вопросу, от которого зависит судьба огромного количества людей и всего государства. А то еще устраивают ток шоу на радио или телевидении и каждый, кому не лень и кому удалось дозвониться, предлагает чего-нибудь в духе: “Нет, ребята, а вот я считаю, что к этой голове надо приделать свиное рыло, тогда будет о'кей”. И поговорив с пол часа или час таким образом, считают, что приблизили страну к пониманию того, что нужно сделать, чтобы выйти из кризиса.
А по последним еще не проверенным газетным слухам Юля Тимошенко обратилась за советом (за кругленькую сумму в миллионы долларов) к команде Сороса. Вот, мол, у нас в стране профессионалов нет, но “там у их” не может же не быть. Но разве не “там у них” МВФ во время финансового кризиса конца 90-х дал Аргентине и еще некоторым странам неправильные рекомендации, в результате чего те пострадали от кризиса гораздо больше, чем могли бы пострадать? А Сорос, конечно, неглупый человек и в своих книгах и статьях по глобализации пишет много правильных вещей. Но это еще не значит, что он обладает законченной экономической теорией, пригодной на все случаи жизни. (И это не касаясь вопроса, совпадает ли интерес Сороса с интересом Украины и человечества. Во время кризиса 90-х он ведь неплохо нажился).
И не только он (не обладает теорией). Возьмем Фукуяму, которого я цитировал выше. Разве это – научный стиль (то, что я зацитировал)? Это стиль обыкновенного здравомыслящего человека с неплохой логикой. Вот, есть две идеи: одна регулировать, другая не регулировать, каждая хороша в свое время, а их применяли не в свое. И все. Это наука?
Но мы знаем, понаслышке хотя бы, что есть кейсианская теория, фридмановская и другие и что они где-то там применялись с пользой. То есть дэ факто получается, что экономическая наука существует и польза от нее есть, но, как и физика, знает она не все. А на практике дело выглядит даже так, что она в своей области знает намного меньше, чем физика – в своей. Объясняется это тем, что экономика не только сотворена человеком, но человек является еще и действующим фактором в экономике. Одного этого достаточно, чтобы экономика, как и физика принципиально не могла знать все в своей области.
Но тогда что, скажет читатель, надо признать, что в кризисах, цикличны они или нет, никто не виноват и нужно сносить их, как сносим мы смену времен года или стихийные бедствия? Это не совсем так.
Из выше рассмотренного ясно, что главная слабость нынешней экономической науки – в ее неумении установить четкие границы применимости конкретных экономических теорий или моделей. Можно ли устранить этот ее недостаток?
Недостаток этот не является недостатком только экономической науки. Он присущ всей современной науке, включая физику. Когда-то, когда рациональная наука только становилась на ноги, и даже позже во времена Ньютона и Лагранжа, когда она уже хорошо стала на обе ноги, вопрос о границах применимости теории вообще не возникал. Главная и почти единственная тогдашняя наука физика, состоящая на тот момент в основном из механики Ньютона, стремительно расширяла область своего ведения, не наталкиваясь ни на какие границы своей применимости. Отсюда рождалась абсолютизация научного познания, как в марксовом смысле, т. е. что новое знание ничего не изменяет в ранее добытом, а только добавляется к нему, так и в смысле отсутствия границ применимости научных теорий. Поэтому столь неожиданным для тогдашних физиков оказался опыт Майкельсона показавший, что у механики Ньютона есть границы применимости. Но даже до сих пор это до конца не осмыслено и не переварено физиками и вопрос о границах применимости возникает в физике только тогда, когда очередная физическая теория неожиданно (всегда неожиданно) налетает в каком-нибудь эксперименте на границы ее применимости (т. е. попросту этот эксперимент опровергает какой-либо вывод из теории). Тогда могут вспомнить про границы и начать создание новой теории, которая работала бы в расширенных границах и в частности не противоречила последнему эксперименту. В ряде статей (например, “Проекция космонавтики на атомную энергетику”) я показал, что такая ситуация чревата для человечества опасностью самоуничтожения в эксперименте типа андронного колайдера (поскольку именно в таких экспериментах и случаются выходы теории за пределы неизвестных до этого границ их применимости). Как видим непонимание вопроса о границах применимости научной теории более чем серьезно в случае физики. В случае экономики такое непонимание не грозит человечеству самоуничтожением, а только лишь экономическими кризисами. Мелочь, конечно, в сравнении с самоуничтожением, но тоже неприятно. Тем более что глобальный экономический кризис обостряет в целом ситуацию в мире, а это может привести к войне, в том числе и между атомными державами. А это уже делает опасность отсюда соизмеримой с опасностью оттуда.
Но мало того, физические теории наталкиваются на границы своей применимости, если не раз в столетия, как это было во времена Ньютона, то раз в десятилетия, как сейчас. А вот частота, с которой экономические теории наталкиваются на границы их применимости, несравненно выше. Это видно хотя бы из частоты, с которой происходят эти кризисы, особенно, если мы будем учитывать не только мировые кризисы, но и кризисы в отдельных странах. Это следует также из самого характера предмета экономической науки. В физике мы наталкиваемся на границу применимости теории только в процессе расширения области ее применения. Но в области, где мы уже успешно применяли нашу теорию, нет опасности, что при очередном ее применении мы нарвемся на неприятность. Мы и поныне с уверенностью применяем ньютоновскую механику при скоростях далеких от скорости света. А в экономике такая опасность всегда есть. Потому что постоянно изменяется сам предмет ее – экономическая действительность. Вот вчера мы с успехом применили кейсианскую модель в данной стране, а сегодня ее применение там же приведет к ошибке. Потому что за это время изменилась экономическая действительность в стране и в мире: произошла глобализация экономики, появились новые финансовые инструменты, франчайзинг , фьючерсы, еще Бог весть что. По Фукуяме изменились обстоятельства, а по мне – границы применимости теории. Обстоятельства и границы в данном случае – одно и то же. ( И в случае, когда скорости приближаются к скорости света, меняются в одной терминологии обстоятельства, а в другой – границы). Так что Фукуяма прав, называя причину кризиса, но он прав задним числом. А наука – это та, “которая на основании предшествующих опытов предсказывает нам результаты будущих”. Объяснить уже случившийся кризис Фукуяма может. А вот сказать: “Ребята, до сих, а то дальше мы нарвемся на кризис”, и не просто произнести, но и однозначно доказать это (просто так это произносят прорицатели вроде астрологов, но если мы начнем рулить экономикой ориентируясь на предсказания астрологов, то далеко зарулим), он не может. Не может, потому что ни экономическая наука, ни физика, никакая другая наука, не выработала метода установления границ применимости своих теорий. Такой метод разработал я.
На основе моей теории познания («Неорационализм», Киев, 1992, часть 1) я разработал единый метод обоснования научных теорий («Единый метод обоснования научных теорий», Алетейя, СПб, 2012 и ряд статей в философских журналах и сборниках). Метод этот позволяет, прежде всего, отделить науку от не науки, лженауки и т. п. Он решает важную философскую проблему епистемологического статуса науки, опровергает господствующие до последнего времени философские теории, релятивизирующие науку и т. д. И, наконец, он позволяет для теорий, обоснованных по этому методу, установить наперед минимальные границы их применимости. Из всего этого ясно, какое значение имеет этот метод не только для экономики, но для физики, для науки в целом, наконец, без преувеличения, для выживания человечества.
СОВРЕМЕННАЯ ОЛИГАРХИЯ
Недавно перечел “Железную пяту” Джека Лондона и поразился ее актуальности. Она помогает лучше понять то, что происходит сегодня в мире. Помогает не потому, что в своей антиутопии Джек Лондон оказался пророком. В основном своем прогнозе он ошибался. Но и своими ошибками, и анализом ситуации, отнюдь не во всем неверном, помогает Лондон понять сегодняшнюю действительность.
Железная пята – это диктатура олигархии, которая по предвидению Лондона наступает в Америке в первой половине прошлого века. В действительности, как мы знаем, такая диктатура не состоялась, но остается вопрос, были ли для нее предпосылки тогда и есть ли они теперь, причем не только в Америке. Вот социально – экономический анализ этих предпосылок, который делает Лондон в своей книге, как раз и представляет интерес. Делает Лондон это в контексте марксистской политэкономии, т. е. базируясь на антитезе социализма и капитализма, но со своими добавлениями. В чем по Лондону причина возможного (и реализовавшегося в романе) установления власти олигархов? В том, что концентрация производства увеличивает его эффективность. А поэтому неизбежно поглощение мелкого и среднего бизнеса крупным олигархическим капиталом. А единственную возможность избежать установления “железной пяты” Лондон видит только в победе социализма, который создает предельную концентрацию производства и собственности (все в руках государства) и потому экономически он еще более эффективен, чем олигархическая диктатура.
Ну, мы теперь хорошо знаем, что бесконечное повышение концентрации производства и собственности, отнюдь не ведет к бесконечному увеличению экономической эффективности. Не ведет по той причине, что устраняет конкуренцию, которая еще более важна для эффективности производства, чем концентрация его. По этой причине, кстати, реальный социализм и проиграл экономически реальному капитализму, что и привело к развалу Союза. А в самой Америке и в Европе сегодня малый и средний бизнес занимают почетное место в экономике и защищается антимонопольными и прочими законами от поглощения крупным капиталом.
Но во времена Джека Лондона антимонопольных законов еще не было и опасность установления диктатуры олигархии, действительно, существовала. Об этом писали и говорили не только Джек Лондон или правоверные марксисты и социалисты, но и наиболее прозорливые сторонники свободного рынка и демократии. Вот известные слова Авраама Линкольна, сказанные им незадолго до его гибели:
“В недалеком будущем наступит перелом, который крайне беспокоит меня и заставляет трепетать за судьбу моей страны…Приход к власти корпораций неизбежно повлечет собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить свое владычество, играя на самых темных инстинктах масс, пока все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих избранных, – а тогда конец республике”.
Диктатура олигархии не состоялась только благодаря борьбе среднего класса ( а не пролетариата), который оказался не таким слабым, как это казалось Лондону. И благодаря наличию у среднего класса в нужное время таких талантливых вождей, как Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт.
Надо отметить, что эта победа среднего класса над потенциальной угрозой олигархической диктатуры принципиально отличается от победы над ней же пролетариата в ходе Октябрьской Революции. Октябрьская Революция просто уничтожила всех олигархов заодно со средними и мелкими предпринимателями, уничтожила их как класс. А тем самым уничтожила и конкуренцию в экономике и тем самым определила и свое поражение в будущем. Победа же среднего класса в Америке и Европе отнюдь не означала уничтожения олигархов. Такая задача и не ставилась, и не могла ставиться, потому что каждый малый предприниматель мечтает стать средним, средний – крупным и т. д. И если срезать верхушку этой пирамиды, то будет утрачен стимул деятельности для всех более низких ее уровней, что приведет к утрате экономической эффективности системы. Поэтому сегодня на Западе к олигархам относятся примерно так же, как современное цивилизованное общество относится к волкам и прочим хищникам в природе. Хищник остается хищником, он уничтожает травоядных и может представлять опасность и для человека, поэтому приходится принимать меры, чтобы свести к минимуму опасность его и обеспечить оптимальный баланс между хищниками и травоядными. Но всем ясно, что полное истребление хищников – это грубая ошибка, т. к. нарушает этот баланс в другую сторону. Примерно ту же позицию занимает Запад в отношении своих олигархов. (Нужно, конечно, иметь в виду, что аналогия эта, как и всякая другая, относительна: полезная функция олигархов не сводится к санитарно – экономической, т. е. к разорению и поглощению неэффективных мелких и средних предпринимателей. Есть виды производства, где концентрация его намного важнее конкуренции и там экономически оправдана монополия.)
Продолжая сравнение между решением проблемы олигархов по методу Октябрьской Революции и по методу (назовем его условно так) среднего класса, можно сказать еще так. В первом случае решение носит статический и одноразовый характер. Как говорил “вождь народов”: “Нет человека – нет проблемы”. Нет олигархов и ничего уже не надо с ними делать (до тех пор, пока общество, пошедшее этим путем, не перестанет быть). А вот решение по второму варианту (решение среднего класса), это решение динамическое. Олигархи остаются и их природа, как и природа волков, тоже не меняется (или меняется мало). Они такие же жадные, как и во времена, когда Джек Лондон писал свой роман, и также хотят как можно больше денег и власти. Поэтому общество постоянно должно держать руку на пульсе и вовремя пресекать чрезмерные амбиции и аппетиты олигархов. А это, надо сказать, не совсем простое дело.
Как и какими путями влияет олигархия на политику и прочую жизнь общества, вопреки наличию демократических законов? Для начала, как она влияла тогда, во времена Лондона. Вот что пишет об этом сам Лондон:
“Но кто же в наше время контролирует правительство? Двадцать миллионов американских рабочих? Видите, Вам смешно от одной этой мысли. Или восемь миллионов представителей среднего класса? Нет, они также тут не причем, как и пролетариат…. Контролирует правительство мозг плутократии – семь небольших, но чрезвычайно влиятельных групп. И не забудьте, что эти группы сейчас действуют заодно.
Разрешите охарактеризовать вам аппарат власти хотя бы одной из этих групп, а именно железнодорожных магнатов. Сорок тысяч юристов защищают ее в суде против интересов трудового народа…..Она держит на хлебах и весьма привольных хлебах – лоббистские шайки в столице каждого штата, не говоря уже о Вашингтоне. И во всех городах и поселках страны она содержит целую армию крючков и мелких политиканов, на чьей обязанности лежит укомплектование своими политическими единомышленниками предвыборных собраний и съездов, их дело также подбирать присяжных, подкупать судей и всеми возможными средствами наблюдать интересы компании”.
Далее Лондон описывает продажность прессы, подкуп олигархами влиятельных профсоюзов, разорение ими мелких и средних предпринимателей и ужасное положение рабочих. Короче, все то, о чем нам дырку в голове продолбила в свое время советская пропаганда. Советская пропаганда, конечно, нас нагло обманывала, уверяя, что положение советских трудящихся лучше, чем на современном Западе. Но что касается ситуации, которая была в Америке в начале прошлого века, то тут эта пропаганда была не та уж далека от истины, что подтверждается не только Джеком Лондоном, но и многими другими западными авторами.
Но что там вспоминать далекое прошлое, скажет читатель, если сегодня на Западе и средний класс цветет и здравствует, и положение рабочих и служащих – на зависть бывшим советским, и вообще все хорошо? Ну, насчет того, что все – хорошо, к этому мы еще вернемся. Но насчет среднего класса и трудящихся – это верно и поэтому о возврате к социализму, тем более, советскому, речь не идет. Речь идет о возможности сегодня установления диктатуры олигархов. Ведь, как сказано, ситуация динамическая и посему она в любой момент может измениться. Ведь и олигархи остались, и природа их хищная мало изменилась, равно, как и продажность политиков, судей, журналистов и, вообще, человеческая природа. Так как же выглядит в этом отношении ситуация сегодня?
С одной стороны, демократическое общество осознало принципиальную возможность олигархической диктатуры и выработало ряд мер, препятствующих осуществлению ее. Приняты антимонопольные законы, прогрессивная система налогообложения, усовершенствованно законодательство на предмет разделения властей, чтобы их трудней было подкупить оптом и т. д. Но, с другой стороны, и олигархия много чему научилась и усовершенствовала свои методы за это время.
Во-первых, она поняла, что нет смысла стремиться к формальной задекларированной власти. Такая власть налагает ответственность и вызывает раздражение у широких масс, толкает их на сопротивление, вплоть до вооруженного восстания. Кому это надо и кто это вытерпит? Гораздо комфортнее и даже психологически приятнее тайная власть. “Пусть эти дураки думают, что это они правят бал с помощью выборов, перевыборов. А на самом деле их избранные в любом случае пляшут под нашу дудку”. И олигархия наработала много приемов тайного властвования (а некоторыми она пользовалась уже во времена Джека Лондона).
Она успешно укрывает свои доходы от налогообложения в офшорах. Она еще во времена Джека Лондона, т. е. еще до появления антимонопольных законов, выработала методы фактического поглощения мелких и средних предприятий, формально оставляя их независимыми. Вот как об этом пишет сам Джек Лондон:
“Железнодорожная компания знает мои дела лучше, чем я сам, – жаловался он (предприниматель Асмунсен – мое). – От нее ничего не укроется: ни мои эксплуатационные расходы, ни условия контрактов. Кто им обо всем докладывает, ума не приложу…..Посудите сами: едва только мне удается получить большой заказ на выгодных условиях, как железнодорожная компания непременно повышает тарифы на мой груз; они не входят ни в какие объяснения, а просто слизывают у меня всю прибыль. Характерно, что мне не удается добиться от них никакой скидки. А ведь бывает, что в случае какой-либо неудачи – или больших расходов, или если контракт невыгодный – они идут мне навстречу. Но, так или иначе, всю мою прибыль, какова бы она ни была, кладет себе в карман железнодорожная компания.
– То, что вам остается, – прервал его Эрнест, это примерно, жалованье, которое компания платила бы, если бы каменоломня принадлежала ей, а вы были бы ее управляющим. Не правда ли?
– Вот именно. Недавно мы просмотрели все книги за последние десять лет. И представляете? Я убедился, что вся моя прибыль за это время равна примерно жалованию управляющего. Компания могла бы с таким же успехом владеть моей каменоломней и платить мне за труды.
– С той лишь разницей, – подхватил Эрнест, смеясь, – что в этом случае весь риск несла бы компания, тогда как сейчас вы любезно берете его на себя.
– Совершенно верно, – сокрушаясь, вздохнул мистер Асмунсен.”
Ну, надо сказать, что в чистом виде и в массовом масштабе такая схема сегодня не прошла бы благодаря тому, что государство следит за ценами, устанавливаемыми монополиями на свои товары и услуги. Но ведь и олигархи сегодня не те и они придумали не одну схему взамен той устаревшей. Наиболее известная из них, вполне разрешенная законом и весьма рекламируемая сегодня – это франчайзинг. Это просто окультуренный вариант того, что описано у Джека Лондона. Правда, здесь “обрезание” предпринимателя купившего франчезу, не столь тотально, как в романе Джека Лондона, но разница в нюансах, принцип, в общем, тот же. Кроме того, есть еще десятки других вариантов, не нарушая антимонопольный закон, поглощать дэ факто малые и средние предприятия или овладевать их доходами. Вон Березовский славился как мастер высасывания финансов из чужого предприятия с помощью подкупа соответствующих его сотрудников и без того, чтобы это предприятие формально присоединять. А можно и поглотить чужое предприятие, но переписать его не на себя, а на подставную фирму. И методы поглощения весьма усовершенствовались по сравнению с теми временами. Достаточно упомянуть одно только рейдерство. И т. д. и т. п.
В результате финансовая мощь современной олигархии не только в абсолютном измерении, но и относительно объединенной мощи среднего и мелкого капитала не только не убыла, но и возросла. А ведь капитал мелких и средних предпринимателей рассредоточен среди сотен тысяч владельцев, а число олигархов – десятки, так кому легче договориться для совместных действий в политике или экономике? Но сегодня в отличие от времен Джека Лондона, никто не знает точных размеров состояний того ли иного олигарха. Вон недавно обсуждалось состояние Ахметова: по одним данным у него 30 миллиардов и он первый богач в Европе, по другим – только 7, а по третьим – у него и миллиарда нет. Т. е. первое, что сегодня делают олигархи, это уход, по возможности, в тень, чтоб даже и олигархом, если удастся, не числиться.
Но и с политиками, которых они, как и прежде, покупают, они стараются обходиться не столь безапелляционно, как во времена Джека Лондона. Тогда они говорили: “Мы вложили в тебя деньги, сделали тебя президентом, губернатором и т. п., изволь теперь выполнять то, что мы тебе скажем”. Сегодня они понимают, что такой метод не оправдывает себя, т. к. такой запроданный политик неэффективен. Он лишен вдохновения, искренности, народ чувствует это и, хотя с помощью мощной финансовой поддержки его вытолкнули наверх, но долго он там не удержится, и изволь опять тратиться на подкуп нового лидера. Поэтому сегодня олигархи стараются поддерживать лидера более-менее харизматического, более-менее верующего в некую идею, более-менее популярную в народе. Чтобы такой лидер мог выбиться наверх, ему все равно нужна финансовая поддержка и ему дают ее. Но ему уже не говорят: “Ты, жлоб, мы тебе платим, делай то, что тебе говорят”. Да такой лидер на таких условиях и не возьмет денег. Его держат, так сказать, на длинном поводке. Ему говорят: “Мы даем тебе деньги из убеждений, потому что нам нравится твоя программа”. Он их берет в полной уверенности, что поступает вполне морально, что своих идеалов не предает и не продает, и продолжает вдохновенно блеять народу про свои идеи. Но де-факто он уже попадает в определенную зависимость от тех, у кого взял деньги. Степень этой зависимости зависит от силы личности политика. Для мало-мальски незаурядной личности этого недостаточно для полного подчинения. Но ведь это только первый шаг. Наработано еще много методов для дальнейшего более полного подчинения такого лидера. Первейший из них – это компромат, нахождение “скелета в шкафу” у лидера или если такого в действительности нет, то конструирование мнимого, но такого, в который публика могла бы поверить, и затем шантаж угрозой раскрыть этот компромат. Другой прием – это создание неустойчивого положения власти за счет поддержки ее противников (в случае, если власть не делает угодного олигархам) и переманивания и перекупки союзников. И.т. д.