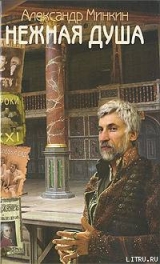
Текст книги "Нежная душа"
Автор книги: Александр Минкин
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Без перевода
Лишь после того как «Войцек» кончается, мы понимаем вдруг, что не только смотрели спектакль, но и играли в нем.
Фабула «Войцека» непритязательна. Маленький человек, бедный армейский цирюльник Войцек, бреет господ офицеров, сносит их оскорбления и насмешки, а узнав об измене сожительницы – убивает ее. Что ж, история старая. Рядовая. Пошлая. Но Георг Бюхнер сделал из нее удивительную пьесу, а Тамаш Фодор поставил удивительный спектакль.
«Войцек» начинается исподволь. Не с театра, а с некоего пра-театра. Зрители попадают в небольшое, тускло освещенное помещение, где человек, одетый в черные лохмотья, играет на старинном трехструнном смычковом инструменте то взвизгивающую, то глухую, тянущую душу мелодию. У ног – мятая шляпа, взгляд отрешенный: мимо нас, сквозь нас. Ситуация столь достоверна, что зрители начинают бросать в шляпу монетки. Жесткой заданнос-ти нет, как нет жесткой заданности в нашем восприятии уличного нищего: хочешь – дашь, не хочешь – не надо.
Отрешенность уличного музыканта, отсутствие общения с его стороны – не фокус, не прием, а броня человека, добывающего хлеб делая из себя зрелище. Сквозь толпу зрителей пробирается парочка, которую сперва принимаешь за желающих посмотреть на музыканта поближе. Только когда они начинают целоваться в сторонке, возникает сомнение: не актеры ли? Всего лишь сомнение, ибо никакой нарочитости в их поведении нет, нет общения, есть полная замкнутость, отчужденность, отстраненность, несмотря на близкое соседство множества людей, давку. Такое испытываешь нередко в переполненном вагоне.
И вдруг все меняется. Музыка кончилась, а над ширмой, отделяющей нас от соседнего помещения, появились куклы. Они по-кукольному кричат, дергаются, дерутся, разыгрывая в стремительном темпе за каких-нибудь одну-две минуты историю любовного треугольника. Только что целовались, и уже одна кукла лупит другую палкой по башке, та опрокидывается – конец. И нас приглашают за ширму – здесь-то все и произойдет. То в середине небольшого зала (точнее, большой комнаты), то в одном его конце, то в другом будут разыгрываться эпизоды «Войцека», а мы будем ходить за зрелищем (сесть все равно некуда), думая, что сами выбираем себе место, откуда лучше видно и только после поймем, что это режиссер водил нас на невидимой веревочке. Актеры будут пробираться, протискиваться сквозь нас, нас не видя, словно накрытые прозрачным колпаком ауры; вплотную к нам разыграется семейный скандал Войцека; вплотную к нам капитан будет садистски издеваться над бреющим его Войцеком (а мы ждем: выдержит или полоснет бритвой по горлу); вплотную к нам женщина будет изменять бедняге, а в другом углу Войцек станет покупать нож – орудие скорого убийства, – и каждый из нас волен выбирать: куда идти, на что смотреть. Но – никакого прямого контакта, никакого непосредственного общения с публикой. Тамаш Фодор довел театральную достоверность до пугающей жизненности.
Масса событий в жизни происходит одновременно, и когда театр пытается эту одновременность изобразить, то обычно на сцене две площадки, и когда освещается одна, затемняется другая, либо обе освещены, но пока здесь говорят, там лишь жестикулируют сдержанно да шевелят губами, имитируя непрерывность происходящего. В Студии «К» симуль-танность без обмана; если два события по замыслу происходят одновременно – значит, и играют их одновременно. Мастерство и чувство меры в этих случаях таковы, что мы ничего не теряем, а приобретается многое. Режиссер тем более имел право на такой монтаж, что «Войцек», как известно, «слеплен» из довольно разрозненных сцен и эпизодов, найденных после смерти Бюхнера. Но уж когда Та-маш Фодор решает, что актерам пора общаться со зрителями, – уклониться нет ни возможности, ни желания. Корчма, где Войцек только что пил с горя, вдруг становится общедоступной. Пива? – Пожалуйста. Бутерброд? – Пожалуйста. Плати деньги, пей, ешь. А вот и музыка. Плясовая. Да это антракт… Или не антракт?
Есть общение в «Войцеке» или нет его? И есть и нет. Ведь и в жизни так: весь двор наблюдает семейный скандал, и лишь скандалящим кажется, что они одни. Вот толпа обособленных людей стоит на эскалаторе, но раздается залихватский взвизг гармошки – и подвыпивший мужичок вдруг на минуту превращает всех в общающихся, переглядывающихся зрителей.
…Музыка смолкла. Бутерброды съедены. Войцек близится к своему трагическому концу. К убийству.
Снова актеры полностью отчуждены от нас, хотя близки настолько, что приходится пятиться и расступаться, чтоб дать место для драки Войцеку и любовнику Марии Тамбурмажору.
Эта полная отчужденность, отсутствие всякого внешнего контакта и общения полны глубокого театрального смысла. Именно отсутствие контакта делало «Войцека» захватывающим зрелищем, давало возможность смотреть грубо, жадно, неотрывно. Так смотрят зеваки на жертву уличной катастрофы, так смотрят на хоккейную драку, так смотрели на гладиаторов, так смотрят на сцену, ибо зрелище – это другие. Если же дело касается нас – зеваки нестерпимы. Что до знакомых разной степени близости, то чем ближе нам человек, тем менее грубо и откровенно позволяем мы себе разглядывать его. В этом еще один (или все тот же?) секрет театральности, секрет театра, ибо здесь мы можем и даже должны пристально разглядывать то, от чего в жизни деликатно отвернулись бы.
Но Тамаш Фодор, привязав нас своей веревочкой к мечущемуся по зальцу действию, о нас не забыл. Скорее, поймал на удочку, создав в нас отсутствием контакта комфортное ощущение непричастного наблюдателя. Мы забыли, что не в партере, где наш комфорт охраняет «четвертая стена», и поплатились за это. Финал. Войцек зарезал Марию. Она умерла так близко от нас и так страшно, как ни в каком театре, ни в каком кино. А Войцек потащил труп прятать. Он тащил его, бледный, задыхающийся, а мы – ведь он нас не видит! – валили за ним. Вплотную, чтоб было лучше видно. Вдруг Войцек взглянул на нас. В глаза. Стоя на коленях над трупом Марии, он исподлобья метнул дикий, затравленный, ненавидящий взгляд: вы – здесь?! Мы были здесь. Значит, не спрятал, значит, видят – и он поволок тело в другой конец комнаты, а мы, раздавшись, пропустили его и, как заколдованные, двинулись вслед. Войцек протащил нас через весь зал и снова вскинул отчаянные глаза: вы – здесь?! Мы были здесь.
Мы застали его в момент преступления, а он нас – в момент жестокости. Простить нам эту жестокость Тамаш Фодор не хочет. Не хочет оставить нас зрителями, публикой; напротив, загоняет в персонажи драмы, тем самым добиваясь жутковатой реальности событий.
Каково было мое изумление, когда, дописав до этого места, я заглянул в финал «Войцека».
ВТОРОЙ РЕБЕНОК. Что? Где?
ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК. Так ты ничего не знаешь? Все уже там…
ВТОРОЙ РЕБЕНОК. Бежим скорее, а то и смотреть будет нечего. Унесут, и все.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Хорошее убийство, настоящее убийство, прекрасное убийство. Лучше и требовать нельзя. Давно уже у нас ничего такого не было.
Именно эти роли мы и играли! А слова полицейского – своеобразная, но точная рецензия.
Спектакль шел на чужом языке, на одном из самых чужих – венгерском. Но настоящий театр сам себе переводчик. Он переводит пьесу на язык зрелища, с языка одного искусства на язык другого. С «lesen» на «sehen». Он наполняет текст эмоциями, интонациями, красками, голосом и телом, и, если мысль театра остра, сильна и точна, переводчики ему не нужны.
Любопытно, что постановки советских пьес в Венгрии не очень отличаются от наших. Если б не язык, их легко было бы принять за отечественные. В Ка-пошваре лучший – как утверждают сами венгры – театр страны поставил оперетту Ю.Милютина как веселую пародию на фильмы Г.Александрова. Костюмы, прически, манеры, интонации, мимика и пластика – все схвачено так верно, что порою начинает казаться, будто чудом попал на съемки фильма с Любовью Орловой в главной роли.
Классика же отличается явственно и сразу. Смотришь решенную в гротесковой манере «Смерть Та-релкина» – и видишь, как в замечательно поставленной пьесе Сухово-Кобылина проглядывает вдруг Достоевский, слышится гоголевская нота. Без них, без Гоголя и Достоевского, не обходятся и венгерские постановки Чехова.
В спектакле «Леший» все спотыкаются, постоянно что-то роняют, проливают, все порядком неуклюжи – в этом отношении все и тут немножко «епихо-довы».
Но ведь сам Епиходов, несомненно, двоюродный брат Пселдонимова из «Скверного анекдота» и внучатый племянник Акакия Акакиевича (а был бы внуком, не умри тот бездетным).
В «Платонове» (театр Пешти) одно за одним происходят «епиходовские несчастья»: Софи случайно обнимается со скелетом, женщины падают на диван, где уже лежит Платонов, сюртуки мужчин застегнуты с перекосом, даже смертельное финальное падение Платонова – отчасти епихо-довское. Он падает навзничь, опрокидывая спиною школьную доску, с которой за миг до этого стер свое имя – уничтожил себя. Эта опрокинутая в падении доска – епиходовский довесок к самоубийству.
Для нас Гоголь, Тургенев, Островский, Чехов, Горький – хоть во многом взаимосвязанные, но в то же время разные миры. Зарубежный театр, зарубежный режиссер, различая, конечно же, гениев русской драмы, все-таки (даже, может быть, невольно) в каждый русский спектакль вкладывает свое ощущение России в целом. То есть в каком-то смысле, ставя Гоголя, Чехова и т. д., он ставит спектакль о России. (Это свойственно и нашему театру. В постановку, скажем, пьесы Теннесси Уильямса, впихивают некую «Америку вообще», и тогда в «Трамвай „Желание“» собираются персонажи со всей Америки – йокнапатофцы Фолкнера, мичиганцы Хемингуэя и т. д.)
И у всех спектаклей по русским классическим пьесам есть общие черты, даже, может быть, общая сверхзадача: познать, понять Россию. Не говоря уже о вечной цели русской, да и всей мировой классики – понять Время, Человека и Судьбу.
1981
По направлению к Някрошюсу
Эймунтас Някрошюс – режиссер. Работает в Вильнюсе. В молодежном театре. Он ставит там гениальные спектакли. Еще недавно казалось, что необходимо убедить всех съездить в Вильнюс, посмотреть хоть один спектакль Някрошюса. Больше я так не думаю. И никого не хочу убеждать. Зачем навязывать? Надо рассказать. А дальше пусть каждый сам решает.
Я не знал, как начать эту статью. Один раз начал так: «Театральный режиссер – самая горькая из творческих профессий. Результаты огромного труда исчезают без следа…» И дальше я писал то, что вам и без меня известно. Что музыка записывается нотами, а игра музыканта – на пластинке, что фильм можно копировать, а картину фотографировать. И что все искусства вечны…
А спектакль – эфемерен. С закрытием занавеса он исчезает неведомо куда…
Исписав две страницы, я понял, что про Някро-шюса и про его спектакли ни слова не сказал. Тогда это начало отбросил…
В «Квадрате», первом спектакле Някрошюса, есть такой эпизод: человек сидит в тюрьме, в одиночке; жизнь его проходит напрасно – так уж сложилась судьба. Он сидит на табуретке и бесцельно шарит по карманам куртки. И вдруг находит в кармане маленькую пустую консервную банку. Разглядывает ее внимательно. Очень сосредоточен. Вертит жестянку в руках. Оглядывается по сторонам, замечает кусок проволоки. И начинает что-то делать. Что-то странное, непонятное. Ковыряет проволокой донышко жестянки, постукивает, царапает, подносит горящую спичку.
Он старается, весь ушел в работу, трясет обожженной рукой – не заметил, как спичка догорела до пальцев. Пустая жестянка, кусок проволоки… Мы смотрим, недоумеваем… но почему, почему в нас вдруг возникают восторг, и предчувствие, и ужас, и ожидание? Нет, говорим мы себе, отмахиваясь от наваждения, нет, не может быть. И в этот миг – чудо! – жестянка начинает издавать хриплые звуки. Человек сделал радиоприемник из ничего!
Да, так не бывает. Но… жестянка хрипит, дребезжит, слышны звуки марша, молодые возбужденные голоса. Где-то там, на вокзале, откуда идет радиорепортаж, садятся в поезд окончившие институт. Едут работать в далекие края. Девичий голос читает стихи, а потом выкрикивает адрес – название деревни, где будет учительницей. И он напишет ей из своего одиночества.
Эпистолярный роман с молодой учительницей длится долго. И вот она приезжает. Никогда прежде они не видели друг друга. Первое очное свидание. Она робко входит в камеру. Сейчас они будут знакомиться. Впервые заговорят… Нет, мужчина молча бросается на нее. Она в ужасе отскакивает, сжимается от страха. А он – в отчаянии. Он все испортил! Напугал! Доверие, завоеванное годами переписки, рухнуло в один миг.
В растерянности, сам не сознавая, что делает, он начинает грызть кусок сахару. И вдруг, повинуясь
безотчетному импульсу, другой кусок протягивает ей. Она отшатывается – ею все еще владеет дикий страх. Он кладет сахар на нары и медленно подталкивает его как можно ближе к ней. И – отходит. О чем она думает – неизвестно. Но – дотянулась до сахара и сунула его в рот. От голода? От растерянности? Неважно. Все равно это победа! Следующий кусочек он кладет чуть ближе к себе. Следующий – еще ближе. Ей уже приходится сделать шаг к нему. Вряд ли ей хочется есть третий кусок, но она уже поняла, как спасительна эта игра, и не хочет ее разрушить. Он кладет следующий кусок, но руки уже не отнимает. Он как бы придерживает сахар. Она протягивает руку – и вот их пальцы наконец встретились. Они счастливо смеются. И мы счастливы тоже. Так просто, наглядно и совсем без слов нам показали приручение.
Вероятно, любой режиссер счел бы «сахарную тему» исчерпанной и был бы заслуженно доволен собой. Здесь же последовало неожиданное. Мужчина достал еще кусок сахару, положил на табурет и сказал:
– Это – понедельник. Достал еще.
– Это – вторник. Еще.
– Это – среда. Это – четверг.
Достав следующий кусок, он помедлил:
– По пятницам сахара не бывает. Это – суббота. И стал доставать все новые куски.
– Это – воскресенье. Это – понедельник. Это – вторник…
Он выкладывал сладкое, но в голосе его, но в душе у нас росла горечь: вот чем мерились его дни – кусочком тюремного сахара.
И любой режиссер был бы вправе гордиться собой. Но последовало невыносимое.
Он уже доставал сахар горстями:
– Это – март. Это – апрель. Это – май… Он уже сыпал пригоршнями ей на голову:
– Это – июнь. Это – июль. Это – август…
Он доставал сахар из холщового мешочка, прижатого к низу живота, – казалось, он достает из себя потроха.
– Это – сентябрь. Это – октябрь… Все мои дни – тебе. Все мои годы – тебе!
Он посыпал ее сахаром своей горькой жизни. Куски скатывались по волосам, по плечам, сыпались на пол… Что это было? Фата из сахара? Какой-то жуткий свадебный обряд?
Что бы ни было – горький комок стоял в горле.
Как соединил режиссер эти сладость и горечь, смех и слезы, абсолютно театральный вымысел и больно сжавшую сердце правду?
Как? Кто его знает. Ведь спектакль такой.
А когда спектакль кончается, зажигается свет, утираются слезы, то никого уже не интересует вопрос: можно ли из консервной банки и проволочки сделать приемник? Потому что слезы, проливаемые на спектаклях Някрошюса, делают нас счастливыми.
Вот теперь скажите – как писать про такой спектакль? Конечно, можно изложить сюжет, описать сценографию, назвать актеров и… и…
Театральное действие плохо поддается фиксации. А театр Някрошюса – самый неподдающийся.
В самом начале я перечислил все, что знаю о режиссере. Получилось мало. Потому что Някро-шюс – молчит. Не потому, что скрывает творческие секреты. Нет, он просто молчит. Всегда. Обо всем. Поэтому Някрошюс стремительно обрастает легендами. За молчащего человека так приятно придумывать. Говорить с ним трудно. Спросишь – молчит. Повторишь вопрос – молчит. И, наконец, начинаешь сам рассказывать ему о нем, о его спектаклях. Молчит. Усмехается. Не опровергает. Значит, ты вроде бы прав. Приятно.
Някрошюс из крестьянской семьи, он жемайти-ец. Не знаю точно, но приблизительно это значит, что из не очень-то общительных.
Лет двадцати пришел он будто бы в Вильнюс (я думаю, все-таки приехал, но по легенде – пришел). И сказал (кому?), что хочет заниматься театром. Литовцы – народ уравновешенный, нервы крепкие, поэтому ему дали направление в Москву, в ГИТИС…
Как он сдавал экзамены и зачеты? Я думаю – молча. Улыбался. Пожимал плечами. Щурился. Кивал… Но диплом получил, уехал домой в Литву.
Весной 1982 года в столице Грузии Тбилиси состоялся I Всесоюзный фестиваль молодежных спектаклей. Приехали театры из всех союзных республик.
12 апреля – восьмой день фестиваля. Очередной спектакль – «Пиросмани, Пиросмани…» Молодежный театр из Вильнюса. Режиссер – никому не известный Някрошюс.
Свет погас. Мы надели наушники. Спектакль начался. В наушниках тихо потрескивало молчание. Все, было, забеспокоились – техническая неисправность? И вдруг осознали, что спектакль идет уже несколько минут, а на сцене не произнесено ни слова. Это не была пантомима, ничего похожего на пантомиму. Рассказывалась… нет – показывалась трагическая история грузинского художника Нико Пиросманашвили. Самоучка-примитивист рисовал картины за тарелку еды. Рисовал на клеенке. Рисовал вывески, пиры, любимую женщину – актрису Маргариту. Обстоятельства его смерти туманны. Булат Окуджава заканчивает стихи о Пиросмани так:
Он жизнь любил нескупо, Как видно по всему. Но не хватило супа На всей земле ему.
…А по сцене бродил бородатый, слегка плешивый сторож. Будто сошел с картины Пиросмани. И почему-то сразу было ясно, что он блаженный. Весь излучая доброту и радость, оборванный, голодный, он суетливо и бестолково пытался прибрать в убогой комнатушке. И светился ожиданием. Извлекая иногда из-за пазухи пустую бутылку, он подносил горлышко к губам, дул – бутылка тихо гудела. Забава? Дрожащая печальная нота, казалось, обращена к нам, к миру, к мирозданию. Не в силах чувства облечь в слова, да почти и не зная слов, старик по-своему столь же полно изливал душу, как Луи Армстронг на золотой трубе своей. Чистейший младенческий доверчивый взгляд, робкая душа, робкий, чуть слышный звук… И – шаги. Пришел Пиросмани. Угрюмый. Голодный. Его картины никому не нужны. Он притащил мешок муки и большие весы – авось торговлей заработает кусок хлеба. Сторож вспыхнул от счастья, увидев Пиросмани – единственного, кто не гонит, не издевается. Вспыхнул и сразу угас, сгорбился, втянул голову, ибо кумир его огорчен и в плохом настроении. А вдруг поможет музыка? Сторож, опасливо поглядывая на Пиросмани, достал бутылку, поднес к губам. Взу-у-у-узз… Напрасно. Измученный, раздраженный художник вырвал бутылку у старика и пошел к двери. Тот остался стоять, и на лице его, и в фигуре его было горе. Горе и обида. Горе, что огорчил, рассердил свое божество. Обида, что его не поняли. Он же хотел как лучше, а у него отняли его музыку. Старик в отчаянии, в настоящем, полном, детском отчаянии. И уходящий Пиросмани спиной почувствовал, обернулся, увидел, понял, как жестоко обидел. Ему стало невыносимо, до боли стыдно. И он вернулся и неловко, стоя боком к старику, сунул ему бутылку. Дальше все произошло мгновенно. Бутылка исчезла за пазухой сторожа. Он в стремительном повороте упал на колени перед Пиросмани, ища, хватая, целуя обидевшую и простившую руку. Лицо Пиросмани задрожало, свободной рукой он обхватил плешивую голову, прижал к себе. И они застыли в полном единении, в слезах, в обоюдном прощении, в любви. В один миг на сцене возникло Рембрандтовское «Возвращение блудного сына». И это было только начало.
Някрошюс сумел показать творчество Художника на сцене.
Обычно это делается так. На сцене стоит «спиной» к зрителям мольберт. А лицом к публике за мольбертом стоит «гениальный художник» и всеми силами изображает «вдохновение»: щурится, кусает губы, отступает, подступает, тычет кистью в палитру, наносит последние мазки на невидимый нам пока шедевр. Потом возможны два варианта. Или нам покажут «созданную только что» картину, и мы увидим плохую копию известного шедевра. Или не покажут, а персонажи будут ходить вокруг мольберта и восхищаться. В общем, та же история, что со всеми театральными «моцартами», которых всегда усаживают за инструмент так, чтобы клавиатуры не было видно из зала.
…Пиросмани берется за подрамник. Сейчас он будет работать. Сторож увидел это – и засиял от счастья, закивал головой. Он знает: сейчас начнется чудо. Пиросмани, совершенно погруженный в себя, с внимательным, отрешенным взглядом садится на стул, придерживая подрамник, в который заключена черная доска. А позади него сторож, страшно волнуясь, улыбаясь, что-то неслышно шепча, зажигает свечу и держит ладонь над огнем. Секунда-другая, и он отводит руку от пламени, и в этот момент Пиросмани, не оборачиваясь, протягивает руку назад. Сторож не глядит на Пиросмани, Пиросмани не глядит на сторожа, но их руки одновременно и безошибочно тянутся друг к другу. Обожженные свечой пальцы блаженного и пальцы художника встречаются, на миг соприкасаются и – будто искра проскочила – отдергиваются. Сторож опять держит ладонь над пламенем, а Пиросмани усердно и сосредоточено трет пальцами белый угол черной доски. И все повторяется снова.
Нет кистей. Нет красок. Нет картины.
Пламя свечи. Обожженные пальцы. Встреча рук. Черная доска…
Пламя свечи. Обожженные пальцы. Встреча рук. Черная доска…
Так не рисуют? Конечно. Так никто ничего никогда не нарисует. Някрошюса это не смущает. Он не пытается нас обмануть имитациями и симуляциями реальных действий. Театр – не кинохроника. Театр – особый язык. И Някрошюс на своем театральном языке рассказывает о реальном мире. И музыка рассказывает о творчестве, о смерти, о любви. Но в жизни ни любовь, ни смерть ничуть не похожи на нотные знаки.
Някрошюс создает ритуал.
Он говорит о жизни на театральном языке.
Язык его чист, полон ясных символов и ошеломляющих озарений.
Язык его не заумен. Ибо все понимается мгновенно и всеми.
…Пиросмани сполз по стене и остался неподвижно сидеть в углу. Вернулся Сторож. Увидел…
Нельзя передать, что с ним стало. Как смотрел он на свое божество – единственного, кто не гнал, не издевался над ним, немым и немножко сумасшедшим, единственного, кто любил и заботился. А теперь – ушел. Сторож горюя зачерпывал дрожащими руками муку из мешка, сыпал на мертвого, и Пиросмани начал белеть, побелела одежда, стало гипсовым лицо. Сторож поднял Пиросмани и, покачивая, повел к весам. Усадил на платформу весов. Ноги покойника сползли. Скуля, старик снова уложил их на весы. Все так хорошо, так красиво устроил. И Пиросмани оказался на весах. И старик надел на стержень гирьку и взвесил Пиросмани… Ну, и сколько весит умерший с голоду гений? Мало. К весам была привязана веревка. Скулящий, как раздавленная собака, старик впрягся, рванул, стронул и поволок. Странно, как-то боком сидящий на весах, уезжал Пиросмани от нас. Блаженный плакал, тянул веревку, весы медленно уезжали за кулисы.
Свет медленно гас. Гений покидал сцену, но лицо его вопреки логике все время было обращено к нам. Мертвец поворачивал голову, и глаза его, кажется, и в полной тьме все не отпускали наши души.
Как объяснить? Как истолковать?
Что толку спрашивать: как? почему?
Может быть, художник привык пристально, не мигая вглядываться в мир. Сколь бы ни был мир ужасен, художник не имеет права зажмуриться или бросить робкий взгляд искоса. Что бы ни было – лицом к лицу! Это профессия. Да, мертвец, уезжая на весах, поворачивал голову. Возможно, это мужество взгляда в упор, эта привычка, эта профессия не покинули художника и после смерти.
Как работает Някрошюс? На такие вопросы он не отвечает.
Прежде я думал, что он просто молчун. Типичный замкнутый литовец, не очень-то склонный откровенничать на неродном языке.
Теперь мне кажется, что он, возможно, и сам не знает ответа.
Как анализировать спектакли Някрошюса?.. А лучше спрошу: надо ли?
Его спектакли надо смотреть так, как слушают музыку.
Заменят ли симфонию Моцарта ученые слова музыковеда? А тому, кто слышал музыку Моцарта, не очень-то нужны слова о ней.
В детстве интересовался: что внутри у чудесной игрушки? А результаты исследования бросали в помойное ведро. «Сломал – нечего плакать».
Жизнь каждого человека полна ритуалов. И речь даже не о свадьбах и похоронах. Ритуальны наши рукопожатия при встречах и прощаниях, ритуальна мимика (особенно улыбки). А что такое воздушный поцелуй? Приподнятая шляпа?
Някрошюс создает театральные ритуалы. Их не надо учить. Они сразу понятны. Как понятна музыка и тому, кто не знает нот и теории контрапункта.
Някрошюс молчалив.
Ритуалы молчаливы.
Молчаливы и спектакли Някрошюса.
Средняя двухактная пьеса – семьдесят-восемьде-сят страниц. Средний спектакль по такой пьесе идет два часа.
«Пиросмани…» идет больше двух часов. А текста – двадцать три страницы.
Спектакль Някрошюса по роману Чингиза Айтматова «… И дольше века длится день» идет четыре часа.
В романе четыреста страниц. В инсценировке – тридцать.
В спектакле создан мир.
…В мире была ночь, в ночи горел костер, слышались невнятные, совершенно неразборчивые голоса, какое-то бряканье; гармошка пела так далеко, что трудно было уловить мотив.
Но это, несомненно, был мир, ибо ничем не раздражал. Когда темно на сцене – это мешает смотреть, и уже привычно, что таким «верным» способом хотят или нечто скрыть, скажем фальшивую мимику актера, или же, напротив, нечто показать, скажем, какую-то «атмосферу». Ведь это так и называется – «создать атмосферу». И неразборчивые голоса – для «естественности». И далекие звуки – на деле тихая фонограмма из близких динамиков. И, наконец, самая отвратительная деталь «атмосферы» – электрокостер, заменивший повсеместно вентилятор с красными лоскутами, костер, чьи языки пламени дергаются столь же естественно, как неисправная лампа дневного света.
На полутемную сцену, бывает, злимся. А на настоящую ночь не злимся никогда. На сцене костер горел настоящий, запах дыма был настоящий. Звуки действительно доносились издалека, и было ясно: где-то там сидят люди, пьют, разговаривают. Звякает посуда… Нет, в звуке было еще что-то. А, понятно – брякают колокольцами овцы. И как только услыша-лось, что овцы, то сразу и увиделось, точнее, ощутилось: люди сидят на кошме, поджав ноги, в руках пиалы… Бескрайняя Азия была перед нами. Плоская, голая, бесконечная. Далекие звуки слышишь по-разному: в лесу они доносятся так, в городе – иначе. Здесь человеческий шумок еле долетал, не спотыкаясь, однако, ни о дома, ни о деревья. Гармошка все пиликала, и в какой-то миг мучительные попытки опознания сменились изумлением: «Сулико»? Что делает здесь эта грузинская песня? Но узнанная, она теперь каждой доносящейся нотой подтверждала себя:
Долго я томи-и-ился и страдал…
Где же ты, моя Сулико…[14]14
Потом эта песня оправдала свой «первый выход». Во втором акте появилась женщина, страшным голосом вскрикнула: «Плачьте все! Отец наш умер!» – это до азиатской пустыни дошла весть о смерти Сталина. И начались его местные партийные похороны. Председатель колхоза и чабаны подняли за ножки накрытый белой скатертью длинный стол «для заседаний» и скорбно опустив голову, пошли по кругу. А в динамиках гремела «Сулико», превратившаяся в рыдающий похоронный марш.
[Закрыть]
Вот появился человек. Слегка косолапя, чуть прихрамывая, опираясь на железную стучащую палку – кусок дюймовой трубы, он деловито шлепал чёботами, бормотал что-то себе под нос, сокрушался о чем-то.
По затерянному в необозримых равнинах разъезду Боранлы-Буранный бродит путевой обходчик Едигей, осматривая и проверяя свое хозяйство. А хромота осталась, видно, с войны. Даже не хромота, а приволакивание. Левой шагнет, правую подтащит; ходит, стучит железной палкой… Потом стал ведрами воду носить в бочку. Притащит два ведра, разом вскинет на край бочки и разом же выльет воду из обоих – сноровисто.
И все это – ночь, звуки, вода, костер, деловитый хромой – было до того настоящее, что когда свет впервые упал на лицо Едигея – странно стало, с недоумением отметилось: узкое лицо. Вместо уверенно ожидаемого широкого узкоглазого казахского лица – вдруг – лицо литовца. И с этого момента Някрошюс совсем отбросил заботу о натуралистическом подобии, как бы решив, что раз мы увидели «не то» лицо, то можно откровенно стать театром. Но мы уже были околдованы правдой, сложившейся из запахов и звуков, из льющейся в бочку воды и языков огня, из походки и бормотания Едигея, и готовы были принимать всё, лишь бы не нарушалось, не разрушалось волшебство возникшего мира – мира, о котором мы прежде читали в книге, а теперь увидели во плоти: вот он, Боранлы-Буранный, вот он, Едигей.
О чем спектакль? О жизни человека. О памяти, без которой человека нет. Роман всем известен. Пересказывать сюжет нет смысла.[15]15
Тогда этот роман читали все. Сегодня…
[Закрыть]
В романе важное место занимает верблюд Каранар. Огромный, буйный и символичный. Как конь Гюльсары, как мифическая Мать-олениха.[16]16
И эти животные, и эти романы – «Прощай, Гюльсары» и «Белый пароход» – исчезли, а жаль.
[Закрыть]
В романе есть и ракеты, авианосцы, центры слежения, международные совещания – все, что на сцене показать куда легче, чем одного верблюда. Мигающие пульты, телеэкраны, радиоголоса – весь этот легкодоступный антураж Някрошюс не показывает.
А верблюда – показывает! Да как! Каранар у Ня-крошюса – еще одно доказательство волшебного могущества театра.
Можно, конечно, описать, как четыре человека с толстой разлохмаченной веревкой изображают верблюда. Но опять получится «журчанье ручейка в анданте» – пустые слова. А верблюд живой. Пьет воду, бунтует, утешает Едигея, даже имеет «выражение лица». Не то что тоскливые ходячие зоосадовские чучела.
Упрямство, упорство – без этих строптивых верблюжьих качеств не возникли б его спектакли. На каждый уходил чуть ли не год.
Слишком объемны. Слишком немногословны. Молчаливы.
Чем меньше слов в произведении, тем труднее его описать.
Някрошюс переводит текст на язык сцены. Он творит на сцене живой и объемный мир.
А текст отбрасывает, как выжатый тюбик краски.
Кричат, обвиняют (надо же в чем-то обвинять) в пренебрежении к слову. Но разве он ставит для слепых? Разве мало в наших театрах «радиоспектаклей», где все с выражением произносят заученный текст и «для оживляжа» переходят на деревянных ногах от стола к дивану? Закрой глаза – ничего не потеряешь.
Что ж, похвалим артистов за «бережное отношение к тексту» и, пожалуй, останемся дома. Читать мы и сами умеем.
И опять – никого не уговариваю. Каждый волен решать сам. Для одних «Герника» Пикассо – воплощенный ужас войны, а дикая, немыслимая лампа в центре – предсказание атомной бомбы; для других – восьмиметровый формалистический выверт, а о войне в Испании надо читать в энциклопедии.
… В романе описаны Елизаров, Казангап. В спектакле их нет.
В романе авианосцы, космонавты, чужая галактика… На сцене ничего этого нет.
Я составил длинный список изъятий. Прочтешь – подумаешь: что же осталось от романа? Остался дух. Осталась идея, которую Някрошюс сумел выразить ярче и сильнее, чем книга.
…Надо хоронить старого друга. Убитый горем Едигей вгоняет гвозди в кусок доски. Что он сколачивает? – непонятно. Он вбивает и вбивает гвозди, изредка смахивая мешающие работе слезы. А потом Казангапа уложат в гроб… Нет, это не гроб – это, скорее, некий скелет гроба, связанный из прутьев и палочек. Ну, конечно! – это же пустыня, тут и кустарник – редкость! И не Казангап. В гроб кладут – мундир железнодорожника. В скелет гроба – оболочку с блестящими пуговицами. Ну, конечно! ведь Казангапа нет, умер. А что осталось? – вот это и осталось от долгой честной жизни: казенная фуражка, китель… И процессия тронулась, и вместо подушек с орденами за гробом несли два страшных башмака. Тяжеленные, разбитые, грубые башмаки путейца. А впереди странная доска со сверкающими цифрами: 1901–1979. А, понятно – это даты жизни… Но почему так колюче сверкают? Это – гвозди! Вбитые один к одному, гвозди прошили доску насквозь, и их острия жуткой железной щетиной образовали цифры.








