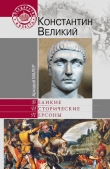Текст книги "Русская идея от Николая I до путина. Книга II - 1917-1990"
Автор книги: Александр Янов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)

Э. Берлингуэр
И прежде всего о том, насколько изобретательно пытался он продать свои идеи – как массам, так и власти. До такой степени изобретательно, что, как мы опять же говорили, могло показаться: перед нами не один писатель, а два, поминутно перебивающих друг друга. Шиманова как идеолога масс мы уже слышали. Но вот вам второй Шиманов – заурядный советский агитпроповец, умеющий не хуже какого-нибудь Куняева жаловаться «родному Центральному комитету». Разница лишь в том, что донос Куняева имел целью всего лишь причинить либералам очередную пакость, тогда как Шиманов и в доносе преследует далеко идущие идейные цели. Речь о «Проекте законодательства СССР о народном образовании». Автор пытается убедить власть, что клика догматиков-антирели-гиозников составила его так, что он «принесет огромный вред Советскому государству и уронит в глазах прогрессивной мировой общественности авторитет коммунистической нравственности».
Проект должен быть отвергнут, продолжает Шиманов, «да не компрометируется наша Советская власть обвинением внасилии над свободой совести – и кого же? – не эксплуататоров. не помещиков и капиталистов, а советских трудящихся. Разве не признаком слабости явилась бы отмена известного ленинского положения о свободе как религиозной, так и антирелигиозной пропаганды? Здесь, я думаю, уместно будет вспомнить то тяжелое время, когда наше общество перед лицом наступавшего во всеоружии немецко-фашистского врага отказалось от обессиливавших его самораздираний и победило врага морально-политическим единством всего нашего советского народа. Это морально-политическое единство оказалось выше всех идеологических перегородок и явило собою несомненную, проверенную самой жизнью ценность, поступаться которой нам было бы преступно с государственной точки зрения. Морально-политическое единство всего советского народа нам надо крепить, а не разваливать посредством разжигания внутренних конфликтов в обществе, потому что на крутых поворотах истории нашему государству еще не раз придется столкнуться с опасностями нисколько не меньшими, чем опасность времен Великой Отечественной войны. Перед лицом совершенно реальной – и возрастающей – китайской угрозы нам нужно укреплять все здоровые силы общества, способные в трудную минуту прийти на помощь своему государству».
Больше нет, как видите, Шиманова – громокипящего пророка. Есть занудный партийный пропагандист, словно бы заимствовавший из передовицы «Правды» казенные пассажи об «известном ленинском положении», о «коммунистической нравственности» и «морально-политическом единстве советского народа». При всем том этот, второй Шиманов, прекрасно знает, чего он хочет (в данном случае свободы религиозной пропаганды) и с помощью чугунных пропагандистских блоков пытается внушить, на этот раз власти, а не массам, на понятном ей языке свою концепцию «трансформации» советской власти.
Он убеждает власть в надежности ее православных подданных, в том, что именно они, а не марксистские догматики, и есть те «здоровые силы» нации, которые в случае чего снова придут ей, власти, на помощь, как пришли во времена великой войны. Конечно, при условии, что она вернется к «известному ленинскому положению», не забудет о сталинском «морально-политическом единстве» и согласится на «мирное сосуществование» с православием. Подобно самой мощной в ту пору еврокоммунистической партии, итальянской, генсек которой Энрике Берлингуэр провозгласил тогда «исторический компромисс» с Ватиканом.
Маневр Берлингуэра
Но самое интересное здесь не столько даже в способности Шиманова к своего рода литературному раздвоению, сколько то, что в его лице «диссидентская правая» обрела свою политику. Начала говорить с властью на ее языке. Начала демонстрировать преимущества, которые она, власть, получит от союза с нею – против марксистских догматиков. Шиманов уже обвинял ИХ, марксистов, в подрыве репутации СССР «в глазах прогрессивной мировой общественности», в том, что они разжигают внутренние конфликты» в стране. Обвинял практически в антисоветизме.
Это вам не унтерпришибеевское «Письмо вождям» Солженицына, где им черным по белому предлагалось покончить идеологическим самоубийством. Шиманов предлагал власти вторую базу массовой поддержки, подчеркивая выгоду, которую она сможет получить, маневрируя между двумя конкурирующими силами – марксизмом и православием. И выгода казалась очевидной: зачем стоять на одной ноге, тем более уже ослабевшей и подгибающейся, когда можно стоять на двух? Берлингуэр не испугался такого маневра, способного привлечь на его сторону массы верующих, укрепив тем самым ветшающую на глазах привлекательность коммунизма. Россия теряет свое драгоценное духовное первородство, отдает его за чечевичную похлебку материального благополучия.
Таковы были стратегия и тактика Шиманова. Все зависело, так сказать, от потребителя. Массам он продавал стратегию «трансформации», где маячил в финале отгороженный от жидо-масонского Запада «православно-русский мир». Здесь нужны были высокая патетика и страстная проповедь. Власти он продавал тактику «трансформации», и здесь нужны были деловая проза и реклама. В его лице диссидентская правая научилась торговаться и шельмовать конкурентов. Иначе говоря, зря называли шимановцев «ультра» их бывшие союзники. Не воителями они были, а обыкновенными, пусть реакционными, политиками, предлагавшими власти более гибкую и эффективную тактику, более глубокую социальную базу, более широкое операционное поле для политического маневрирования. Вот, собственно, и все.
Мог ли Шиманов спасти империю?
Тут мы вступаем в область догадок и спекуляций. Доказательств нет никаких. Одна логика. Я исхожу из того, что, в принципе, Горбачев был прав: так жить дальше – без стратегии, без надежды, без будущего и во вражде с миром – нельзя было. Но это вовсе не означает, что брежневское безвременье непременно должно было разрешиться либеральным поворотом, гласностью и быстрым крушением империи. То, что произошло в России в эпоху Путина, свидетельствует как будто бы, что у империи еще были незадействованные резервы. Я имею в виду яростную ностальгию по сверхдержавности и бурлящую патриотическую истерию. И на этом имперско-«патриотическом» потенциале, совершенно не зависимом от советской власти, мог сыграть кто-нибудь, условно вроде Романова, тоже сравнительно молодого соперника Горбачева, вошедшего в Политбюро еще раньше него, как раз когда разворачивал свои идеи Шиманов (в 1976 году). И Шиманов подбрасывал ему козыри.
Самым больным, самым уязвимым местом власти был стремительно формировавшийся комплекс неполноценности. Советская империя все больше превращалась в оскандалившуюся коммунистическую утопию. Даже компартии – и на Западе (итальянская) и на Востоке (китайская), и в самой империи (венгерская) – последовательно отбрасывали все, что было специфически русского в их практике и доктрине. СССР, конечно, продолжал быть сверхдержавой с пятимиллионной армией, но интеллектуально пустой, идейно нищей, как Россия времен Александра III. Он еще вторгнется в Афганистан – и застрянет там на десятилетие, словно бы демонстрируя тщету своей сверхдержавности. Все это могло стать козырями в руках условного Романова. Но не стало.
Теоретически из этой ситуации могли быть два выхода – горбачевский (либерализация и гласность, в конечном счете неминуемо ведущие к превращению России а полуевропейскую страну, какой она была до 1917 года) и «патриотически-имперский» (трансформация советской власти, по Шиманову, в конечном счете ведущая к провозглашению «православнорусского мира», – а поскольку русские жили во всех без исключения республиках СССР, то с сохранением империи).
Всю восточноевропейскую периферию империи можно было отпустить на волю, символ ее, Берлинскую стену, разрушить, из Афганистана войска вывести, советские ракеты средней дальности и спровоцированную ими угрозу натовских «Першингов» в двух часах лета от Москвы из европейской части России убрать или, лучше по соглашению с НАТО, уничтожить, от коммунизма официально отказаться – и на этом объявить холодную войну с Западом законченной. В тогдашней ситуации Запад с большим вероятием это устроило бы. Невозможно сказать, устроило ли бы это Украину, Закавказье и Прибалтику, но, имея в виду, что никакой гласности не было бы и СМИ оставались бы под жестким контролем чекистской власти, сопротивление этой антилиберальной Перестройке едва ли довело бы империю до распада.
Для успеха такой Шимановской версии трансформации советской власти понадобилось бы, однако, объединение под ее знаменем всех националистических сил страны и дружная поддержка СВОЕГО кандидата в Политбюро. Но прежде всего понадобилось бы шимановское прозрение приближающейся катастрофы. Не случайно ведь проиграли националисты 1917 год. Как и тогда ни прозрение, ни объединение под одним знаменем (в нашем случае, под знаменем Шиманова) оказались в 1980-е невозможны. Неспособны на это националисты.
В заключение маленькая иллюстрация ко всему сказанному. Николай Митрохин пишет о Шиманове: «В приличные компании (дом И. Глазунова, собрания молодогвардейцев) его не пускали, в том числе, вероятно, из-за ярко выраженной семитской внешности». Что до «семитской внешности», я ничего подобного не заметил, впрочем, у меня, в отличие то националистов. глаз ненаметанный. Но то, что Шиманова даже не пускали в «приличные» компании, говорит о тогдашней ситуации в националистической среде, пожалуй, больше иных томов.
Глава 18
РУССКАЯ ИДЕЯ ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ
Вопреки уверению Гоголя, что Россия, как «птица-тройка», несется, подобно вихрю, неизвестно куда, впечатление такое, что русская история XIX столетия тащилась, можно сказать, на волах. И куда именно тащилась она, мы тоже теперь знаем: к крушению петровской империи. Во всяком случае славянофильству, тогдашней ее «идее-гегемону» (см. «Лексикон Русской идеи» в первой книге Русской идеи), понадобились два поколения, чтобы выродиться из страстного протеста против «душевредного деспотизма» в его апологию. Лишь в третьем поколении, много десятилетий спустся, опустилось оно до уровня черносотенства. В XX веке русскому национализму понадобилось для аналогичного путешествия – от ВСХСОН до «Памяти» – каких-нибудь двадцать лет.
И вообще со славянофильством, как мы видели в первой книге, все было куда сложнее. Конечно, внимательный наблюдатель мог бы уже в 1880-е предсказать с большой степенью вероятия, что доктрина, проповедовавшая духовное возвращение в допетровскую Московию, вернется к началу следующего века в Московию и политически. Уподобится, то есть, чему-то вроде стрельцов конца XVII столетия, единодушно поднявшихся против петровских реформ из-за того, что «идут к Москве немцы, последуя брадобритию и табаку, во всесовершенное благочестия ниспровержение».
Знаем мы теперь и то, что наблюдатель такой нашелся и даже оставил нам забытую нынче «лестницу Соловьева», с замечательной точностью предсказавшую, чем это все кончится. Но нет, не заметили тогда, – как, впрочем, и после – эту роковую «лестницу». Разве что Константин Леонтьев, назвавший Владимира Сергеевича за нее «сатаною», хоть и заметил на челе его «печать гения». Так на то же и был Леонтьев, по словам Петра Струве, «самым острым умом России XIX века».
По сути, разворачивался тогда перед глазами Соловьева своего рода исторический эксперимент и подтверждение его гипотезы обещало, помимо всего прочего, выдающийся академический результат. Увы, само представление об историческом эксперименте как стратегии политического исследования возникло лишь столетие спустя и лишь на Западе (я имею в виду обсуждение статьи Дэвида Сингера «Historical Experiment as a Research Strategy» в 1974 году. Соловьев, увы, даже упомянут в ней не был).
Так или иначе, русский национализм XX века, как мы уже говорили, прошел всю «лестницу» Соловьева, от идеализма ВСХСОН в 1960-е до черносотенства 1980-х с головокружительной быстротой. Вот как описывал результат анонимный самиздатский автор в августе 1983-го: «В последнее время на улицах, в скверах и парках многих советских городов все чаще можно встретить компании молодых людей, одежда, речь и поведение которых до странности напоминают печально известные образцы Германии 1920-х, включая полуфабричным способом изготовленные брелоки со свастикой. В прошлом году москвичи уже стали свидетелями попытки фашистской демонстрации у памятника Пушкину 20 апреля – в день рождения Гитлера. В нынешнем году за несколько дней до этой даты директоров средних школ собирали специально для инструктажа на случай возможных выступлений «фашиствующих элементов из числа несознательных групп молодежи».
И, действительно, 20 апреля в ряде городов были зафиксированы такие выступления… Участники этих акций – главным образом студенческая и рабочая молодежь, старшеклассники, учащиеся профессионально-технических училищ».
Это могло бы показаться преувеличением, если бы Евгений Евтушенко впервые не предал гласности явление русского фашизма в сентябрьской книжке «Нового мира» за 1985 год, где, описав в стихах те же факты, что и самиздатский автор, заключил их горестным вопросом:
Как случиться могло, чтобы эти, как мы говорим, единицы, Уродились в стране двадцати миллионов и больше теней? Что позволило им, а верней, помогло появиться, Что позволило им ухватиться за свастику в ней?
Тем временем в эмиграции
По странному совпадению тот же вопрос и в то же время задавал себе другой наблюдатель (Я. Костин) – в Нью-Йорке, описывая возникновение черносотенного издательства «Русский клич», поставившего себе целью публикацию «редких книг, физически уничтоженных и в СССР, и на Западе». За короткий срок (начиная с 1982-го, т. е. с того самого года, когда прошла первая фашистская демонстрация в Москве), «Русский клич» издал 87 таких книг, начиная с Гитлера и Розенберга и кончая «Протоколами сионских мудрецов» и «Программой Союза русского народа».
Издатель, некто Николай Тетенов. разъяснял, что «ценность этих книг заключается в разоблачении ИСТИННЫХ врагов нашего народа, а так же является пособием для формирования духовного и национального сознания». И просил всех, «кто любит наш многострадальный народ» посылать в СССР «с туристами, моряками и даже обычной почтой книги, которые дают ясное представление, что произошло с Россией и в какое болото разврата и вырождения катится западный мир».
В дополнение тот же издатель основал журнал «Русское самосознание», где объяснял читателям, что «семиты погубили нашу родину и только антисемитизм спасет ее. Отвращение к жидам заложено в нас самим Господом. Антисемитизм – святое чувство, тот, кто заглушает его в себе, не только грешит, но и губит как себя, так и свою страну».
Как и московские черносотенцы, Тетенов не оставлял ни малейшего сомнения в том, на чьей стороне были его симпатии во Второй мировой. «Что касается Гитлера, то именно он поднял Германию из голода, из разрухи, ликвидировал безработицу, обеспечил своему народу высокий уровень жизни, а хищникам-евреям указал на дверь», тогда как «Запад с правами человека уже сейчас с помощью наркотиков, сексуальных извращений, рекламы и поп-музыки превратил свой народ в безвольную массу потребителей, годную в историческом плане разве что для удобрений».
«Руситы»
Как объяснить одновременное выступление на сцену черносотенства и в Москве, и в эмиграции (где оно тоже выглядело неслыханно со времен позорной капитуляции фашизма в 1945-м)? У Евтушенко, как и у его нью-йоркского единомышленника, конечно, нет ответа на этот вопрос. Им делает честь то, что они публично его задали.
Американский журналист Дэвид Шиплер, живший в Москве с 1975-го по 79-й, понял силу выродившейся Русской идеи (которую он называл «руситством») и иллюстрировал ее беседой с немолодым советским писателем. «Националистическое движение, – сказал ему тот, – единственное массовое движение в стране. Эти люди верят, что государство, церковь и нация – одно, и это очень опасный миф». Разговор происходил, обратите внимание, почти полвека назад, впереди были эпоха гласности и демократическая конституция, которые представляются при таком раскладе сил чем-то невероятным, почти марсианским. Но как живучи эти стереотипы! Право же, я не удивлюсь, если такой же разговор происходит и сегодня, в 2014 году, между каким-нибудь американским корреспондентом и либеральным писателем. Но это так, замечание в сторону.
Вернемся к Шиплеру. Когда разговор коснулся будущего «руситов», писатель попросил не упоминать его имени: их он боялся больше, чем партии и КГБ: «Нами управляют сытые волки, а это – волки голодные». Объяснение самого Шиплера столь же стеротипно и столь же знакомо: «Потенциальная сила руситства. апостолом которого является Солженицын, лежит в совпадении самых мощных импульсов политической иерархии и народа. Разделяя преданность советскому коммунизму и политическое единодушие, оно также нащупывает глубочайшие русские истоки подчинения власти и обнаруживает такое физиологическое отвращение к плюрализму, что либеральные диссиденты боятся: руситы у власти были бы даже страшнее коммунистов».
Как и большинство западных интеллектуалов, сталкивающихся с русским национализмом, Шиплер апеллирует к «глубочайшим русским истокам» произвола, к фундаментальным стереотипам политической культуры. Но даже будь они верны, стереотипы эти статичны, на то они и фундаментальные. Они должны существовать ВСЕГДА, а не время от времен. И поэтому просто не могут объяснить странную динамику русской политической системы. Нет, я не стану ссылаться на очевидные примеры, на то, например, что, вопреки ожиданиям, победили в 1990-е коммунизм не могущественные, якобы, националисты («единственное массовое движение в стране», как слышали мы от собеседников Шиплера), но безнадежно слабые, как все они были уверены, русско/европейские либералы.
Напротив, сошлюсь на случай совсем уже темный, о котором едва ли слышал когда-нибудь читатель, на царствование Василия Шуйского. Происходило оно во времена после знаменитого Ивана IV, по всем статьям, казалось бы, воплощавшего те самые предполагаемые фундаментальные черты русской политической культуры, о которых писал Шиплер: подчинения власти требовал царь беспрекословного, за «плюрализм» казнил безжалостно – все поголовно семейство виноватого. Полюбил ли его, однако, за это народ? Об этом мы можем вполне компетентно судить по тому, что сделал Шуйский в первый же день своего царствования, 19 мая 1606 года.
А сделал он вот что: поклялся в соборной церкви Пречи-стыя Богородицы: «Целую я всей земле крест, что мне ни над кем ничего не делати без Собора никакова дурна; и есть ли отец виновен, то над сыном ничего не делати, а есть ли сын виноват и отцу никакова дурна не сделати». Достаточно вспомнить известный «Синодик» царя Ивана, пестрящий записями: «Помяни, Господи, душу такого-то, казненного “исматерью, изженою, и ссыном и сдочерью”», чтобы стало ясно, что именно обещал своему народу новый царь. Он не намерен был продолжать политику Грозного, он публично, торжественно от нее отрекался.
Конец террора, личную безопасность – вот что он обещал. Перед нами, если хотите, средневековый аналог речи Хрущева на XX съезде КПСС – деиванизация. Но Шуйский шел дальше. В крестоцеловальной записи, разосланной по всем городам русской земли, обещал он и безопасность собственности («животов») всех без различия сословий: «Мне, Великому Государю. вотчин, и дворов, и животов у братьи и у жен и у детей не отымати… Так же и у гостей и у торговых и черных людей дворов и лавок и животов не отымати… Да и доводов ложных мне, Великому Государю не слушати, а ставить с очей на очи, чтобы в том православное хрестьянство не гибло».
Конец доносам, конфискациям, массовым грабежам, казням без суда и следствия, конец произволу – вот что означала деиванизация. Именно это и имел в виду Ключевский, когда писал: «Воцарение князя Василия составило эпоху в нашей политической истории. Вступая на престол, он ограничил свою власть». И куда, спрашивается, девались тогда «глубочайшие русские истоки» произвола? Делал ведь все это Шуйский не потому, что был человеколюбцем. Делал потому, что именно этого ждал от него народ, «вся земля», которой он присягал. Потому, что не сделай он этого, не удержался бы он на троне и дня.
И повторялась такая либерализация, если можно так выразиться о тех темных временах, начиная с Шуйского, регулярно – после каждой диктатуры! И после Петра она была, и после Павла I, и после Николая I, после всех диктаторов, одним словом, вплоть до Сталина. Что может это означать? Не то ли, что там, в «глубочайших русских истоках», гнездится, помимо инстинкта подчинения власти, и некий неумирающий либеральный импульс, непобедимое отвращение к произволу? Он-то, импульс-то этот, откуда в тех «глубочайших истоках» взялся?
Не стану, впрочем, повторяться, в приложении к первой книге «Зачем России Европа?» я уже попытался это довольно подробно объяснить.
С другого края пропасти
Нам повезло: мои оппоненты обрели собственного, можно сказать, официального историка. Книга С. В. Лебедева «Русские идеи и русское дело» хорошо издана и легко читается. Особенно порадовал меня подзаголовок «Национал-патриотическое движение в прошлом и настоящем». Главный вопрос, которому она посвящена, сформулирован на первой же странице: «Есть ли в стране силы, способные… вернуть России державное величие?». Мы еще не раз будем сверять свои идеи с этим своего рода взглядом с другого края разделяющей нас с Лебедевым пропасти. Да и читателю такое сравнение будет, надеюсь, полезно.
Но сейчас, естественно, интересует нас то, как объясняет автор, что именно в начале 1980-х Русская идея вышла на улицу, другими словами, внезапное явление на советской политической сцене черносотенства. Надо сказать, что к самому этому феномену автор относится в высшей степени положительно, лозунги первой его ипостаси (1905–1917 годов) «Россия для русских» и «Бей жидов, спасай Россию!» подробно обосновывает и оправдывает, возникновение черносотенства связывает с угрозой утраты сакрального характера власти: «Когда власть в России теряет свой сакральный характер, то государство стремительно рушится». Смысл черносотенства был, следовательно, в том, чтобы не допустить этой роковой утраты.
В 1905 году Россия оставалась единственной великой державой, где власть еще считалась сакральной (во всяком случае частью ее населения). История, совершенно очевидно, не благоприятствовала черносотенству. Проще говоря, оно было обречено. И ничего не меняют в этом ни уверенность автора в том, что «если какие-нибудь партии в тогдашней России и можно было назвать всенародными, то это могли быть лишь черносотенцы», ни длинный список знаменитостей, которых он к к ним причисляет.
Важно нам во всем этом не столько даже то, что на первых же всеобщих (и свободных) выборах в Государственную Думу фавориты потерпели сокрушительное поражение (их депутатов там не было, иначе говоря, народ России проголосовал против них и, представьте себе, за либералов: абсолютное большинство в первой Думе досталось кадетам), сколько полная неприменимость его критерия к брежневской России. Возрождение черносотенства в начале 1980-х никак нельзя было связать с утратой сакральности советской власти. Какая уж там сакральность у «коллективного руководства» безбожной партии?
Предложенное нами объяснение, что возрождение черносотенства связано (так же, как и его возникновение в 1905) со вступлением империи в зону экзистенционального кризиса, Лебедеву тоже не подходит. Никакого кризиса в СССР 1980-х он не видит. Напротив, как раз тогда, по его мнению, «советская система была крепка как никогда». Тем более, что «сверхдержавный статус страны вызывал чувство законной патриотической гордости», а «возникавшие социальные и экономические проблемы были вполне разрешимы в рамках системы».
Но позвольте, если… никакого кризиса не было, откуда же Перестройка? Подвело, по мнению автора, предательское стремление «советской партийной и хозяйственной номенклатуры, давно уже не верившей ни в какие идеалы коммунизма, завладеть той государственной собственностью, которой руководила». Или еще проще «предательство советской правящей верхушки». Тут возникает несколько вопросов сразу. Во-первых, если вся поголовно элита страны вдруг так коварно ее предала, то не свидетельствует ли это именно о том самом экзистенциональном кризисе империи, о котором мы говорили? О том, иначе говоря, что страна была заведена в тупик, из которого не было никакого выхода, кроме отказа от империи?
Во-вторых, если эта элита «давно не верила… в идеалы», то почему собралась она предавать страну именно в 1980-е? В-третьих, куда смотрел КГБ, который так доблестно расправлялся с диссидентами, не щадя и национал-патриотических, тогда как гнездо измены было у него под носом? От этого вопроса автор, впрочем, отделывается без труда: «КГБ был активным соучастником антигосударственных сил, рвущихся к власти в СССР». Ужас какой! Шабаш «антигосударственных сил», оперировавших на виду у всех! И никто, не исключая и автора, не замечал этого на протяжении десятилетий. Во всяком случае не слышали мы, чтобы он или кто-нибудь еще, кроме диссидентов, бил по этому поводу тревогу. Единодушно, небось, родной партии присягали, в верности до гроба клялись. И вот тебе, пожалуйста, что родная партия учудила.
Так или иначе, подсуетился при виде такой неожиданной удачи и Запад, для которого «расчленение и эксплуатация России была стратегической целью на протяжении веков». Ясное дело: для него предательство советской номенклатуры «означало исторический шанс разрушения исторической России» (читай: державы, империи). Тут и Горбачев пригодился. «Предал [сукин сын!} страну даже не за тридцать сребреников, а за медный ломаный грош».
* * *
На фоне этой кошмарной (но странной, согласитесь) оргии всеобщего предательства как-то подзабылось, что автор так и не дал нам ответа, почему вышло в начале 1980-х на улицу черносотенство. Мой ответ читатель уже в общих чертах знает. Так же, как в 1905, знаменовал его выход, что Российская империя вступила в зону экзистенционального кризиса. И что так же, как тогда, идейные закрома националистов оказались пусты: нечем им было окормлять массы. Особенно после того, как они отвергли свой последний – Шимановский – шанс. И не было на этот раз на сцене Ленина, способного собрать по кусочкам рассыпавшуюся державу. И потому последняя империя мира была обречена. Читателю осталось лишь сравнить два эти столь непохожие друг на друга объяснения
Глава 19
«ПАМЯТЬ»
Нетрудно догадаться, что начало Перестройки представлявшееся С. В Лебедеву сплошной оргией предательства великой державы, в глазах других, в частности, русских европейцев, как я их называю, выглядело совсем иначе. Андрей Сахаров, например, писал в статье «Неизбежность перестройки», что «наше общество оказалось тяжело больным». Дмитрий Фурман в статье «Наш путь к нормальной культуре» предостерегал: «Хотя наша болезнь, если ее не лечить, обязательно в конце концов приведет к смерти пациента и лечение необходимо, болезнь – привычна, а лечение не только трудно, но и рискованно». Леонид Баткин озаглавил свою статью «Возобновление истории», Вячеслав Иванов – «Воскрешаемая культура», Дмитрий Лихачев – «Тревоги совести».
Все это было собрано в два монументальных сборника: «Иного не дано» (1988) и «Назад пути нет» (1989). Их оказалось на удивление много, этих авторов, приветствовавших перестройку (тем более, что кого попало не приглашали, все люди с именами, известные ученые, профессионалы, одних экономистов – созвездие: акад. В. Немчинов, акад. В. Новожилов, акад. С. Шаталин, акад. Т. Заславская, акад. А. Аганбегян, акад. Н. Петраков, Е. Либерман, Н. Шмелев, Е. Ясин). 35 авторов в первом сборнике, 52 – во втором.
За этими двумя поспешали в том же 89-м еще два сборника: «Постижение» (34 автора) и «Осмыслить культ Сталина» (24 автора). Этот подарил мне, когда я вернулся в Москву, один из 24, Бенедикт Сарнов, с трогательной надписью: «В память о прошлом, с благодарностью настоящему и с надеждой на будущее». Так думали тогда люди. Так выглядела культурная элита страны. Решительно некого было национал-патриотам противопоставить этому ареопагу классных умов. Пусто оказалось в их рядах, хотя именно они годами готовились, говоря словами Лебедева, «перехватить власть у дряхлеющей КПСС и осуществить социальные и политические реформы, способствующие сохранению мощи державы».
О каких именно неосуществленных проектах национал-патриотических реформ речь, Лебедев, впрочем, умалчивает. Удивительно ли, если вспомнить, что единственным стремлением «системных» националистов в конце 1970-х была, как мы видели, всего лишь страсть к «ключевым постам» в существующей системе? В той самой, добавим, в которой держатели этих «ключевых постов», т. е. партийная элита страны, готовились вовсе не к реформам, а к повальному дезертирству с державного корабля. Такова, по крайней мере, версия национал-патриотической истории Перестройки.
И вот тут возникает действительно интересный вопрос: почему на выборах 1989 и 1990 годов «патриотические кандидаты, как признает Лебедев, потерпели сокрушительное поражение»? И хуже того, почему «в устах «просвещенной публики» слово “патриот” стало тогда ругательством»? Другими словами, почему, несмотря на «всенародный характер» национал-патриотического движения, повторился в 1989-90 годах постыдный результат выборов 1906 года: народ снова проголосовал против них? Должна ведь быть какая-то причина такого двойного фиаско?
Я понимаю, это трудный вопрос для историка национал-патриотизма. Знаем ведь мы, что объяснительная база для ответов на вопросы такого рода у этой отрасли знания узка. Сводится она, по сути, к трем возможным объяснениям провалов национал-патриотов: предательство элиты («шестая колонна», говоря языком Александра Дугина), жидо-масонский заговор и провокация Запада. Объясняя Перестройку, С. В. Лебедев сделал ударение, как мы видели, на первом из них. Но провал своих фаворитов на выборах, объяснил он совсем уже странным для серьезного историка, даже национал-патриотического направления, образом (все-таки коллега, профессионал, научный сотрудник Института русской цивилизации): он обвинил в этой неудаче, кого бы вы думали? «Память»!
Ту самую «Память», которой в середине 1980-х московские интеллигенты пугали детей? Ту, что высоко, на весь мир, подняла знамя «антисионизма» (который многие перепутали с фашизмом)? Ту, что, как метеор, осветила на мгновение гаснущее небо национал-патриотов? «Да, ее!» – бесстрашно отвечает историк. Он честно признается, правда, что не знает, кто вел ее тайными тропами провокации, выяснить это – задача будущих историков. Но тут же поправляется: «Не важно, кто именно “вел памятников” – КГБ, ЦРУ, Мосад, или все вместе, но дело было сделано». Мысль, действительно, новая. И, согласитесь, интригующая. Посмотрим, как сопрягается она с реальностью.