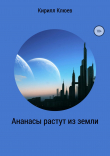Текст книги "Гоголь"
Автор книги: Александр Воронский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
«По мере того, как они стали открываться, чудным высшим внушение усиливалось во мне желание избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передать их моим героям… С этих пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью… Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего в начале для меня самого,он бы, точно, содрогнулся». Далее следует широко известный рассказ о том, как Пушкин, прослушав «Мертвые души» произнес с точкой: «Боже, как грустна наша Россия». «Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести „Мертвые души“».
Не опорочивая правдивости этого заявления, отметим, что в нем содержится попытка истолковать «Мертвые души», подобно «Ревизору», в аллегорическом смысле, как олицетворение личных страстей автора.
Ужас перед смертью, горькое сознание, что над человеком господствует «вещественность», что он измельчал, сделался рабом денег, моды, конкуренции, что в России царит лихоимство, неправда, и повсюду разоры, нарастание противоречий, – предчувствие перемен, переворотов, в которых швеи и ремесленники будут иметь руководящее значение, проповедь нравственного самоочищения, надежды на монарха-Христа, аскетизм, трезвые и дотошные советы кулака-хозяина-крепостника, сознание вины за прежние сочинения – вот сложное и отнюдь не химическое соединение мыслей, идей, чувств, определивших «Переписку с друзьями».
Гоголь по своему прав, отметив в письме Жуковскому, что его «Переписка» хотя и не является капитальным произведением литературы, но она может породить многие капитальные произведения. Он и в этом оказался пророком. От «Ревизора», «Мертвых душ» и «Шинели» пошла одна полоса в русской литературе: Достоевский – автор «Бедных людей», «Записок мертвого дома», петербургских повестей: Салтыков-Щедрин, Островский, Успенский. От «Переписки» пошла другая полоса: Достоевский и Толстой – проповедники, Страхов, Константин Леонтьев, Владимир Соловьев. Без преувеличения можно сказать, что у проповедников нравственного самооичщения не было ни одного положения, ни одной значительной мысли, каких мы не встретили бы у Гоголя, хотя бы в зачаточном виде. Волынский приводил отзыв Л. Н. Толстого о «Переписке с друзьями»:
«Перечел я книгу в третий раз… Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня сильное впечатление. Гоголь много сказал в своих письмах, но пошлость, им обличенная, закричала: „Он – сумасшедший!“ И Гоголь, наш Паскаль, – лежит под спудом. Пошлость господствует, и я всеми силами стараюсь сказать то же, что сказано Гоголем» [28]28
«Северный вестник», 1893 год, N 1.
[Закрыть].
Мы найдем у Гоголя призывы к упрощению, к физическому земледельческому труду. Предчувствия катастроф Достоевским, Соловьевым, Розановым, Белым тоже от Гоголя. Гоголь несомненно более реакционный мыслитель, чем Достоевский и Толстой, но у него есть и крупное преимущество. Это преимущество в его исключительной гражданственности. Для Толстого «душевное дело» диктуется потребностью найти смысл личнойжизни. Он – моралист. Для него мораль имеет самодовлеющее значение. Достоевсого занимают высшие суверенные права человеческой личности. Для обоих душевное усовершенствование дело по-преимуществу личное, а потом уже гражданское. Гоголь, наоборот, в первую очередь гражданин. Его прежде всего беспокоит участь России, Европы, века, мира. «Душевное дело» для него средство, а не самоцель. Отсюда такая социальная насыщенность всего того, что он писал, какой нет ни у Толстого, ни у Достоевского, хотя и у них она чрезвычайно сильна.
И еще в одном есть преимущество у Гоголя пред своими позднейшими учениками: нигде ни у кого с такой осязательностью не обнажаются темные, классовые корни «душевного дела», с какой они обнажаются Гоголем в его «Переписке». У Достоевского, у Толстого эти корни часто глубоко скрыты. У Гоголя они совершенно на виду. В этом смысле «Переписка» является единственным литературным документом. Здесь «небесное», аскетическое, мистическое, прямо и непосредственно связывается с земным, с хозяйственным; необыкновенно отчетливо показано, как страх перед революциями, перед общественными битвами, боязнь портных и мастеровых, распад старинного крепостного уклада заставляют обращаться к мистическому христианству, к проповеди: «царствие божие внутри вас есть».
«Переписка с друзьями» являлась последовательным выводом из внутренних потрясений, пережитых Гоголем за последние годы. Но «душевное дело» его было известно лишь немногим его друзьям. Для большинства читателей Гоголя новая книга его явилась крайне мрачной неожиданностью. В передовых кругах она вызвала бурю негодования. Белинский ответил на нее страстным открытым письмом. Герцен назвал это письмо гениальным.
Письмо Белинского распространялось подпольно и только в 1905 году было напечатано открыто. На нем воспитывались революционные поколения.
Белинский подошел к «Переписке», как боец-просветитель. Он нашел в ней попытку защитить и осветить именем Христа крепостное право и николаевские порядки.
«Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия, – писал он Гоголю, – о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях, дикой радости, которые издали при появлении ее враги наши, – и не литературные Чичиковы, Ноздревы, городничие и т. д. – и литературные, которых имена хорошо вам известны».
В то время, как Россия представляет собою «ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми» – является великий писатель с книгой, в «которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше».
«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскуратизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете! Взгляните себе под ноги, – ведь вы стоите над бездною». «По вашему, русский народ самый религиозный в мире – ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благовение, страх божий. А русский человек произносит имя божее, почесывая себе зад. Он говорит об образе: годится – молиться, а не годится – горшки покрывать? Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности».
«Не истинной христианского учения, а болезненной боязнью смерти, чорта и ада веет от вашей книги…»
В письме Белинского дрожит и трепещет гневом каждое слово. Это от лица революционных разночинцев. Если «Переписка» определила собою линию «душевного дела» Достоевского, Толстого, то письмо Белинского наметило поведение Чернышевского, Добролюбова, Писарева, «кухаркиных детей», бурсаков, всех, кто полагал, что «душа» определяется общественными порядками, что развитию ее мешает крепостничество, самодержавие, имущественное неравенство и что всему этому надо объявить борьбу не на живот, а на смерть. Письмо Белинского являлось линией крестьянской революции, направленной против попыток с помощью религии оправдать и поддержать царский строй.
Белинский не вскрыл трагедии Гоголя, не показал, каким образом случилось, что гениальный писатель, творец социального романа в России, отрекался от своих лучших произведений и цеплялся за худшее мракобесие. Не заметил Белинский и того, что шло в «Переписке» от Гоголя-художника с его ясновидением: указаний на пошлость, пустоту, мертвенность, мелочность всего окружающего, на непрочность и переходность этой действительности. Увлеченный обличением Белинский не подчеркнул, не углубил и не объяснил со своейточки зрения то отрицательное, что увидел на западе Гоголь и что следовало выделить из «Переписки».
От упреков, будто Гоголь сознательнои гнусно приспособляется к самодержавию, освободил художника еще Чернышевский. Вообще же письмо Белинского еще раз и в необыкновенно яркой форме показывало, насколько вперед ушло тогда еще незначительное крыло революционных разночинцев в своем общественно-политическом самоопределении и насколько оно опередило в этом так называемое передовое русское «общество», то есть либеральные дворянские круги.
Гоголь ответил Белинскому коротким письмом в духе христианского смирения, сквозь которое проступают следы крайней угнетенности и раздражения:
«Душа моя изнемогла, все во мне потрясено…»
«Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды».
Но вместе с тем: «Как я слишком усредоточилсяв себе, так вы слишком разбросались.
…Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного…»
Сохранился еще черновик другого письма; его Гоголь написал сначала, но не послал. Оно составлено совсем в другом духе, более непосредственно и ядовито. Христианского смирения в нем мало. Гоголь уверяет, что Белинский, якобы, получил легкое журнальное образование, занят писанием фельетонных статеек и даже не окончил университетского курса. Не ему говорить о церкви, о Христе, о русском народе. Задача «Переписки» в том и состояла, чтобы «остановить несколько пылких голов, готовых закружиться и потеряться в этом омуте и беспорядке».
«Многие, видя, что общество идет дурной дорогой… думают что преобразованиями и реформами… можно поправить мир». Мечты! « Общество образуется, само собой слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою. Пускай вспомнит человек, что он вовсе не материальная скотина, а высокий гражданин небесного гражданства».
Это место в черновом письме очень ценное: оно со всей ясностью обнаруживает, в чем заключалась основная теоретическая ошибка Гоголя. Общество представлялось ему простым, механическим собранием единиц, подобно гороху в мешке. Гоголь не видел, что общество – сложнейший организм; люди в обществе – единицы, но единицы, связанные производственными, имущественными, правовыми и другими отношениями, совокупность их образует общественного человека; вне этих отношений «единица» – худшая абстракция, чем Робинзон, потому что и Робинзон родился и воспитывался в определенной общественной среде.
Если общество механически слагается из единиц, общественные отношения тем самым естественно выпадают и все дело, следовательно, сводится не к этим отношениям, а к единице. Очевидно, надо исправить эту единицу, и тогда все остальное приложиться.
К этим и подобным рассуждениям Гоголь прибавил выпады против красных фаланстеров, против коммунистов и социалистов.
Любопытен отклик на «Переписку» Чаадаева. В неудаче книги Чаадаев обвинял не столько Гоголя, сколько его неумеренных поклонников: им надо было во что бы то ни стало возвеличить скромную Россию перед всеми народами. Для этого им потребуется свой Данте, Шекспир, Гомер. В Гоголе они нашли простодушного поэта, впрочем, не лишенного гордости, спесивости и даже цинизма, готового стать таким русским Гомером.
Чаадаев имел в виду кружок славянофилов, но его отзыв должен быть отнесен в первую очередь к великосветским поклонникам Гоголя-проповедника.
Из славянофилов многие отнеслись к «Переписке» отрицательно. С. Т. Аксаков находил, что книга проникнута лестью и, под личиной смирения, – страшный гордостью ума. «Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас». Мистицизм Аксаков считал для Гоголя гибельным. Шевырев, хотя и напечатал хвалебный разбор «Переписки», но делал это, видимо, из кружковых славянофильских интересов, причисляя Гоголя к «своим». В письме же своем он указал Гоголю, что тот вводит в религию личное начало и видит в побочных обстоятельствах указания свыше, уподобляясь княгине Волконской. Все это было справедливо, но не пошло дальше личной переписки. Очень зло против Гоголя выступал писатель-новеллист Павлов, автор талантливых повестей.
Защищали «Переписку с друзьями» заведомые реакционеры: остроумный и мрачный Вигель, А. О. Смирнова, П. Вяземский, тогда уже более реакционно настроенный, чем в годы, когда вышел «Ревизор». Вигель заявлял:
«Не могу описать восторгов, с которыми смотрел на Гоголя! Я смеялся над теми, которые сравнивали его с Гомером. Теперь я каюсь в том… И что за мысли, и какая их выразительность! С фейерверком сравнить мало их! В них нечто молнии подобное!».
П. Вяземский, которого Белинский назвал князем в аристократии и холопом в литературе, нашел в книге Гоголя нужный и спасительный перелом: Гоголь в своих художественных произведениях «задевает за живое не одни наружные и противные болячки: нет, он проникает вглубьон выворачивает всю природу и не находит здорового места». От этого писателю надо скорее отказаться. Умница-реакционер верно понял, какие выводы следуют из «Мертвых душ», «Шинели» и других вещей Гоголя.
С хвалебной статьей по адресу «Переписки» выступил «начинающий» критик Апполон Григорьев. Статья была неудачная.
Общественно-политическая сторона «Переписки» заставляла забывать многие литературные высказывания Гоголя. Среди них есть мысли блестящие; даже и по ныне они заслуживают включения в хрестоматии и учебники. Статья «В чем же, наконец, существо русской поэзии» стоит многотомных критических трудов. Вот для примера, характеристика русского стиха:
«Этот металлический бронзовый стих Державина, этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина, этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова; сладостный как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы… – все они, точно, разнозвонные колокола, или бесчисленные клавиши одного великолепного органа разнесли благозвучие по Русской земле…»
Когда от нудных и скопидомских советов, как лучше разбогатеть помещику, как губернаторше подслушивать, что говорят кругом, обращаешься к этим и подобным страницам – как будто выходишь из склепа наружу, на солнечный свет.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, КОНЧИНА
В конце декабря 1846 года умер один из ближайших друзей Гоголя, поэт Языков. Смерть его не произвела на писателя, по его собственному признанию, «тревожных чувств печали». Происходило это отчасти потому, что мысли Николая Васильевича были слишком поглощены судьбою «Переписки». Беспокоили прежде всего цензурные неурядицы: из книги было выброшено много такого, чему Гоголь придавал очень важное значение. В письмах он с возмущением указывает, что от книги остался какой-то «странный обглодок». «С меня сдирают не только рубашку, но и самую кожу». Происходит «совершенная бестолковщина».
Гоголь лишается сна, болезненные припадки усиливаются. «Все, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко с божьей помощью и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы пред глазами зарезали любимейшее дитя – так мне тяжело бывает это цензурное убийство». (А. Смирновой, 1847 г. III, 365.)
Он обращается с мольбами к друзьям, чтобы они через сановных покровителей, через графа Виельгорского, князя Вяземского, Петровского добились включения в книгу запрещенных статей и мест.
Добиться этого не удается.
Книга вышла из печати. Гоголя беспокоит молчание друзей. Как встречена «Переписка»? Какие толки возбуждает она среди читателей, знакомых, среди критиков и литераторов? Отрезанный от России, больной, измученный нравственными потрясениями, одинокий, Гоголь с нетерпением ждет известий. Их все нет.
Приходят, наконец, первые известия. Почти повсюду «Переписку» встретили с негодованием. Правительству она кажется дерзкой и самонадеянной; почитатели Белинского считают ее изуверской, а автора чуть ли не лизоблюдом. Даже преданные Гоголю друзья, славянофилы, находя ее крайне неудачной, плутовской.
Гоголь кается: да, он впал в фальшивый тон, зарапортовался; в нем еще осталось много пороков, самонадеянности, честолюбия. Он поделом получил публичную оплеуху Жуковского, встретившего книгу неблагосклонно, он признается:
«Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу в нее заглянуть» (III, 398.)
Близкий к отчаянию, он пишет Аксакову:
«Ради самого Христа, войдите в мое положение, почувствуйте трудность его и скажите мне сами, как мне быть, как, о чем и что я могу теперь писать?.. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни бог всякого от этой страшной битвы с друзьями. Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог…». (1847 г. 10 июля.)
В своей «Авторской исповеди» Гоголь заявил:
«Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением».
Больше всего его возмущают нападки, будто он против народного просвещения: он всю жизнь только и думал о том, как бы написать полезную книгу для народа: ему только казалось, что надо прежде всего просветить тех, кто просвещает народ, то «мелкое сословие», ныне увеличивающееся, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем, за тем, чтобы жить насчет бедных.
Наряду с покаянными признаниями Гоголь думает, что книга его все же была нужна. Нужна она и ему самому: толки, разноречивые мнения помогают лучше узнать русское общество, а также и себя со всеми недостатками.
Он не изменял себе: от ранней юности шел он своею дорогой; дело его одно: окончание «Мертвых душ», хотя в письме к Шевыреву он готов сознаться, что в «Переписке» заметны следы его переходного состояния.
Настойчиво просит Гоголь друзей прислать ему печатные и устные отзывы о книге, не пренебрегая самыми ничтожными; но этим отзывам не будет оставлять себе представления о конкретных людях. Ему недостает свежих впечатлений, наблюдений, он ищет идеальных образов, хорошо в то же время понимая, что идеальные образы должны быть вполне жизненными:
« Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его тела взято». (III, 368.)
Он был заносчив; это – правда; но он это делал, чтобы «задрать за живое»: русского человека трудно раскачать, но в раздражении он многое может наговорить. К тому же его очень торопили друзья выступить в печати. Хотя Гоголь и утверждает, будто он стал проще, но приведенные объяснения кажутся надуманными и неискренними.
Между прочим, московский кружок славянофилов выразил недовольство выпадами Гоголя в «Переписке» против Погодина. Гоголь ответил: «Занятый другим более для меня тогда занимавшим я о ней (о статье с выпадами – А. В.) просто забыл». (III, 391.) На это Шевырев справедливо возразил: «Да разве о таких вещах забывают?». В письме к самому Погодину Гоголь утверждал: он не отвергал его достоинств, а только не упомянул о них; в заключение же просил Погодина утешиться: бывает еще хуже, когда судят нашу душу и приходиться выслушивать всякие упреки от самых близких друзей: «Это еще потяжелее, чем презренье от презренных людей». Будем почаще обращаться ко Христу, двери церковные всем открыты.
Читая эти советы и поучения, невольно вспоминаешь обвинения Гоголя со стороны некоторых его близких, что он был двуличный человек, лицемер и Тартюф; действительно в этих оправданиях – фальшь, хитрость, раздражительность, черствость к друзьям под личиной смирения и богобоязненности. Тартюфом Гоголь, однако, не являлся уже по одному тому, что он был гениальный художник; кроме того, он не шутил с идеями; но неискренности, честолюбия, а иногда и ханжества у него порою не занимать было стать. Вместе с подвижничеством, с огромным внутренним горением, с мучительными исканиями лучшего в себе и в жизни это слагалось в крайне причудливый и противоречивый характер. Сюда еще следует прибавить житейские советы прижимистого украинского помещика, на которые он по-прежнему не скупился в письмах к матери и к сестрам. Труднее всего дается простота, – утверждал Гоголь. Ее у него не было и, может быть, никогда еще за всю свою жизнь не раздирался он так сильно внутренними и внешними противоречиями, как в эти годы… «Но… что же делать, если и при этих пороках все-таки говорится о боге?» (III, 348.)
Несмотря на нападки, Гоголь продолжает упрашивать друзей усердно читать «Переписку» несколько раз в различные часы:
«Там есть некоторые душевные тайны, которые не вдруг постигаются и которые покуда приняты совсем в другом смысле». (III, 422.) Об этих тайнах Гоголь не устает напоминать.
Нельзя сказать, чтобы Николай Васильевич всегда и во всем отличался скрытостью. Иногда он умел быть и прямодушным. О своих друзьях он писал А. О. Смирновой: «Я на многих из них вовсе не надеялся и не называл их никогда своими друзьями: они себя считали моими друзьями, но не я их… Я видел с самого начала, что они способны залюбить не на живот, а насмерть». (Смирновой, III, 469–470.) Это очень зло.
Он пишет Аксакову:
«Я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависть, но любить кого-либо особенно, предпочтительно, я мог только из интереса». (IV, 115.)
Мытарства с «Перепиской», «публичная оплеуха», всеобщее недовольство, ярость Белинского, болезни, судорожные и мучительные поиски свежего материала для продолжения «Мертвых душ», неустроенность и бесприютность, тяжелая тоска, даже отчаяние не давали возможности вплотную заняться творческой работой. Свет зари не ложится на взволнованное море. Для занятия искусством требуется известная уравновешенность, спокойствие: только тогда приходит вдохновение. У Гоголя этой уравновешенности не было и в помине. Искусство все меньше и меньше являлось для него той областью, где он находил успокоение.
И вот уже в отдалении появляется зловещая черная фигура аскета, ржевского протоиерея о. Матвея Константинопольского. С ним Гоголя свел А. П. Толстой, будущий обер-прокурор святейшего синода. Между Гоголем и о. Матвеем завязывается переписка. Спасение Гоголя было в «милой чувствительности», в «прекрасной нашей земле». Его гений это видел: «Мое дело говорить живыми образами, а не рассуждениями, – пишет он Жуковскому. – Я должен выставить жизньлицом, а не трактовать о жизни». (IV, 193.) Православная церковь в лице о. Матвея отрезала Гоголю этот спасительный путь. Ржевский проторей обвинял создателя «Ревизора», что он любит больше театр, а не церковь; находил литературные занятия Николая Васильевича греховными, так как его привлекают слава и деньги. Гоголь робко оправдывался, но о. Матвей уже с самого начала добился значительных результатов. Гоголь заявил ему:
«Теперь я отлагаю все до времени и говорю вам, что долго ничего не издам в свет и всеми силами буду стараться узнать волю божию». Но убить Гоголя-художника, жадного до живой жизни, было нелегко. Он все еще пристально вглядывался в действительность. Между ним и Анненковым происходит обмен мнениями по поводу парижской и лондонской жизни. Гоголь советует пожить другу в Англии; нельзя ограничиваться изучением одного класса пролетариев, которое стало теперь модным; надо взглянуть на все классы. В Англии несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей «местами является такое разумное слитие того, что доставила человеку высшая гражданственностьс тем, что составляет первообразную патриархальность, что вы усомнитесь во многом»… (IV, 82.)
Это в высшей степени любопытное признание: выходит, что Гоголь не против высшей гражданственности; то есть, не против буржуазно-демократических форм правления; он считает только необходимым соединить эту гражданственность с патриархальностью и за образец берет Англию. Не бросает ли это место некоторого света на кое-какие «тайны» в «Переписке», о которых так упорно твердил Гоголь: английский политический строй, как известно, совмещает монархию с буржуазным парламентаризмом, причем король Англии «царствует, но не управляет». Рекомендуя русскому монарху «возрыдать», принять образ Христа и влиять на своих подданных нравственными средствами, не имел ли в виду Гоголь между всем этим, превращение русского самодержца в монарха на английский образец? Такому монарху только и остается, что воздействовать на народ нравственным путем и принимать в душу образ Христа. Этого ему никто не запрещал… Как бы то ни было, замечание об Англии показывает, что Гоголь доброжелательно относился к английским гражданским порядкам. Кстати: от Костанжогло веет тоже умеренной и рассудительной буржуазной Англией.
Продолжает Гоголь следить и за русской литературой. Его отзыв о молодом Тургеневе – отзыв провидца.
«Сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем замечательный и обещает большую деятельность в будущем». Он расспрашивает Анненкова о Герцене: «Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди всех партий отзываются как о благороднейшем человеке». (IV, 82–83.)
Гоголь еще не потерял чутья, но дух его помрачен. Все чаще и чаще пишет он друзьям и знакомым о своем желании поехать в Иерусалим; может быть, оттуда «понес бы я повсюду образ Христа» и тогда удалось бы не только изобразить то светлое и положительное, чего так недостает прежним произведениям, но и указать к святому и прекрасному непреложные и прямые пути. Может быть у гроба Христа он ощутит святость писателя. Сначала Гоголь уверен, что путешествие это принесет ему нужное духовное просветление, но перед отъездом эта уверенность его покидает:
«Признаюсь вам, – пишет он Смирновой, – молитвы мои так черствы». «В груди моей равнодушно и черство, и меня устрашает мысль о затруднениях», подтверждает он Шевыреву. Пугает море, качка, нет попутчиков, можно заболеть в дороге, помереть. Нет внутреннего желания. Все же ехать надо. «Не ехать же в Иерусалим как-то стало даже совестно». (IV, 107.) Слаба вера, слаб дух, но, может быть, каким-нибудь чудом оросится холодная душа. Не остывает чувство греховности:
«Литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи – здесь.» (Жуковскому, IV, 135.)
Столкновения между художником, влюбленным в милую чувствительность, в искусство, и христианином, который ищет бога, занят «душевным делом», делаются все более острыми, а признания, что он, писатель, не подготовлен к поездке, что молитвы – черствы, показывают: Гоголь насилует свою природу, не находя более жизненного выхода из своих противоречий.
Житейский мрак не рассеивался: «Многие удары так были чувствительны для всего рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив и как все это вынесло мое слабое тело». (Анненкову, IV, 48.)
Великой, безысходной грустью веет от признания Иванову:
«Ни на кого в мире нельзя возлагать надежды тому, у кого особенная дорога и путь, не похожий на путь других людей». (IV, 132.)
…В объяснение «Переписки с друзьями» в том же 1847 году Гоголь написал безыменную вещь, известную под именем «Авторской исповеди». Сначала он торопился ее напечатать, но потом отложил ее. В «Исповеди» Гоголь рассказывает свой путь писателя и человека, вскрывает мотивы своего творчества, его отличительные свойства. «Исповедь» является ценнейшим документом. Основная тема, которая занимает в ней Гоголя – расхождение художественного содержания его произведений с их истолкованием, Гоголь рассказывает:
«На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала».
Вопросы – зачем, для чего усилились под влиянием Пушкина и более зрелого возраста.
«Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно…»
«Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего. В „Ревизоре“ я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие требуется от человека справедливости и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть…» «После „Ревизора“ я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочинения полного, что было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет „Мертвых душ“ хорош для меня… Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой…
…Все у меня выходило натянуто, насильно и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.
…Я ясно увидел, что больше не могу писать без плана…»
Гоголь убедился, что автор, «творя творение свое… исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю»…
Обдумывая сочинение, Николай Васильевич пришел к выводу, что надо взять характеры, на которых «заметней и глубже отпечатлелись истинно-русские коренные свойства наши, высшие свойства русской природы». «Нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу».
Утверждение Гоголя, что он в начале своей писательской деятельности не задумывался, надо понимать как уже выше отмечалось, с большими ограничениями: Гоголь имеет в виду пользу христианскую. Вопросы религиозно-нравственного характера встали пред ним не потому, что в его произведениях не было смысла, а потому, что они, согласно меткому замечанию П.Вяземского, задирали не одни наружные болячки, а проникать «внутрь» человеческой души.
Признания Гоголя поучительны во многих отношениях между прочим, также и в том, что в них содержатся указания на магические истокиего художественного творчества. Было в Гоголе нечто древнее православия и христианства, нечто от магов, волшебников и колдунов. Стараясь подавить в себе тоску и собственные «гадости», Гоголь придумывал смешное и создавал «страшилища»; при этом он верил в какое-то особое, как бы живое существование созданных им образов и характеров. Они брали у него, а также и у других людей часть страстей, чувств и мыслей. Но все это свойственно и магическому мышлению: магически настроенный древний человек тоже верил, что изображая, например, на рисунке себя или кого-нибудь из окружающих его людей, он тем самым передает ему часть души. Само собою понятно, что у Гоголя эта вера трансформировалась и приняла более психологически-естественный вид.