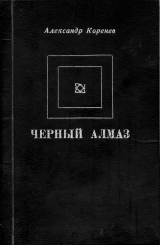
Текст книги "Черный алмаз"
Автор книги: Александр Коренев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
УТРО
В 6 и 7
Тревогу жизни по боку,
К встрече с чудом
Лечу сейчас,
Жесть на элеронах подоконника
От луча косого горяча.
Вместе с солнцем,
И сквозь фортку дунувшей
Свежестью, откуда-то с реки,
По утрам все люди – юноши,
К вечеру все люди – старики.
Взнесся
реактивный с ревом!
Как полоска его легка,
Сушатся на его веревке
Прополосканные облака...
Сияй! Каскадами огня оранжевого
На нас, с небес,
Обрушиваясь и лья...
Есть в утре
свежесть только что отглаженного
С морозу полотняного белья.
САГА
Зверю надо падали и логова.
Птице надо по небу кружить.
Ну а человеку разве много
Надобно от жизни?
Только жить!
Прямо в жизни – а не на бумаге —
Правды надо. Друга на пути.
Надо распахнуть
ему,
бродяге,
Душу —
как рубаху на груди.
Чтобы реял голос неиспетый,
Чтобы волос реками пропах,
Чтоб
не пропадала
к жизни этой
Сволочная проголодь в зубах!
Кубометра почвы надо явору,
А у человека путь далек.
Всех колдобин
надо ему, дьяволу,
Всех
росой обрызганных
дорог.
Хлеба счастья
черного, простого —
Не огрызки, не сшибать куски —
Да нарзан
морозного
простора
В глотку лить,
как в жадные пески.
Чтобы жить
ухватисто и броско,
И любя работу и гульбу,
Так ломать,
как гвоздь вгоняют в доску,
Всю свою угластую судьбу!
В ОКЕАН
Когда берет
На Бога,
на испуг —
За горло – в оборот —
беда, неистова,
Не забивайся в угол, друг,
Не укрывайся в дом —
беги ты из дому.
В любви развал или насмарку труд —
Обратно, в тихую обитель быта,
Не лезь – затравленно —
как зверь в нору.
Скуля, вползает с лапой перебитой.
А ты иди!.. В свет или тень...
вперед!
Куда глаза…
В жизнь!.. В человечье месиво,
Где потрудней еще живет народ,
А весел все же,
головы не вешая.
Беги,
веселой злобой обуян,
Ты
из домашнего угара прямо
От рюмок, утешений, окон, рам...
Так корабли
во время урагана
Спасаются
в открытый океан.
1961.
БЕГА
По ипподрому чешут лошади,
Стучат копыта о планету.
Толпа, кого тут только нету!
Фарцовщики, пропойцы дошлые,
Девицы, города обглодыши.
Дельцы.
И токари по хлебу.
Заезды новые, колясками...
От будущих потерь потея,
Вставные челюсти залязгали,
Студни зрачков ожестенели.
Над гаревой дорожкой – вой,
Вопеж
вслед скачке
вихревой!
Прут первые! Храпя. И глядя
Перед собой, выкатив бельма.
Во, жеребцы!..
А кто-то
сзади,
Один, трусит себе отдельно.
На всадника на сивке маленькой
Не смотрят, интереса нет.
Лишь малолетние карманники
Ему улюлюкают вослед.
Куда ему, от всех отстал!
Конь стар? Или наездник сдал?
Забыты кличка и даже номер.
Но кто-то из судей, присев,
На время его глянул, обмер:
Да он же
обогнал их всех!
Пусть лупит публика ладошами,
Приняв за чистую монету,
Как фаворитно чешут лошади.
Стучат копыта о планету.
И лишь насмешливость во взгляде
Жокея, что в конце пути.
Он потому и скачет
сзади,
Что на два круга
впереди.
1964.
ФЛАМИНГО
Вот на снегу стоят фламинго,
В снегу – и розовые фламинго?
Они так нереальны в этот час,
Где снежность лишь, кристаллами лучась
Вокруг. И птицы странные... Откуда?
Где только льда голодная простуда,
Где лишь пороши синее пшено
На зимнем озере Кургальджино.
В сугробах неподвижно, одиноко.
Поочередно одну из двух
Бамбуковую поджимая ногу,
Чтобы согреть, наверно, о свой пух,
И начинается вдруг завируха,
Та, за Уральском, за морем Аральским,
Гулким оранием... но тихо, глухо...
Пока лишь вскуриваясь по овражкам.
Метели назреванье – в зимней темени —
А как накроет, и конец, в момент.
Ну почему они не улетели?
Кто объяснит мне этот феномен?
Фенолог, смолкни, скептик, не ликуй...
Я видел сам, из кузова, замерзнув:
Стоят фламинго босиком в снегу,
Не улетают в беловатый воздух.
Пронзительно, торжественно, прекрасно,
Причудливые, розовые, сон!
Вот взмоют, кажется, спугнуть их страшно!
И с звоном в прах
рассыплются
стеклом.
Я после понял: не успели, п о з д н о,
Пурга настигнет все равно в пути.
Инстинкт сказал: уж лучше сон морозный...
Или надменность их, а не инстинкт?
Так надо гибнуть,
важно и отважно!
Степь. Все завьюжено, окружено...
В снегу фламинго, позы их как вазы
На скудном озере Кургальджино.
Казахстан, 1967.
ПОСЛЕДНЯЯ ГОЛОВНЯ
Тусклее все клоки огня.
Костер мой ночной догорает.
Одна – все еще сияет
В седой паволоке,
синя,
Последняя головня!
Горит, все еще горит!
По ней пробегают искры,
Как пальцы у кларнетиста.
О этот огнистый
неистовый,
Предсмертный ритм!
И сонно впадая в транс,
Клонюсь, колени обхватывая,
Как будто в бездну заглядывая.
Пой мне,
головешка гранатовая,
Свой погасанья романс.
Вдруг дунуло резко, с рек
С небывалой силою!
И искры взвились, трассируя,
И вновь
неугасимое
Прянуло пламя вверх.
И руки свои простер
В небеса костер.
Все вспышкой
овеяв
своею...
Я верю ему! Я верю!
февр. 1985.
ПРОМЕЛЬК
Пустынно побережье, мель в янтариках.
Вдруг, на момент, пунктирна и легка,
Над морем понеслась птичья стайка,
Как будто иероглифов строка.
Так незаметно и так рассеянно,
Где голубая выпуклая высь...
И пронеслась так быстро и бесцельно,
Как неба подсознательная мысль.
Как четкий титр, на экране вечном.
Она о чем? Кто может прочитать?
Вот пронеслась, так стройно и беспечно...
И в необъятность канула опять,
Над морем, над полупустынным пляжем...
Уж не таит ли, грозя бедой,
Весть о земном существованьи нашем
Промельк – той клинописи – над водой? —
1987.
ПОСЛЕДНЕЕ СОЛНЦЕ
Последнее солнце, вечер,
Блеск его так нестерпим!
Я грею спину и плечи,
Не в силах расстаться с ним.
Всю рощу алое зарево
Пронзило клинками лучей.
Чем меньше в небе огня его,
Тем греет оно горячей.
Как яростна лава заката
В кусках, в языках огня!
Прощай, моя рощица, надо
Расстаться, подняться с пня.
Последнее солнце, вон оно
За горизонтом, тоска...
А так горячо и ознобно
Ласкает! Ведь ночь близка.
1980.
ВОЗРАСТ
Я перебежчик! Я тот ходок,
Что дует в даль, вздыхая часто.
Перебежал я рубеж годов:
Ведь каждый возраст – иное царство.
Как за спиной оставляют запад,
Вкрался я в пожилых заповедник.
А еще лет с десяток назад
Я жил в государстве тридцатилетних.
Глядел оттуда (помню чувство)
В страну – которым сверх сорока.
Она казалась мне вовсе чуждой,
Безмерно от меня далека!
Страна каких-то скучных, ветхих...
Такой, казалась, небось, и им —
Сорокалетникам тем чужим —
Страна пятидесятилетних?
А я все тот же! Я ни на миг
Не присмирел, не обмяк бесстрастно.
Я поезд, мчащийся напрямик
Сквозь разных возрастов государства.
Лишь бы он ехал – чуть-чуть потише,
Чтобы я видел, как сосны дышат,
Крыши, где стаями, к высоте,
Стоят фламинго антенных Т,
А полем солнечным – полз бы сонно,
И ждал, и простаивал, все смирней,
На полустанках летних сезонов,
У семафоров чудесных дней.
Чтоб надышался я в просторах этих!
В полях, где столько цветов кругом!
(Нарвать, пока стоит вагон!)
Чтоб не мелькали десятилетья,
Как Бельгия, за перегон.
1967.
ГОРЫ
Царство гор: я никогда такой
Не видал еще гигантской ломки!
Складки гор: это в рапидной съемке
Схватка
рукопашная
веков.
Вскиды гор: космические знаки?
Скал атака, скачка вдалеке...
Горы: волны замерли на взмахе,
Горы —
это море
в столбняке.
Взрыв под облака, фонтан планетный
По бегущим босиком богам.
Горы: вдруг
заела
кинолента,
Где показывался ураган.
Скулы скал, и кулаки, подковы...
А если окинуть с облаков?
Вам понятно, что такое горы?
Каменная
паника
веков.
1964.
ЛЕЖАЩАЯ ЖЕНЩИНА
ЛЕЖАЩАЯ ЖЕНЩИНА
Ваятелю Васильеву
Женщина, когда лежит,
Становится намного лучше:
Юнеет ее внешний вид
И ее линии... певучее...
Ведь скрыто, что она скучна,
Вальяжною волною тела.
Когда она лежит, она
Выигрывает, королева!
Нескладная, мешок мешком,
И то приближена к мадонне,
Когда она лежит ничком,
Закинув за голову ладони.
И даже тощая метла,
Иль слишком толстая, саженная,
Становится, когда легла,
Возвышенна и совершенна!
Везде – когда лежит пластом —
Магически преобразится:
Нагая на берегу пустом
Или на сене в юбке ситцевой.
Как речке, вспыхивая, бежать,
Как полю опушаться в снежное,
Так женщине идет лежать,
Раскидывающейся, разнеженной.
Так в чем секрет... В иллюзии лишь?
В ракурсе?
Все равно, божественна,
Божественна, когда лежишь,
Пластика линий твоих, женщина.
1968.
В ПУТИ
Нас платформа уносит в ночь.
Бабы-вдовы, солдатки – вповалку.
Вот и я курсирую вновь
В госпитальной шинелишке жалкой.
Вот прижат теснотой – к одной, —
По-крестьянски суровой, крепкой.
В тьме лишь губ ее грубая лепка,
Да и то отвернулась спиной.
Рвусь, хочу, так весь сгоряча
Растворился бы в ней, свирепо..:
А платформа, в грохоте мча,
Словно взносится в звездное небо;
Не как синий, к земле, звездопад,
Не петрарковый зов – к Лауре,
К ней – родной, посторонней, дуре
Жадной силой впотьмах прижат.
Тетки спят, в головах сидора!
Ночь летит громогласно, грозно.
Вон трассируют звезды, космос...
Так и я вдруг сгорю до тла!
Мчим над бездной. Мост бездонно
Проорет!.. А она, клубком,
Длинноногой топорной мадонной
Спит, укутав лицо платком.
Вся война и вся высь, светясь,
Обступают... А она, лежа,
Мчит, от мира отворотясь:
От детей, от потерь, от бомбежек.
Отстраняясь – ночной покой —
От всех бед, от побед, объятий.
И сама, пожалев, «солдатик!»,
Обнимает вдруг жесткой рукой.
1944, 71.
РАДИСТКА
Она поступала, наверное, мудро.
Ночью
за аэродромную гладь
Ходила гулять.
Приходила под утро.
И было ей на мое запрещенье плевать.
Радистка! В уме ее тайные коды.
А в памяти школа, последний вальс...
Мы ждали приказа.
Ждали
погоды.
И даже спали не раздеваясь.
Как вызвездило!
Значит, вылет близко.
Уходит
в обнимку с любимым
радистка,
Накинув на плечи его пиджак.
Земляк ее? Встретила кого-то?
Десантницы до рассвета нет...
Влюбилась она
за два дня
до отлета,
Впервые
в свои девятнадцать лет,
Как будто предчувствуя,
что больше нет ей
Счастья, что упадешь – не встать,
Как будто стараясь
в денек
последний
Свое —
за целую жизнь —
наверстать!..
Является шалая, росой унизана,
В глазах так и плещется счастья жар.
Но, полон
мальчишеского
аскетизма,
Я этих прогулок
ей не прощал.
Когда мы – прыгнули,
когда нас – предали,
Когда – не выскользнешь из кольца,
Она – в лесу, во тьме неведомой,
Одна —
отстреливалась до конца!
Когда закричали,
когда застрочили,
Уже в лицо ей картаво сипя,
Она, как в спецшколе ее учили,
Пулю
В рацию,
Пулю —
В себя.
...Плывут облака, исчезая в безбрежность.
Плывут и года, уже далеки.
И спать не дает мне
горькая
нежность...
И где-то живут ее старики...
И те запрещенья сейчас отвергая.
Мне хочется крикнуть, года превозмочь:
– В обнимку пойди,
доброди,
дорогая,
Ступай,
догуляй свою первую ночь!
1955.
СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
Работал врач, и все казалось адом.
Я не кричал, хоть боль была остра.
Я сдерживался,
Потому что рядом
Стояла
милосердия сестра.
Я за руки ее держал... Я стискивал
Их судорожно. И лежал, терпя,
Как будто в ней
Спасение отыскивал...
Она была похожа на тебя.
Такая хрупкая, смотрела строго.
И снова обретал я разум свой,
И боль моя
Ей уходила в руки —
Так в землю ток уходит грозовой.
И, тоненькая, ночи две не спавшая,
Вся в белом, вся безоблачно светла,
Таинственная,
Нежная,
Уставшая,
Стояла милосердия сестра.
А ты теперь придирчиво и гневно
Ругнешь порой за трудное житье,
И хочется мне
В жизни ежедневной,
Чтоб ты была похожа на нее.
1952.
ЭТОЙ НОЧЬЮ
Этой ночью – было в звездном мире
Тихо, будто бы в кино.
Этой ночью
тучи подходили
Босяком под самое окно.
И всю ночь прохлады не давала
Терпкая степная тьма и дичь.
Дерево
на цыпочки
вставало,
Чтобы от луны загородить.
Билась бабочка об стену,
Рикошетом, застя свет...
Было двое в комнате их, было
Не до бабочек им и комет.
Было небо– в самой звездной силе!
А в случайной комнате слепой
Чьи-то руки
все огни гасили.
Все мосты
сжигая за собой.
1955.
КОСТЕР
Здесь ночи нету,
а сутки долги,
Тоска такая над сонью всей!....
Ты там, в сосновом лесу
на Волге;
А я – в сосновом,
где Енисей.
Заря развеет седые космы,
Круги расходятся по воде.
Одни и те же
над нами
сосны,
А, может быть,
не одни и те...
В поселке псы разлеглись по-хански
Плашмя валяются – в мохнатом сне.
Здесь неба нету,
здесь, в Туруханске,
Бело и немо,
как на луне.
И всех, кто бродит, кто спать не может,
Кого пошатывает маята,
Одна и та же
хвороба гложет,
А, может быть,
не одна и та...
И лишь Тунгуска, светясь и празднуя,
Вся в енисейский течет простор.
И как мечта о любви напрасная,
Горит на отмели,
Горит
Костер...
КАФЕ
Дай-ка чокнемся!
По традиции вечной.
Ну-ка чокнемся!..
За что?
А за то,
Что – ах, хорошо
без смятений
сердечных
И что порознь повешены наши пальто.
Ты пришла ставить точку...
Пили мы, толковали,
Ликовали – с тобой – не раз
в этом зале.
Где плафоны расписаны так хорошо:
Гуси-лебеди
картинно летят
потолками...
Чтоб на кухне зарезал их повар ножом?
Расстаемся...
И только одно мне известно.
Что замены не будет,
никакая любвишка...
Так в автобусе освобождается место,
А никто не садится: конечная близко.
Выпьем!
За – не любовь.
За прощальную нашу прогулку.
За – нигде.
Никогда.
За короткое «нет».
За пустующую телефонную будку!
За ненадобность двухгрошовых монет.
А на улице дождь,
Там и смутно и сыро.
Ну, поднимем!
Мы уйдем сейчас в марево то.
Две дороги у нас. Два отдельные мира.
Два мирка...
Два номерка от пальто.
1956.
ВО ВЬЮГЕ
Ты хохочешь... Ты все хохочешь,
Кто-то снял тебя в полный рост.
Хороводишься,
с кем захочешь,
За пять тысяч отсюда верст.
Обмороженный и простуженный,
Я под стеганкой все таю
Тело нежное,
фото южное,
Полуголую красу твою.
С Индигирки и до Тунгуски,
Белой шкурой во тьме шевеля,
Вьюги стелются по-пластунски
И набрасываются на лагеря.
Ну и стужа, немеют руки,
В двух шагах не видать ни зги.
Но жарчей, чем тебе на юге,
Мне от ревности и тоски.
Только белой метели клочья,
Ветер режет лицо до слез.
А ты хохочешь,
ты все хохочешь,
Совсем раздетая в такой мороз.
ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ
Вся в рыцарских звездах ночь за окном.
Торопишься вновь? Вырываешься вон?
Давая лишь право мне, так и быть,
К ночному трамваю тебя проводить.
Как царская прихоть, твоя краса.
Наотмашь летишь, смела, хороша,
С снежинками в лад – вся трепет, полет!
Насмешливой нежностью дразнится рот.
Как к белому полю кромешной мги
Идет твоя легкость, разлет, шаги!
Как вписана в ночь, в сверкания сонм,
А мне семенить за тобой гусем.
– Постой, не спеши! Переулки пусты.
– Целуй! Ну скорее же!.. – Ай! Пусти!
Я наспех вопьюсь, при всех фонарях.
Как колется мех, как щеки горят!
Но вот громыхнул последний трамвай.
– Пока!.. – И ладошкой махнув: – Бывай!..
И твой, в окне, улетающий взгляд
Забрав как подарок, иду я назад.
В блаженном хмелю, снеговой целиной,
И звезды, как кошки, следят за мной.
Зелеными точками, в тьме светил,
Чтобы я под колеса не угодил.
Прощай, недотрога... Не забывай!
Пускай тебе снится последний трамвай.
1979.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я пришел к тебе!.. Нет светлей
Серых глаз твоих, твоего лица!
Так с разведки, едва уцелев,
В тайный старый свой бункер вваливаются.
Твоей шеи белее, и плеч,
И ладоней в прохладе лавандной...
Дай же мне покаянно лечь
В эту нежность башкою неладной!
Ты мне свыше дарована, ты!
В злобной копоти, чирьях, ранах
Душу нес, как несут цветы,
Без оберток еще целлофановых.
Я ведь отроду призван – чтоб
Путь разведывать – первым, ранним.
Положи мне ладонь на лоб,
Когда еле приплелся, ранен.
АДРЕСАТКА
Я хочу, чтобы ты приехала.
Из какого-то глухого, кривого там Рога, Таганрога, Острога.
Что там письма! Все равно что стократное эхо:
Эхо эха, два зеркала, тень от тени. Морока!
Чтобы вмиг мне примчаться в гостиницу!
И пропасть. И сорвать с тебя платье, в объятье, рывками,
Всю схватить... и пусть тянется, красным смещением ширится
Миг любви, миг последних, по Пушкину, ты ведь любишь его, содроганий.
Чтоб губам было больно.
Хватит с нас этой почты, листов, излияния чувств.
Иль мы крысы бумажные страсти чернильной, волокиты любовной?
Я бесстыдно хочу обойтись с тобой так, как хочу!
Не дождусь, не снесу.
Чтоб немедля, скорее, смелее, все смели мы!
Чтоб упала, назад за подушку забросив косу,
Лишь конца ее хлыстик плясал бы, а чулки на полу спали змеями.
Не послание – стих,
А стихи – это грезы богов, а не всякая там байка бойкая,
Грежу я – чтоб воочью, на ощупь, вплотную, впритир:
А не то—ни строки тебе более, адресатка далекая.
ЧЕРНЫЙ ПРИЛИВ
(ПАМЯТИ ЛЮДЫ)
НАПОМИНАНИЕ
Когда в соседнем доме
вор стащит вещь,
Мы начинаем тоже
добро стеречь.
Так что ж мы забываем
о ней,
что каждый день
Обходит дом за домом
и крадет
людей!
ПЛАМЯ
Что же теперь?.. Понемногу тлеть?
Как дистрофик пленный
к хлебу тянется,
Как нутром спаленным
к водке пьяница,
Как солдат с окопов
к бабе рвется,
К гибели я рвусь! не быть! сгореть!
Ты отмучилась... боль затая,
Отсияла, как осенний лучик,
Хоть была всех белоснежней, лучше,
Не спасла тебя земля твоя!
И на Красной площади любви к тебе.
Памяти,
моей
к тебе – любви —
Сам сожгусь, затрепетав, не вытерпев,
Пламенем себя обвив!
«Нет!» – любой обслуге и округе
Всяких мудрецов, певцов, толпе тупой.
Оболью себя бензином муки
И раскаяния перед тобой...
1977.
НАВЕЧНО
Открою шкаф – как все поникли платья!
Выдвину ящик – слезы бус ее, камней.
А рукопись... пришли прощаться, плача,
Стихи толпою – о ней, о ней!
И слов-то нет!.. Я полон горем, жалостью.
Так в поле воет вьюга, темнота.
Все – сберегу или раздам, – пожалуйста!
Но с этой ношей буду навсегда.
Наряды, редкости – родным и детям.
А боль свою, страданье – никому.
Не подарить, не поделиться этим!
И нежность к ней хранить мне одному.
1977.
РОЯЛЬ
Это не роща, это не рощи черный обрез,
Это не роща, что вписана в поле неровным овалом,
Это – огромный рояль под навесом небес
С лиственным плеском мгновенной игры небывалой!
Это сентябрь Софроницкий – взахлеб, наразрыв, дотла,
В клавишах веток неистов, в листве серебристой...
Это же, боже мой, ее же, ее же игра,
Людины пальцы проносятся вьюгой искристой!
Это не роща, это не роща, не роща – рояль,
Не ветер, не ветер, а скрябинский взлет и прорыв
В недра галактик, в такую лазурную ярь!
В еще не явную вам гениальность игры.
И то не небо, не нимб, а золотое кольцо
Кос ее светится, и в белом мареве дня
То ее облик, ее все в сияньи лицо
Близится, реет, жалеет, сжигает меня!
То ее светом сияют любые края
С облака, что клубится над головой...
Это не солнце – лицо! Это не роща – рояль!
Это сентябрь Софроницкий разрывает мне сердце игрой!
окт. 1977.








